
Вид пустых деревень заброшенных
Автор:
Владимир Гоммерштадт
Отдел (рубрика, жанр):
Гражданская лирика
Дата и время публикации:
10.03.2008, 01:26:20
Сертификат Поэзия.ру: серия
1016
№
59907



Вид пустых деревень заброшенных:
ни дымка над печной трубой
изб… с судьбой родовою сросшихся,
комиссаристый предок мой!
Что-то тёплое, детски милое,
в шепоточках травы живой —
быль-печаль с покаянной силою
пригибает к земле сырой.
Далеко — над твоею могилою
с потускневшей давно звездой
колокольные звоны унылые —
всё долдонят про вечный покой.
Ну а здесь — дальней молнии прочерки,
тишь убитой деревни пустой,
вдаль шагают подросточки-сосенки…
Здесь земля — что живёт сиротой!
Здесь платили слезой неразменною —
не помочь ни тебе, ни себе:
вековая обида за стенами —
в проклинавшей, рыдавшей избе.
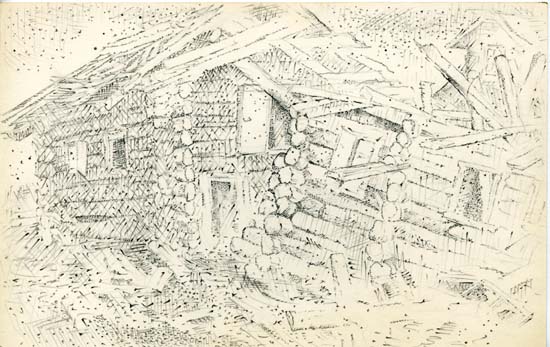
Моя тётя — "старая большевичка" Лия Давыдовна Котенко, жена "героя гражданской войны" Василия Дмитриевича Котенко, расстрелянного белогвардейцами, (подпольная кличка Нюта так и осталась при ней на всю жизнь — старшая сестра многодетнейшего семейства, гордость всей семьи: ей довелось работать с Марией Ильиничной Ульяновой, с Землячкой — для всех близких: тётя Нюта) обмолвилась однажды в разговоре (при мне, ещё ребёнке в ту пору), что во времена продразвёрстки её едва не зарубила топором беременная баба…
В возрасте припозднившейся юности мне довелось пожить в брошенных деревнях северо-запада, в домах — покупавшихся тогда за такие деньги, что правильней было бы сказать: подаренных судьбой — интеллигентствующими москвичами и "питерщиками", с несколько искусственным оживлением озабоченных, реалиями отношений с Китаем. В ближних деревнях проживало исконно-местных жителей по одному, два-три, много — шесть человек, открытых общению с "реаниматорами сельской жизни", радовавшихся, что деревни, из которых и сами некоторые были родом, не то чтобы оживают — веселеют…
Как-то, выслушав рассказ о том, как вывозили чуть ли не полностью раскулаченную деревню, где мы с приятелем обосновались в добротном двухэтажном доме (внизу лабаз) из таких огромных брёвен, что под силу лишь богатырям — с крытым двором и зимней избой впридачу, я сказал в двух-трёх словах об эпизоде с тётей.
Лицо пожилой женщины… с ним что-то происходило такое, что… абсолютное безмолвие зависло над нами. Я поспешил уйти, едва не забыв купленное молоко.
Недели через полторы, в самый канун Пасхи, отправился за молоком в другую деревню, а вернувшись обнаружил по снегу лыжной палкою, нет, скорее всё-таки рукой написанное: "С Праздником!", а в незапертом, по местным канонам, доме — кулич и хлеб домашней выпечки, яйца и уж не помню ещё какую праздничную снедь. Это муж той обезмолвившей женщины — гостинец принёс — пройдя на лыжах два километра сюда и столько же обратно, дважды перейдя, всё ещё не вскрывшуюся, широкую межъозёрную реку Свидь.
Возможно что, вспоминание той Пасхи, надиктовало завершающее четверостишие другого стихотворения:
Лампада под иконой не горит,
но что-то осторожно сердце греет…
окно избы в лицо тебе глядит:
благословляет, любит, и жалеет!
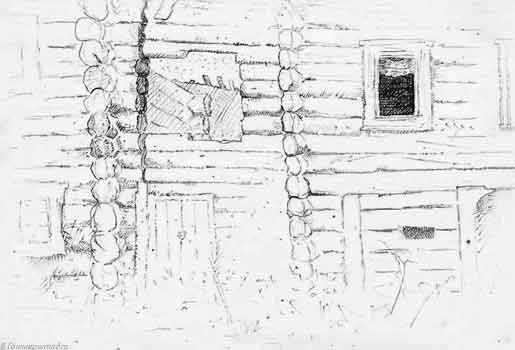
моя акварелька
* исходный вариант стиха и сохранённые комментарии
Владимир Гоммерштадт,
2008
Сертификат Поэзия.ру: серия
1016
№
59907
от
10.03.2008
1 |
3 |
3201 |
26.02.2026. 00:44:19
Произведение оценили (+):
["Геннадий Куртик"]
Произведение оценили (-):
[]
Автор
Геннадий Куртик
Дата и время:
24.11.2016, 11:54:54
Давно знаю это твое стихотворение и очень его люблю. Рисунки ему вполне соответствуют. Перекличка полная и очень глубокая, родство и стилистическое и душевное. Немножко мешает цвет, но это уже совсем придирка.
Автор
Владимир Гоммерштадт
Дата и время:
24.11.2016, 17:46:53
Можно, конечно же, попробовать, извиняюсь, "высерить", но здесь многие цвета близки по тональности, боюсь что получится маловразумительная серость.
С цветом у меня тýта вот прóблем:
(это ссылка)
по смыслу стиха картинка должна быть бесцветной,
но обесцветить Ван Вэя рука не поднимается…
)
(исходный вариант стиха)
Вид пустых деревень заброшенных —
ни дымка над печной трубой —
здесь являюсь (с тобою сросшимся,
комиссаристый предок мой).
Что-то тёплое, детски милое,
в шепоточках травы живой.
Боль-печаль с покаянной силою
пригибает к земле сырой.
Далеко, над твоею могилою,
с потускневшей давно звездой,
колокольные звоны унылые
всё долдонят про вечный покой.
Ну, а здесь — дальней молнии прочерки,
тишь убитой деревни пустой,
вдаль шагают подросточки-сосенки
по полям, по забытым тобой…
Что ж мы с памятью общею сделали!
Чем помочь мне — тебе и себе?
Это наша вина. Доболела ли —
в, нас с тобой проклинавшей, избе.
акварелька