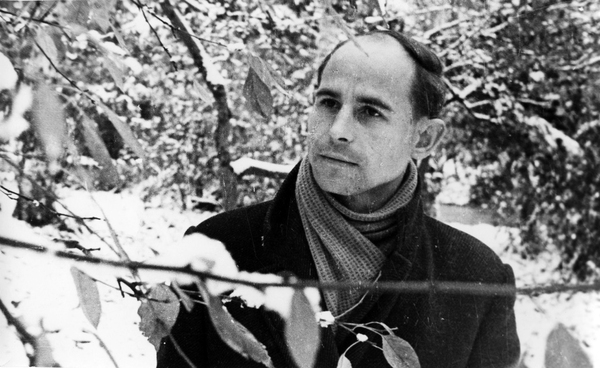«Жгучая тайна». Николай Васильев
Сказочное, таинственное, фантастическое и даже
мистическое населяет поэтический мир Рубцова. Проявления их можно обобщить
рубцовским же – «жгучая тайна». И, как любую тайну, он не стал её определять,
укрепив неопределённым местоимением: «какая-то».
Таинственное – одна из магических,
притягательных сторон его поэзии. А может быть, в присутствии тайны, её
неповторимого аромата и есть главная черта поэтического мира Николая Рубцова. В
этом легко убедиться, пролистав с десятка полтора страничек томика «Подорожники».
Рубцов обладал даром простыми
словами обозначить эту щемящую, бередящую душу читателя тайну. Недаром же
Александр Михайлов, известнейший литературовед, критик, назвал свою статью о
стихотворении «Тихая моя родина» так: «Магия простых слов». Магия!
А что уж говорить про стихотворения со
словами-звёздами, прямо намекающими на эту самую магию: таинственный, сон,
видения и сновидения, тайна, неведомый, странный, глухое скаканье, сказочная
глушь, сон столетий…
Есть у поэта и стихотворения, от которых
веет мистическим ужасом: «Зимовье на хуторе», «Зимняя ночь», «Бессонница»…
Весь словесный колодец стихотворения «Я
буду скакать по холмам задремавшей отчизны» переливается явным и неявным
магическим звёздным веществом.
Тут отвлекусь и процитирую очень важное
(во всяком случае – для меня). Во вступительной статье к посмертному сборнику
поэта «Подорожники» составитель и автор предисловия вологодский поэт Виктор
Коротаев пишет: «Книгу «Подорожники» Н. Рубцов собирал сам, только до конца
довести начатое дело не успел: этому помешала преждевременная смерть. Завершили
работу его друзья». Я к тому, что мы можем абсолютно ручаться за достоверность
того, что уж начало-то книги выстроено самим Николаем Михайловичем.
Так вот: Рубцов совершенно не случайно
хотел открыть свою будущую книгу стихотворением «Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны…». Это, безусловно, поэтическая симфония с увертюрой,
лейтмотивами, кульминацией, потрясающим вершением её, со всеми необходимыми
форте и пиано. Поэтические волны магического как волшебные «тёмная энергия
и материя», скрепляющие мироздание, непрестанно омывают и стягивают
простое и доходчивое, в общем-то, лексическое вещество этого шедевра.
Взаимодействие простого и таинственного волнует нас и придаёт шедевру Рубцова
необъяснимую прелесть глубины. Что-то от Жуковского, но с совершенно русским
колоритом, чувствую я в нём.
Каким наитием Рубцов пустил по холмам
родины «таинственного всадника»! Уму непостижимо. Символизм скачки, равный
«Купанию красного коня» Петрова-Водкина, но всё-таки другой во многом, другой…
А вообще, сквозным образом многих стихотворений
Рубцова является конь или то, что связано так или иначе с ним. Все мы помним
«Деревенские ночи» с четырёхкратным явлением коня и «Мы сваливать не вправе…»,
полностью развёрнутого по аналогии с ездой на коне. Кстати, именно эти
произведения открывают и завершают некоторые поэтические книжки поэта.
Обнаруживаешь (даже при беглом чтении),
что конь, узда, повода, лошадь, всадник, тройка, бубенцы и т.д. теснятся-таки в
его лирике. Причём, каждое из вышеприведённых слов знаменует у поэта некую
микротему и своеобразный, присущий только этому слову, характер чувствования…
Больше тридцати (!) стихотворений с
«расхлябанными следами», «тележной цыганской семьёй», всадниками, пением саней,
кнутом, упряжкой, «скрипом телег», «тележным колесом»!..
Но мощную, притягательную,
таинственную глубину несут в себе всадники именно трёх стихотворений:
«Листья осенние», «Видение на холме» и – особенно! – «Я буду скакать…».
«Мне всегда казалось, что здесь авторское
переосмысление лермонтовского "просёлочным путем люблю скакать в телеге...
". Как Вам такая версия?
Я как историк, со своей колокольни... Ведь во времена
Лермонтова русских народов в России, по сути, было ДВА: просвещенное
дворянство, к которому принадлежал и сей поручик Тенгинского пехотного полка
Лермонтов, и безмерная толща простого люда. Это два народа очень плохо
пересекались и слабо понимали друг друга. А вот смог аристократ-дворянин,
потомок шотландского короля, ТАК написать, что через 150 лет Рубцову было что
переосмысливать», – написали мне в ответ на написанное выше «Жгучая тайна».
Задумался…
Лермонтов только-только открывает для себя и
других Русь простых людей. Сердечную, не головную, привязанность к ней называет
«странной». По этому поводу я однажды написал: «Чувство любви к России народной
ощущается им столь неведомым для «многих», столь новым, что, возможно, он видит
бессмысленность в попытке делиться «странной любовью» к родине с кем бы то ни
было».
«Россия! Как странно! Как странно поникли и
грустно //Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!», – восклицает Рубцов. И эта
странность вызвана у него видением исчезновения сельского мира. Мира простых
людей. Да и не видение это, пожалуй, а реальные приметы такой утраты. Таких
горьких примет достаточно рассыпано в его лирике. И здесь: порушенные храмы,
догнивающая на мели лодка, израненный десантник, померкшая звёздная люстра,
безвестные ивы – определяют разорённое русское бытие. Утрата деревенской Руси для
поэта сродни утрате чудесного, тайного, необъяснимого, как и у Лермонтова, не
поддающегося логике… Конечно, приблизительно, но можно сказать, что
«таинственный всадник» Рубцова, его лирический герой переживает лермонтовскую
«отраду», но она горька, потому что он скачет «по следам миновавших времён».
Лермонтов открывает завесу «дрожащих огней печальных деревень», атмосферу
настоящего, неподдельного праздника селян, Рубцов, «неведомым
сыном», «неведомым отроком», не узнанным, не услышанным, вносит утраченное
чувство народного праздника: он мелькает мимо нас вместе с всадником щемящей,
пронзительной нотой. Оттого стихотворение «Я буду скакать…» читается как
странная и грустная память об уходящем мире, исчезающей крестьянской Атлантиде.
Чуть больше ста лет понадобилось, чтобы так горько разойтись в переосмыслении
«странной любви».
Вот это немыслие собственной судьбы без
судьбы «самого святого на земле» («Ферапонтово») рождает в «Я буду скакать…»
даже не заклинание – молитву:
Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..
Сила заклинания, переживания так велика,
так невместима в сердце одного человека, что следует… многоточие. Напряжение
стихотворения спадает. Но скорбная картина настоящего России не позволяет поэту
вернуться к патетике первых трёх строф, к их торжеству, и в заключительные две
строфы вплывает со «жгучей тайной» волнующий нас отрок на коне.
Скрылся в туман полей рубцовский всадник,
а нас обожгла, не оставила равнодушными острая боль поэта за Россию, тронуло
обращение его к русскому человеку оставаться верным возвышающей его
«таинственной силе», заклинание вечно воспринимать жизнь как божественное чудо,
не предаваться мёртвому практицизму – жизни «без грусти», без «дивного
счастья», без «сказки».
А Лермонтов… А Лермонтов скачет навстречу
им ещё… Вне личной биографии. Внелично.
Сама фамилия – Рубцов – отзывает нас к словам
рубец, рана, изрубцованный… И тема врачевания души, возможно, одна из самых
глубинных тем его лирики. В последнее время всё чаще встречаю в размышлениях об
изрубцованности его жизни, судьбы осудительные нотки: не пил бы, не
занимал, устраивал бы свою жизнь, работал бы, к семье пристал… Я слушаю, внемлю
и не внемлю, и обдаюсь радостно другим: как нет совсем в его поэзии зла,
отчуждения, закрытости, перенесения вины на мир. Не говорю о молодецкой
браваде, когда в его стишке мелькает «ножичек», «финка»… То, да не то! Во всей
его зрелой лирике не найти озлобления, ненависти. Есть «тупая бабка» и
«всезнающая ветхая старуха», кто-то «злой от обиды и ревности» (не поэт же!),
раздражает «глухой разговор о хлебе, о ценах…»… Но и поделом им – и разжиревшей
молодости, и злым сплетням, и навязчивой старухе, и «тупым» приговорам!
Господи, сколько причин «полоснуть ножичком» было у поэта не на шутку. Когда
читал «Воспоминания» Л. Дербиной, то ловил себя на мысли, что самые странные
поступки поэта, рассказанные автором, как раз высвечивают его неиспорченность,
доверие к миру и людям, наивность и простодушие, незнание азбучного,
прописного, что другим дается с семьёй, отцом и матерью, сёстрами и братьями,
крышей над головой… Мне, сироте, тоже отчасти знакомо пережитое Колей Рубцовым,
Николаем Рубцовым. Я ведь нахожу «родимые пятна» в своём сиротстве. Но мне
повезло с сестрой и её мужем, пригревшими меня, усыновившими. Но мне есть что
проецировать от смягчённого сиротства на пожизненное сиротство и бездомье
Рубцова! Есть…
Совсем не буду занимать вас банальным: что и
почему нужно было врачевать поэту – достаточно об этом написано. Но всё это
«банальное» определяет качающийся в его стихотворениях маятник покоя-непокоя,
насквозь пронизывающая его лирику бинарность – оппозиционная раздвоенность.
Ничего вроде нового, если бы речь не шла о почти повсеместном противостоянии в
стихотворениях поэта того, что врачует душу, и того, что её возбуждает, лишает
покоя. А ведь в ней, в бинарности, один из главных секретов притягательности
его поэзии и относительной расшифровки её пленительной тайны.
Причём узнаваемые лейтмотивы его поэзии,
знаковые слова, определяющие душу его лирики, сосредоточены в «мрачной»
половинке этой оппозиции. В ненастные дни, часы и минуты души поэта.
Вчитываешься в хрестоматийное «Звезда полей» и не сразу открываешь зябкую,
леденящую сторону шедевра. Вздрагиваешь: среди какого всё-таки мороза,
неустроенности, нищеты, ненастья рождается звезда его поэзии!
И за моим окном сейчас «прозябанье, бедность,
дремота». Затянулась осень. Идут дожди. Но какая «тоска любви» накрывает мою
душу вслед его «было слышно, как воют над крышей ветер, ливень, труба,
провода…».
Рубцов – языковой фундаменталист: никаких практически побрякушек словесных мы у
него не находим. И в лирике своей он держится исключительно корневых слов:
вода, берег, земля, небо, хлеб, старик, родина, могила, ливень, древний,
красота… Редки и просты сравнения, неброски эпитеты, традиционны метафоры
(«купол небес»), олицетворения. То же касается и фигур речи, и поэтического
синтаксиса.
Вот и с «душой» он целомудрен, сдержан: не
играет он ни формой слова, ни разнообразием однокоренных слов. Лишь однажды
всплывает прилагательное «душевный» да несколько раз прорывается и утверждается
«воспрянувший дух». Крупно, многократно, но единственно: «Душа»! Почти
семьдесят раз в его сборнике «Подорожники». Вот такая душевная терапия…
С чем у нас связано понятие «душа»? С
возрождением и падением, с горением и тлением, одиночеством и соборностью,
светом и тьмой, памятью и беспамятством, смертью и бессмертием, чистотой и
замутнённостью, отзывчивостью и глухостью, щедростью и скупостью… Конечно, все
эти смыслы высвечиваются и в поэзии Рубцова. Важно – как. Какие акценты
расставляет поэт. Какое своеобразие вносит в традиционное понимание
излюбленного им слова.
Мне лично дорого душевное прозрение
поэтом «красоты былых времён». Красивейшую мелодию радостного соприкосновения с
прошлым мы переживаем во многих его стихотворениях. Сказочным сновидением
чудятся поэту лесные, озёрные, болотные дебри Севера. Рубцову дано было великое
умение, как сквозь «магический кристалл», прозревать прошлое. Почти
полное отсутствие исторических знаков совсем не означает скудость исторического
видения души поэта! Как в бурлящем колдовском котле, в поэтической медитации
Рубцова проступает древнее, тайное, сокрытое. Дымы опадают, и на поверхности
гипнотических строк являются нам всадники-богатыри, древнерусский городок,
пилигримы, «картины древнего раздора», заросший парк дворянской усадьбы, храмы,
истлевшие фотографии, звучат голоса минувших поколений… Поэт обладал
«душой, которая хранит всю красоту былых времён».
Здесь каждый славен –
мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто проходит…
Здесь русский дух в веках произошёл,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдёт через века!
Детской чистой радостью загоралась душа
поэта от «тайны древнейших строений и плит»:
И вместе с чувством древности земли
Такая радость на душе струится,
Как будто вновь поёт на поле жница,
И дни рекой зеркальной потекли…
Сказочная, мифическая река, за которой
читаются «кисельные берега». Вы согласны?
И как эта «скудость» погружает нас в прошлое тем
не менее!
Светлояры с китежами встают за
рубцовскими поэтическими погружениями в прошлое. Душа, как легендарное озеро,
отражает и навсегда запечатлевает «древний этот вид». «Вместе с чувством
древности земли» русской веет и святостью. Их явления преображают поэзию
Николая Рубцова, придавая ей лёгкое, небесное – то, что сродни полёту свободных
птиц. Это Душа его поэзии, та «центростремительная сила», которая являет нам
лучшее в нём и его творчестве.
Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Нечастые эти полёты, преображения золотом
святого праздника мерцают в поэзии Рубцова. Их не так много, оттого-то они так
дороги нам, так ласкают нашу душу, так ярко проступают сквозь «дни осенних
горестных дождей».
Как тут не вспомнить вслед за строчками Рубцова
«…когда душе моей земная веет святость…» знаменитейшее Лермонтова: «И в небесах
я вижу Бога!» Ни тени натянутости нет в таком великом сравнении: речь идёт об
одном и том же – обретении удивительной гармонии через чувство сопричастности
красоте родной земли, любви к ней, к её святыням. К её людям. Только через
такую любовь и обретается Бог.
И из поэтического «светлояра» Николая Рубцова
взрастают чудные цветы «Пушкина легендарного», выразившего «всю душу России»,
песни сказочного Кольцова, фрески Дионисия, «Гуляевская горка, где веселились
русские князья», холмы Отчизны – «божье в земной красоте», в её истории и в её
великих и простых людях: простом паромщике и Тютчеве, «грозном Иоанне» и
блаженном Филе, святом Ферапонте и мальчике, несущем за гробом матери
аленький цветок…
Так же нами дороги те редкие
воспоминания, в которых поведано о мгновениях, минутах, часах, когда покой
небес обнимал поэта и друзья видели его просветленным, воспрянувшим
духом!
«…в тот миг на песчаной косе острова он,
казавшийся одиноким на людях, был весь распахнут, растворён в окружающей
природе: в белых облаках, в солнечных бликах, в золотом кружении леса. Он
очутился наедине с природой. Наедине – значит, слитно. Он был уже как бы не он,
а рассеянный свет. Вот счастливый миг полного единения души с лесом, водой и
небом – со всем мирозданием!» И ещё не удержусь, чуть выше в воспоминаниях А.
Романова (такое важное здесь, для меня, для вас!): «Я, раздвигая последние
ветки, задержался: он стоял, раскинув руки и запрокинув лицо в небо, рубашка
пузырилась облачком. И в сухой фигуре, в скуластых чертах сквозила готовая к
взлёту лёгкость. Лишь огромный лоб утяжелял его, как бы пригнетая к
земле. Я понял: душа его в это миг пела высотой, синевой, солнцем. И замер в
шаге».
Как всё в этих бесподобных, полных любви
к поэту воспоминаниях связано с тем состоянием поэта, когда его душе «земная
веет святость»! «Рассеянный свет», «взлёт», «лёгкость»… Всё так.
И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под куполом светлых небес, –
вторит поэт зорким, сердечным запискам
друга, тоже поэта.
Освящение души красотой мира, любовью
рождает свет. Свет! Он неугасимо горит во мгле для одинокого путника, как
«добрая душа»; он, как свеча неугасимая, трепетно светится в его путнике-старике,
«с душою светлою, как луч!»; он освящает последние минуты умирающей старухи,
прижавшейся к родному человеку; тогда «надежды, скрытые в душе, светло восходят
в день цветущий», тогда «души не трогает беда…»
Врачевание души опирается в поэзии Н. Рубцова на два столпа: единение с
природой и на переживание древности, святости родной земли, её скрытой от
внешнего зрения истории, прозревание её. Кто-то добавит к ним обращение поэта к
детству, но это, скорее всего, не врачевание, а переживание утраты лучшего в
себе: «Славное время! Души моей лучшие годы». Вечная обетованная земля нашего
прошлого…
Общение с людьми, эти странные тайные вечери
Рубцова, как правило, не приносят облегчения страдающей душе, а лишь заостряют,
подчёркивают летучесть праздника: «Повеселились с грустными глазами…» или –
«…Каким-то грустным таинством на свете //У тёмных волн, в фонарном тусклом
свете // Пройдёт прощанье наше у реки».
Помните чуть выше: «И замер в шаге»? И
столь частое упоминание о молчании и одиночестве поэта среди людей, кого-то и
раздражающих? Романов, сам поэт, остро прочувствовал этот миг и… остановился.
Находясь с делегациями поэтов на Вологодчине, Рубцов тоже стремится к уединению
в созерцании красоты природы и исторических памятников (можно проследить на
фотографиях и редких видео).
«Живую душу» выражали стихии ветра и
осени, безлюдные дороги и «тайны древнейших строений и плит». Они возбуждали
волнение души, они же и врачевали до состояния успокоения, благодати, «светлого
покоя». Воистину Рубцов был очарованным странником родной земли! Стихия и
дорога истязают, мучат, но и – врачуют («Как облегчает, как мучит он!» - о
ветре). И врачующими оказываются не обязательно «светлый покой небес»,
«сельская каморка», Ферапонтово, но и порой вещи странные:
Ночеваю! Глухим покоем
Сумрак душу врачует мне.
Мы поражаемся иногда, каким аскетизмом
обстановки лечится душа поэта! Это, конечно, зябкий опыт человека дороги, пути.
Странника. Пилигрима. Аскетизм, вырастающий едва ли не до света, заражающего и
нас скудным немногим, что под рукой, что перед глазами, – этот аскетизм явлен
бескрайними русскими просторами, северными прежде всего. Великое спасибо поэту,
что он возвращает нам первозданные, отмытые смыслы и чувствования простых,
потерянных многими нами ощущений: печка, берёзовые поленья, огонь – «друг
поэзии нетленной», замёрзший зрак окна, древний шум сосен, рыданье журавлей,
краюха хлеба…
Да, вырастающий до света! Плоть
умаляется, а душе многое нужно:
Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Ещё горит во мгле снегов.
Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум…
Вот пронзительное, правдивое, искреннее
воспоминание Александры Ивановны Романовой, деревенской женщины, матери
Александра Романова. И какая же невыносимая грусть в нём…
«Только ты укатил в Вологду, а к вечеру,
смотрю, какой-то паренёк запостукивал в крыльцо. Кинулась открывать. Он
смутился, отступил на шаг. «Я к Саше, – поздоровался, – Рубцов я». Ведь я его
не видала, а только слыхала о нём от тебя, и то, думаю, догадалась бы, что это
он. Стоял на крыльце такой бесприютный, а в спину ему снег-то так и вьёт, так и
вьёт. Ну, скорей в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное, расстроился, конечно,
что не застал тебя. А я и говорю ему: «Так и ты, Коля, мне как сын. Вот,
надень-ко, с печи катанички да к самовару садись».
Глянула сбоку, а в глазах-то у него
скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться
по свету… И такая жалость накатила на меня, что присела на скамью, а привстать
не могу. Ведь и я в сиротстве росла да во вдовстве бедствую. Как его не
понять!.. А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы,
обогрелся чаем да едой и стал сказывать мне стихотворения.
Про детство своё, когда они ребятёнками
малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют. Про старушку, у которой ночевал.
Вот поди-ка как у меня. Про молчаливого пастушка, про журавлей и про церкви
наши Христовые, поруганные бесами… Я вспугнуть-то его боюсь: так добро его,
сердечного, слушать, а у самой в глазах слёзы, а поверх слёз – Богородица в
сиянье венца. Это обручальная моя икона… А Коля троеперстием своим так и
взмахивает над столом, будто крестит стихотворения… Теперь уж не забыть его…
Перед сном все карточки на стене
пересмотрел да и говорит: «Родство-то у вас какое большое!» Будто бы
позавидовал.
«Да, – говорю, – родство было большое, да
не ко времени. Извелось оно да разъехалось». «Везде беда», – только и услышала
в ответ.
Поутру он встал. Присел к печному огню да
попил чаю и заторопился в Воробьёво на автобус. Уж как просила подождать
горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошёл в сумерки. Глянула в
окошко – а он уже в белом поле покачивается. Божий человек…».
Это покачивание в белом поле, среди
распутицы, грязи, дождей, мороза, одиночества принесло русской поэзии десятки
потрясающих стихотворений, где душа человеческая скорбит, плачет и радуется
великому малому, что возвышает её.
Короткий день.
А вечер долгий.
И непременно перед сном
Весь ужас ночи за окном
Встает. Кладбищенские елки
Скрипят. Окно покрыто льдом.
Порой без мысли и без воли
Смотрю в оттаявший глазок
И вдруг очнусь – как дико в поле!
Как лес и грозен и высок!
Зачем же, как сторожевые,
На эти грозные леса
В упор глядят глаза живые,
Мои полночные глаза?
Зачем? Не знаю. Сердце стынет
В такую ночь. Но все равно
Мне хорошо в моей пустыне,
Не страшно мне, когда темно.
Я не один во всей вселенной.
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной –
В печи березовый огонь...
Вот он – путь от стынущего сердца до
святой поэзии!
Комментариев пока нет. Приглашаем Вас прокомментировать публикацию.