Сергей Шелковый
Cредь сугробных хлебов и медов....
Лепта солнца! - Хурмы, мандарина
по морозу кандинский мазок.
Жизнь не часто - лафа и малина,
но, бывает, взметнётся, - прыг-скок, -
пряным запахом кожицы, снятой
с нежной плоти колхидских плодов,
звёздным пиром над белою хатой
средь сугробных хлебов и медов.
Загляни же тогда на минуту
в тот овитый гирляндами мир,
где в душе - ни тревоги, ни смуты,
где упырь тебе - не командир,
где созвездий пророческих дуги
обещают сто лет впереди,
в искромётном
и дружеском круге...
Загляни, узнавая в испуге
каждый оклик подземной груди!
29.12.2021
Что-то цвело в этот месяц над нами...
* * *
В мае гремело, и пахли нарциссы
Вслед за грозою и пряно, и резко.
Ветер с тетрадей сдувал биссектрисы,
Влажный сквозняк развевал занавески.
Май взбеленялся и веял страстями,
Будто бы стеблями — прямо из сада...
Что-то цвело в этот месяц над нами,
Что называть и грешно, и не надо.
Я и теперь, убоясь суесловья,
Неабсолютным, неподлинным звуком
Не назову наши взоры любовью,
Солнце, и дождь, и фрамуги со стуком...
Не назову твоё давнее имя —
Истинней то, что летуче-воздушно.
Ливни стихали, а небо за ними
Радужно было и великодушно.
Парты-галеры, зрачок директрисы...
Наши крамольно сплетённые руки...
Белые, в зелени мокрой, нарциссы.
Свежесть грозы над соломой науки.
Плыл наследный дом сосновый...
Деревянные перила, деревянные террасы,
деревянные ступени грустным голосом поют,
ибо время все бездушней - год от года, час от часа -
перемалывает в пепел перепончатый уют.
И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,
плыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлен.
В летнем коконе веранды, в древесине говорящей
перламутровою жилкой трепетал легчайший сон.
Были в сетке переплета разноцветны ромбы стекол,
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...
Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щелкал?
Чья беседа по овалу вкруг столешницы текла?
Кто там в платье светло-синем загорелыми руками
над фамильною посудой рано утром ворожил?
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...
Я один на свете вижу те сосновые ступени.
На веранде - капли воска, брызги битого стекла...
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,
и записка поминанья одинока и бела...
Разреши в замирающий август тебя унести...
Разреши мне сегодня тебя унести на руках
к той прогретой поляне, где белого единорога
я увидел вчера и прочёл в его грустных глазах,
что тепла и светлыни осталось от лета немного.
Там и в эти последние дни продолжает цвести
над изгибом реки медонос, белозонтичный дягиль.
Разреши в замирающий август тебя унести,
мой улыбчивый, лёгкий, созвездья рифмующий ангел.
И потом в синей лодке,
в почти невесомом челне
мы на вёслах с тобой доплывём до заветного места,
где без слов, лишь движеньем ресниц
ты признаешься мне,
из каких облаков ты и чья на земле ты невеста...
2020
Подобно листьям падают вокруг...
* * *
Подобно листьям падают вокруг
друзья, ещё недавно молодые.
Оцепененье, оторопь, испуг.
И кроха-крестик на бессильной вые.
Как безнадёжен плоти грубый труд
перед весёлым времени пунктиром,
под невесомой лёгкостью минут,
владеющей и городом, и миром.
Игрун Эон сияет влагой глаз,
то синей, то на солнце изумрудной.
А старец Хронос дышит в лоб: "Атас!
Кончается твой подвиг многотрудный..."
И каждый светлый день уводит нас
в густую тень, в последнее нищанье.
А в небе -
лиц родных иконостас.
Играет ветра альт, без лишних фраз,
благую весть - три слова завещанья...
10.10.2021
Прошу Тебя, сыграй по-честному со мною...
Не слякотной зимой! Не грязными штрихами
гриппозной хрипоты, горячечного зла
зачёркивай меня! Всё, сущее меж нами,
продли ещё, прошу, до летнего тепла.
Швыряют Боинг вниз воздушных вихрей тигры,
и молит двести душ Тебя, Царя вещей...
Их точно не спасут ни из смартфона игры,
ни самовластный мозг, компьютерный Кощей.
Но может в некий миг микрон, ресницы малость,
в сочувствии Твоём явить безмерность сил.
Пропащий мир барыг давно не взять на жалость,
но Ты слезой добра полнеба осветил.
Не слякотной зимой! И не весной чумною,
где улицы пусты и страх пригнул дома...
Прошу Тебя,
сыграй по-честному со мною -
до ярко-синих вод, до золотого зноя,
до воскресенья душ над пагубой ума...
Сияют ангелы щенячьими глазами...
* * *
Нет, я не сторож временам, что здесь и там
нахрапом жадной суеты саднят мне душу.
И если верю, то - молчанью, не словам,
как и пристало не тинейджеру, но мужу.
Так много спама в этой странной "сэ ля ви",
кривых улыбок, экивоков лицемерных,
так мало глаз, ярко-зелёных от любви,
очей по-ангельски и по-собачьи верных!
Но всё ж - грызи меня, безбожный век, пили,
а семь свечей
я сберегу под образами.
Ведь над собачьей жизнью ссученной земли,
с крылами белыми, - в колючках и в пыли, -
сияют ангелы щенячьими глазами!
Нечто больше печали осенней ...
* * *
М.
Пахнет утренний чай имбирём,
бодро-резким, пронзительно-пряным.
Золотого настоя глотнём
вопреки оловянным туманам.
Пригубим, драгоценный мой друг,
корневого сакрального зелья,
сын и внук мой, любовь без разлук,
свет в окошке на склоне недели!
Как я жду каждый раз наших встреч,
уик-энда, двух дней воскресенья!
Где над миром сгущается смерч,
там двух наших ладоней сложенье
дарит нам молчаливо, без слов,
нечто больше печали осенней -
чашку чая,
соломенный кров
и над розой ноябрьских ветров
окликающих ангелов пенье...
Как будто впереди - века, века...
Был быстр и лёгок, словно африканец.
А что теперь, с годами на горбу? -
С одной лишь дамой впредь обещан танец...
С какой? - Стервятник знает, марабу,
да с плешью гриф, да сип белоголовый...
И песня "Чёрный ворон, я не твой..."
мурлычется в аранжировке новой:
"Я завтра - ваш! Но днесь я - свой, живой!"
Будь терпеливой, падальщиков стая.
И, геймеров новейших круговерть,
не прижимай ко мне волной вай-фая
партнёршу танго, тощую, как жердь.
Она придёт, сполна накрасив губы,
меня о дне и часе не спросив.
А я, добравшись до времён Ютуба,
храню мотив, похожий на наив,
чтоб на костьми гремящую фигуру
сквозь листопад глядеть издалека.
И в золотых смертей колоратуру
опять влюбляться с пылу, с жару, сдуру,
как будто впереди - века, века...
21.09.2019
А ты, зеленоокое сиянье...
день гибели неповторимого поэта Марины Цветаевой.
День гибели огромного плодоносного лета,
яркого и сильного человеческого мира,
которому, вослед воскресению,
предназначена жизнь иная -
всечеловеческая и, можно думать, неограниченная во времени.
* * *
Марина пишет Райнеру Марии.
Любовь и смерть разносят эти письма –
две вечные служительницы почты:
любовь – за полглотка хмельного счастья,
а смерть, карга кривая,
лишь за то,
чтоб дверь ей отворили поскорее…
Марина пишет Райнеру и ныне,
когда давно уже их нет обоих,
когда в плаще плюща,
в швейцарском замке,
певец-пражанин Рильке опочил…
А ты, зеленоокое сиянье,
морская и вселенская Марина!
Ты, чудо и пульсар любви и звука,
удавлена
на ржавом вседержавном,
на вырванном из двух тысячелетий,
на выломанном из Креста,
гвозде…
Расколдовано, вознесено...
* * *
Августовский сгущается зной,
и текучий огонь "Изабеллы"
вдоль гортани горячей волной
проникает и в душу, и в тело.
Цезарь пьян, и, похоже, стихи
любят бодрый напор возлиянья.
Святость солнца и мира грехи -
свет единый в багряном стакане!
Как причастье, по капле беру
на язык крепко-терпкую влагу.
Пью за жизни большую игру,
за любовь её, риск и отвагу.
За всё то,
чему быть суждено,
за невольничьи зимние сроки,
чтоб в бродильном апреле зерно, -
расколдовано, вознесено, -
стеблем брызнуло ввысь у дороги.
В день Пречистой Казанской иконы...
отмечены ещё и Праздником обретения иконы
Казанской Божьей Матери. Чту свою защитницу.
И входя в любой храм, подхожу всегда
прежде всего к образу Казанской.
Несколько слов об этом -
в моей короткой автобиографии...
"Не убий меня, мил-человек..."
Вдоволь спето неверных слов,
вволю выпито жгучей дряни,
на майдане пяти углов
меж фасадами стёрлись грани.
Полдень лета звенел от жал –
сатанели от зноя осы,
и пшеничный запах влетал
в ноздри улиц с погоста-покоса.
Длился месяц стрижиных крыл,
окликал лепестками ало.
Ни за что я июль любил,
прикусив на ладони жало, –
лишь за случай добра и зла,
за тот час, когда в смерч-полове
мама с криком меня родила
в австрияцком и польском Львове.
Конь под маршалом гнулся, дюж,
сокол сталинский зло был молод,
и ещё миллионом душ
под завязку ужрался голод. –
И в погибельном 47-ом,
подле Сяна спасясь от Дона,
огласил я псалмом роддом
в день Пречистой Казанской иконы.
Там пылало лето из лет,
над Юрой раскаляя кровлю,
где пробился я в зной на свет,
закипевшей измазан кровью...
Клят волчиной, облаян лисой,
в захолустье бесхлебья-лета
вскормлен был я чужой козой
подле града Елизаветы,
чтобы склон, где Булыжный Брод
жижу пьёт на похмел из Лугани,
освежил бы навек мне рот
дикой ягодой иносказанья,
чтобы нёс я в губах имена
городов и родимых кладбищ
по земле, где весна хмельна
без вина над камнями капищ...
Пятьдесят обмелело рек,
пять морей в океан сбежало.
Не убий меня, мил-человек, –
из-под кожи выдерну жало,
и врачуют мне дух и длань:
спелый луг материнства-млека,
ветки Льва, Лизаветы, Лугань –
вся душистая Тмутаракань,
не увядшая за полвека...
Греет душу летний Бог...

Кто там шастает по саду,
рыщет в чёрной тишине?
Я не знаю, и не надо
смалу знать про нечисть мне.
Вот проснусь – с верхушек вишен
брызнет розовый рассвет.
И в окно почти не слышен
гул сквозной протяжных лет...
Цепко вьётся повилика, –
в граммофончиках змея, –
пахнет пряная гвоздика,
в травной гуще кошка Кика
мнёт, терзает воробья.
Я сибирскую тигрицу
под веранду загоню,
перистое тельце птицы
в цветнике похороню.
Там, в пионе, жук жирует,
изумрудный шахиншах,
в ус не дует, хмель смакует
на хитиновых губах.
Я припас для экселенца
из-под спичек коробок…
И звенят тех птиц коленца,
и сквозь зимы экзистенций
греет душу летний Бог!
Дар одуванчиков Брэдбери...

Школьник, запавший на Брэдбери,
сны твои – радостный бред бери!
Ночи твои, словно конники,
сквозь «Марсианские хроники»
мчат по магическим россказням...
А спозаранку - хоть поползнем -
сызнова в школу. И вот оно -
будни, набычившись вкопанно,
целят в зрачки марсианские,
чтоб твои сны мессианские
с явью сражались без роздыха
за привилегию воздуха!
Чтоб в оживающей темпере,
дар одуванчиков Брэдбери,
бражка вскипала счастливая
под слобожанскою ивою...
Пьёшь марсианство весеннее,
как чудотворство Арсения,
чувствуя их не случайною
общей энигмою-тайною!
Зреют бессмертника венчики,
скрипку ласкают кузнечики -
памяти долгой хранители,
инопланетные жители.
Брэдбери с летом венчается,
мёд горьковатый качается.
Реет над звёздными сотами
Рэй, не летун самолётами...
Лучшая из лучших ипостасей...

А когда в отцовском доме - хмуро,
из-под крыши к речке убегу -
помолчать с кобылою каурой,
что жуёт траву не берегу.
В том лугу мне кажется, мальчишке,-
как бы ни колол чертополох,-
будто счастья свежие коврижки
всё печёт на солнце летний Бог.
Вот вернусь - и белою приметой
к небу вспрянет аист с колеса,
ляжет пёс Ароль у табурета
и посмотрит преданно в глаза.
Что-то дышит в нём совсем родное,
отчего по-братски мы близки.
Что-то сокровенное земное
доверяют мне его зрачки,
ибо есть у малых чад в запасе, -
сколько мы ни злись и ни греши, -
память-свет о первородном часе,
лучшая из лучших ипостасей
трудной
человеческой души.
А ты мне дал подсолнухи предместья...

А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
Так бы вечно дышать...

Лето, лето, живая планида моя,
населённая спелой-преспелой горячей травою!
Я уже записал в золотые друзья муравья,
и, о риске забыв, увлечен голубой стрекозою.
А игрун, несуразно-изящный кузнечик-урод!
Смехота, но почти что уронишь слезу умиленья,
как, без слуха, без голоса, ладно по струнам снуёт
этот вывих певучий, скрипучее стихотворенье!
Так вот в мире большом всякий малый по-своему прав,
без боязни ветрам отдавая дыхания звуки,
бескорыстно вплетая слова в песнопения трав,
ни обиды не ведая, ни самозванства-докуки...
Так бы вечно дышать под просторами отчих небес,
где цветные луга необманным лепечут приветом,
да ещё за холмом веет речью древлянскою лес -
родниковой водой и крушинным листом разогретым...
Где бамбук или рис шелестят Баю-бай...
Китайская грамота
Полновесный июль, абрикосовый зной,
невесомая дрожь светотени -
но горчит эта щедрость подспудной виной
и тревогой невнятных смятений.
Поучительна книга династии Цин -
восемьсот тонколицых наложниц
вырезает из нежных шелков мандарин
птицеклювым движением ножниц.
Розовея, смутясь, они стаей вспорхнут
и украсят цветением ветки,
но повсюду развесил узорчатый плут
паутинные ловчие сетки.
О, как прежде я спелое лето любил,
грозовое, румяное лето!
Но становится пеплом погашенный пыл,
и никто не в ответе за это...
И не знаю, как быть - улететь ли в Китай
на огромную Жёлтую реку,
где бамбук или рис шелестят "Баю-бай"
потерявшему сон человеку?
Где не сразу ведут на заточенный шест -
век живут мелкотравчатым торгом...
Восемьсот лепестковых воздушных невест
будут ждать и обрящут с восторгом
императора ночь. И, шестнадцати лет,
будет предана лекарю дева,
ибо мудрошипящий придворный совет
должен выдавить чадо из чрева...
Ну, а тех, кто родился, на этой земле
не минует сгущение лета.
И созреет, взойдя на суглинистом зле,
щедрый плод в исполненье обета.
И для каждого - свейся кольцом ли, взлетай -
много трепета, воздуха мало.
И почти всё равно - уплывать ли в Китай
или в омут родного зерцала...
В небе - стриж, на цветке - махаон...
В небе - стриж, на цветке - махаон,
рядом - преданный пёс златорунный.
И рождают магический звон
токи ветра в листве многострунной.
Крепнет в сердце, - от прожитых лет
и от вёсен, стремглав промелькнувших, -
непокой, и смирения нет
в молодых не по паспорту душах...
Крепнет боль на поминках в груди,
и всё меньше друзей год за годом.
И те дни, что ещё впереди, -
лишь прощание перед уходом...
Но как радостны дуги стрижей!
Но в махровых фантомах
цветенья -
вздохи ангелов и ворожей -
без пределов и без рубежей
восхищённое сердцебиенье!
23.05.2019
Умчит тебя, в сплетенье тех ветвей...

День-подлинник по-взрослому проснётся,
по-детски пролепечет "С добрым у...",
румянцем расцветающего солнца
помечен, словно встречен по уму.
И скромница, наяда Боттичелли,
из раковины выйдя на песок,
качнёт, под ивой, варвара качели,
в траву рассыпав перлов поясок.
День-подлинник в проёмы ранних окон
умчит тебя, в сплетенье тех ветвей,
где махаон проклюнулся сквозь кокон -
наследник династических кровей.
Белея, парусит цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не этой жизни общий случай,
не бестиарий жучий и змеючий, -
и ты летал бы. -
Вволю, между строк!
В человеческом детстве поет простодушно свирель...
Я - и здесь, у себя на ладони, и там, на плече
степняка-истукана, в полынной, до чресел, парче.
То ль я божья коровка на тыле десницы своей,
то ли пуля туза в белом теле семерки червей…
Лишь вина я едок, не игрок, будто Герман какой!
Да и то – по чуток, по полкапли, всего по одной,
по бутылке на нос, мой товарищ и сводный мой брат,
мой,в окружность вчеканенный твердо, упрямец-квадрат!
Перепончатый Хронос иль ворох архангельских крыл
на бумагу, на порох, на компас меня вдохновил?
Как милльонный китаец, на босу я ногу встаю –
под счастливый свой ранец, под грубую лямку свою.
Не в руке брадобрея, в шершавой родной пятерне,
жменю камешков грею, добытых тобой на Луне,
из Ланкастеров Армстронг, - любезнее, чем Ариост,
«Аполлоном» скользнувший меж алых и девственных роз…
Но о Новой Зеландии – нет, не совру, промолчу:
эти птицы моа великаньи мне не по плечу.
В ярко-красных наколках маори танцуют войну.
Но возьму я лишь песню «Эль кондор», другую, - одну!
Песню – плату за кротость и верность от хищных богов,
плавный плач коренастых детей ледовитых клыков –
синевато-зеленых, безмолвно властительных Анд…
Я хочу слышать «Кондора», инка, иной музыкант!
Ибо сам я - в своей маете, словно в шкуре твоей,
в медном золоте кожи навеки певучих детей.
Ибо вновь пред свирелью древесною остановлюсь,
ощущая засечку на сердце, ранение-плюс…
Наша жизнь, Мачу-Пикчу, подросток, и днесь не плоха:
остывают, на жертвенном камне дымясь, потроха,
но от жадных жрецов и от жертволюбивых богов
отлетают к нам звуки, священней даров-потрохов.
Воспаривший «Эль кондор» над Старой Вершиной завис,
где шаманят внизу лицемер-популист с вице-мисс.
Наша быль, Мачу-Пикчу, зажата в чужой пятерне,
и она же - парит над ущельем, над руслом на дне…
В человеческом детстве поет простодушно свирель.
Буду жить в кулаке восемь месяцев – кликать апрель.
И не все ли одно – твой ли «Кондор» восходит в зенит,
мой ли,- «степью да степью» глухой, - колокольчик звенит?
От сердца - нежность, строгость - от ума...

От сердца - нежность, строгость - от ума
сливаются в твоём бездонном взоре.
Горит собор, и строится тюрьма,
и пляшут тать на тате, вор на воре.
Но в тайной золотистой глубине
наполненного женственностью взора
есть то, что вновь повелевает мне -
идти сквозь ад без жалоб и укора,
хоть и всё больше злых метаморфоз
в бесчувственном и ненасытном мире,
и за три дня апрельский абрикос
цветки осыплет на печаль Псалтыри...
Мария, мать и вечное дитя! -
Над скопищем грехов молитва к Богу...
Скупые слёзы вестника-дождя,
весеннею листвой чуть шелестя,
со щёк смывают сон: " Пора в дорогу..."
23.04.19
----------------
Живопись - К.Петров-Водкин
Bспыхнул абрикоса белый цвет...

В глубине двора, меж кирпичами,
вспыхнул абрикоса белый цвет.
Как мне снился зимними ночами
этот обновленья амулет!
Эти ветки с нежным ароматом,
первые свидетельства весны,
эти дни, где в тёплый ветра атом
вечные надежды вмещены!
Слава Богу, брат, прозимовали.
Глянем тихо всем потерям вслед...
Абрикос цветёт! - И нет печали,
и смертей под синим небом нет!
Зачем же мне снится всё то, чего нет у меня...
* * *
И вот мне приснилось, что сердце моё не болит...
Н.Гумилёв
И вот мне приснилось, что жив Гумилёв, не убит,
что Нарбут не сплющен на дне в Ледяном океане,
что сердце моё не от подлости мира болит,
а бьётся от счастья в рассветной сияющей пране.
И вот мне привиделась жизнь, - а не жесть и не жисть! -
с весенней Италией и Адриатикой лета.
И ласточкой рядом порхает Малевича кисть,
и дети, как мальвы, в нежнейшие краски одеты.
А жажда убийства во лбах и надбровьях мужчин
молчит притаясь, хоть и зырит туда исподлобья,
где городом зла, с темнотою один на один,
спешит, мой улыбчивый отрок, мишени подобье...
Зачем же мне снится всё то, чего нет у меня,
всё то, что в дворах-тупиках за полдня отцветало? -
Ни мига - без вечной любви, ни окна - без огня...
Как много обещано!
И как не отнято мало...
9.04.2019
Волной встающая теплынь...
Пел ветер - очи с поволокой -
качался в ветках бузины,
и хмель бузинный кособокий
глотал из влажной глубины.
И затопила дни апреля
волной встающая теплынь -
стволы сквозь кожу зеленели,
и вдоль ветвей сочилась синь.
И меж стеклом и ставней дачи
зарделся мотылька фитиль.
А в круге конуры собачьей
роилась солнечная пыль.
Был населён скрипучий ящик,
ледащий, траченный паршой,
бездомной чьей-то, немудрящей,
но вдрызг лучистою душой!
------------------------
Живопись - К. Малевич
Всё выше солнце над Христом...

Перед Пасхой
В весеннем гоне – дыбом холки
и кровь драчливых кобелей.
Вскипают случек кривотолки –
любовный уксус и елей.
Но в почвенности круговерти,
в надрывном таянье снегов
всё ярче свет пасхальной тверди
и галилейских берегов...
На выброс сор зимовки выгреб
уборщик, ватные бока.
И углеводорода выхлоп
из-под гузна грузовика
шибает в голову апреля
пятикопеечным вином.
И круг чертя у колыбели,
кирзовый мытарь-управдом
грозит и требует расплаты...
Но воздух – колом, синь – винтом!
Но высь - ветвиста и крылата,
и всё короче тень Пилата,
всё выше солнце над Христом!
----------------
Живопись - А.Мишагин
Великою догадкою ведомы...

Межзвёздные зарубки знойной Гизы –
три пирамиды и безносый сфинкс –
не требуют ни скуки экспертизы,
ни тления зрачков идеи-фикс.
Пришельцы, проходимцы ли, пройдохи? –
Не всё равно ли тем, кто день за днём
клюёт со здешней почвы зёрна-крохи
и местным пробавляется вином?
Но для немногих, кто во сне генома
длит до сих пор скитальческую знать,
смешны резоны книжника и гнома. -
Великою догадкою ведомы,
мы знаем больше, чем достойны знать.
---------------------------
Из книги - Сергей Шелковый "Эон", Х., 2007
Сияет синь вовсю на мартовской земле...
Сугробов грязь насквозь пропахла кислым псом,
последний снег съедает мартовское солнце.
И "Джип" коричневый с откормленным лицом
лоснится приторною смуглостью Бейонсе.
Водила крестится, бросая в трубку "фак",
мясною лапою прижав мобилу к уху.
К подъезду белый подъезжает катафалк,
и, невесомее пера, несут старуху
в дешёвом гробике, в фанерном корабле,
в неловкой без весёлых белых вёсел лодке...
Сияет синь вовсю на мартовской земле,
и стылый воздух поминанья - крепче водки.
В углу дворовом осовел сугроб и скис,
припав к асфальту покаянной головою.
И меч индиго над дырой двора повис,
от здешней скверны отсекая напрочь высь
двоякодышащей, бессильной синевою...
6.03.2019
Заводя весенние часы....
* * *
Белые и рыжие собаки
под февральским солнцем расцвели,
словно полыхнули лета маки -
в красном оперенье корабли.
Обниму лохматого Каштана -
как люблю я этот карий свет
пёсьих глаз, в которых без обмана
золотится верности обет!
Слава небу, что родное длится -
светят алым тёплым сердцем псы,
и на ветке тенькает синица,
заводя весенние часы.
Слава Богу, что январь, - бродячий
мокрый чёрный пёс, - уже слинял...
Скоро будет всё совсем иначе -
дни от всей души, без недостачи,
дачи, босоногие апачи!
Маки-корабли, морской вокзал!
1.02.19
То ли крест, то ли меч с рукоятью...
То ли крест, то ли меч с рукоятью
загорелся в ночных небесах.
Разомкни, сладострастье, объятья,
ибо - время платить на часах:
по счетам, по фальшивым бумажкам,
по желтушным ничьим векселям,
по своим медовухам и бражкам,
по мечтам, обратившимся в хлам.
Не расплатишься - и не надейся.
Что ни день, то всё больше долгов.
Серебрятся премудрые пейсы
и чуприны друзей и врагов.
Задыхается певчее время
в тесном горле, в чужой пятерне.
И грехи первородства в Эдеме
ни тебе не простятся, ни мне...
Тает жизнь, и душа обмирает
обречённым предзимним листом.
И болид в окоёме сгорает
ослепительным судным крестом.
16.02.19
И не разлюблю никогда...

И не разлюблю никогда я своё одинокое дело -
мальчишечью дудку,
солёную память в горсти.
Который уж раз через ржавое ухо продела,
как нитку, судьба...
А не брошу я ноши в пути.
Опять наречёт нищета простаком и разиней.
Когда б и поверил я злобной хозяйке своей,
мне в душу войдут - золотой мой, лиловый и синий...
И зимнюю копоть омоет со щёк снеговей.
Мой ангел - метель.
А в июле - он ливень-хранитель.
Недвижность мне равно средь стужи и зноя страшна.
Подвального века, могильного времени житель,
лишь взлётною силой я поднят с химерного дна.
И не попрекну никогда я своё придорожное счастье -
кленовую дудку,
дождём прополосканный гай...
Всё ветра ищу, и просты мои ловчие снасти. -
О братец мой, ветер!
Возьми эту дудку, взыграй!
И что душе для истинного пенья...

Небесный альт, с подворья чад резины...
Давно пора забыть, как Робертино
завидовал я долгих тыщу лет –
с тринадцати до паспорта врученья –
был пресен вкус морковного печенья
и в линзе с глицерином мутен свет...
Бельканто и теперь в печёнке где-то
вибрирует. А прежде – бела света
не видел я, когда уже сверх сил,
с душой саднящей, с кирзовой гортанью,
глотая угловатое молчанье,
опять пластинку певчую крутил.
О, солнечные трели Робертино!..
У той любви был едкий зев ангины,
у ревности, меж тем, не чёрный цвет...
Она, скорее, в ромбах арлекина,
в расцветке шахмат следственно-причинной,
за мной ступала верно - след во след.
Бредя асфальтом, чуял я отчасти,
что в той кручине был задаток счастья, –
и фокус этот сладил царь Горох, -
и что душе для истинного пенья
куда нужней, чем голое везенье,
солёно-горький повивальный вздох...
А ветер дул – то холодно, то жарко.
Водил я в парк чепрачную овчарку,
и незаметно из рутины дней
в соседнем классе, небесам в острастку,
блеснула поступь маленькой гимнастки,
и что-то чисто серебрилось в ней.
Была ли снова песня безголосой?
На все по геометрии вопросы
циркачке я серьёзно отвечал.
И зыбко, словно дискант издалёка,
светился легконогий абрис сбоку,
у странного начала всех начал...
Небесный альт, с асфальта чад резины...
Любовь да ревность – юные кузины.
Не рассудить, кто краше, кто умней!
Жаль одного: заметить, как стареют,
добреют-расползаются, дурнеют,
дабы исчезнуть за чертою дней...
Пиши признанье с чистого листа...

Ещё один стремительно прекрасный
день миновал, усыпанный до глаз
снегами. И опять до слёз неясно,
кто тропами соблазнов водит нас.
Кто вяжет странных совпадений нити,
плетя непредсказуемый узор?
Кто оркеструет музыку событий,
мажор перемежая и минор?
Ни на один вопрос ответа нету.
Прими недоумённо высший дар
негаснущего жизненного света
и скрипку обними, а не футляр.
Гляди - ещё один умчал отважно,
по искрам прозвенев, январский день.
Когда так много солнца, то неважно,
под чьею кистью лиловеет тень
на белоснежном выгибе сугроба,
чьим оберегом крепнет красота...
Вдыхай всей грудью дух морозной сдобы,
пиши признанье с чистого листа!
22.01.19
-----
Живопись - С.Черкасов
В ларцах волхвов - и золото, и смирна...
Сияя, спит Дитя в ладонях яслей...
Как пахнет сено в Праздничной ночи
коржом хрустящим, испечённым в масле
в родительской негаснущей печи!
Волы и овцы раздувают ноздри,
вдыхая запах чуда во плоти.
Вдоль зова Вифлеемских звёздных острий
верблюды магов - целый день в пути.
В ларцах волхвов - и золото, и смирна.
Снег на верблюжьих лапах и песок...
Спит Божий Сын. Мария дышит мирно.
И звёздный луч ласкает Ей висок.
7.01.2019
А душа упорхнёт на прогретую солнцем поляну...
И не просто стареть, а и сетовать тоже не стану.
Ни за что из былого не вычесть ни радость, ни боль.
А душа упорхнёт на прогретую солнцем поляну,
словно лось забредёт к леснику на желанную соль.
Вот горячий язык снова тянется к синему зелью -
с кристаллической глыбы слизать исцеляющий сок,
и печальница-иволга кличет небесной свирелью,
чтобы всё сокровенное сызнова вспомнить ты мог.
О, как пахла сосна в первородной теплыни июля!
Как двоились драконами ящерки в травах-чебрах!
И кузнечик, полынный скрипач, сухорукий игруля,
всё пилил свою песню о юго-восточных ветрах.
Дети были птенцами, и были отцы молодыми.
Ну, а юные жёны светились вовсю красотой...
Но сегодня в осеннем дыму, но в густеющем дыме,
не удержишь реки, ни за что не упросишь:"Постой!"
В том и плаванья суть, что, войдя в эти странные воды,
и не двинуться вспять, и не выгрести ломким веслом.
Только иволги свист, первозданная нота природы,
на минуту поманит - согреться в былом-золотом...
Вот и крепнешь душой, если всё ещё теплится лето
в незабытой дали, под шатром медовухи-ветлы!
Зимовать, куковать... - Дотерпеть бы до нового света,
до пучка краснотала, чьи почки пушисто-белы...
И честнейших полон струн...

Будет день,и будет пища,
и в кофейнике вода,
и шершавое жилище
с табуреткой для труда.
Будет сыгранная чисто
книжка маленьких сонат:
снег, снегирь,
румянец, свисты –
на Николу в аккурат.
В сушняке чертополоха
на пригорке ледяном,
снова свищет
«Жить не плохо!»
гном, подкрашенный вином.
Подрумяненный кагором
дымный дух, летун-игрун –
жив над пригородом-вором
и честнейших полон струн.
Рдеют яблочные грудки
непогибельных пичуг:
«Жив ли? Жив!»
Впрягаясь в сутки,
навостряет слух битюг.
На его косматой морде –
человечья дремлет грусть,
а во лбу белеет орден
за давно отцветший куст.
На бедре его мохнатом
иней крупно-серебрист.
Надо льдом-бугром покатым,
снегиря алеет атом,
зреет ягода цитатам -
буквица-евангелист...
Там, где брага и отвага...
Манит Дрезден,
снится Прага,
островерхие кремли –
там, где брага и отвага
в лоне камня расцвели.
Замки, панцирь-оболочка.
А из окон – злата ток,
словно бы под сердцем квочка
нежит в извести желток.
Спит Флоренция на Эльбе,
воды зимние черны.
Гуще бы в сочельник ель бы!
Вьюги, колкой свежины!
А коль глянет Цахес криво
вдоль саксонского моста –
рядом чешский город-диво,
речи сестрины уста.
О, вдоль Лабы ездки эти
меж заснеженных столиц! –
В обгоняемой карете
экивоки тонких лиц!
Словно кисти и клавиры,
и смычок волосяной
дружат в этой части мира
с разлюбезной стариной.
В чёрный Дрезден,
в Злату Прагу
мчится пара снежных крыл -
вьюги белую бумагу
Рильке голубем сложил.
И летит вдоль Лабы птица,
вдоль чудес известняка.
В этот лётный путь влюбиться –
право, легче пустяка.
Вот и ямбу, и хорею
впору вьюжный, снежный свет.
За пургу, за сверхидею
любит жизни ахинею
хореический поэт!
Прощай же, певун и дружок...
Памяти Алексея Аулова
Зима разлеглась широко и надолго.
Замри под дохой на печи
и, слушая вой полуночника-волка,
в ответ по-медвежьи молчи.
Не трожь, не тревожь ни шишиг, ни кикимор,
ведь даже мышастый лешак
замолк с декабря, будто намертво вымер,
зарывшись в репейный овраг.
Срываются жалобы волчьего горла,
морозное небо скрипит.
Пока тебя бунтом к стене не припёрло,
пока ты в овчину урыт,
смекай, как легла по-азийски жестоко,
в свирепом размахе, зима,
не зная, с какого ощерится бока
тюрьма ли, сума ли, чума...
Крысиные шорохи, душные ночи,
дурного генезиса сны.
Не каждому хватит удачи и мочи -
от ширева царь-ширины
спастись под овечьей ли, волчьей ли шубой...
Прощай же, певун и дружок...
Учитель мой строгий,
Механик мой грубый!
Позволь подышать ещё музыкой любой,
прогрей на морозе движок...
О том, как это поле перейти...

Звёздное небо над нами
и нравственный закон внутри нас...
И.Кант
Есть две строки во многотомном Канте.
Я деспотию почвы пережил.
Знать, нечто знал о стайерском таланте,
о напряженье мозга, нервов, жил.
Господь не упрекнёт меня за чёрствость,
ведь внутренние слёзы столь теплы,
что дым наружных слов, – зачем-то, чёрт весть,
на кончике пера, хвоста, метлы
взвихряясь, – даже искры не прибавит
к полученной в наследство теплоте...
Кто призван, тот Отца без крика славит,
а горло на подмостках рвут не те,
не те, кто сопричастен жизни Духа.
Ещё я знаю то, что вопреки
скуденью зренья и провалам слуха
пребудут вечера свежи, крепки. –
Под чёрным небом в белой лечь сорочке
на землю, но вдоль Млечного пути.
И заново прочесть в себе две строчки
о том, как это поле перейти...
Век рассыпался лагерной пылью...

Мы ль не призваны, мы ли не званы
на доселе невиданный мор,
богохульного века Иваны,
братья гиблые мёртвых сестёр?
Мы ль не призваны, званы не мы ли
хрипом ворона и петуха?
Век рассыпался лагерной пылью,
горстью пепла, горою греха.
Да не имут убитые сраму.
Молочай серебрится на рву.
Скорбный храм
и тропа моя к храму... -
Поминаю, молюсь. И живу.
--------
Живопись - Павел Филонов
Чтоб спеть псалом осеннего суглинка...

Когда бы голос мне, чтоб тоном выше
спеть арию невольного паденья
когорты, лишь себя и победившей,
сквозящей на ветру дырявой тенью!
Чтоб спеть псалом осеннего суглинка,
обломанных подсолнуховых палок…
Над письменным столом висит картинка:
пейзаж родимый – и любим, и жалок.
Простор запойный вынимает душу
и пьет ее и закуси не хочет.
На мокрую, в колючих ветках, грушу
садится ворон, крячет и клокочет.
Сорвись картинка наземь, рамка тресни –
семь месяцев пейзаж в грязи и саже
раздоры умножает на болезни…
Одно и лечит - ветровые песни:
«Не вейся надо мною, чёрный княже!»
Остекленеют до Пасхи лягушки...

Порыв стужи
Ветер студёный шальной налетел,
наколотил яснобоких каштанов. -
Словно плоды марсианских баштанов,
светятся россыпи глянцевых тел.
Ветер внезапный, богемная блажь,
дерзкою стужею брызжет на листья,
треплет ветвей многоцветные кисти,
рыжими крыльями режет вираж.
Кличет, бродяга, всю голь на гульбу
охры, кармина, цыганского злата.
Осень тревожною чакрой во лбу,
крупно-зернистой строкою богата...
Травы охрупчит студёная тишь,
остекленеют до Пасхи лягушки.
Заиндевелых каштанов игрушки
стащит в нору острозубая мышь...
Учить урок и, не сдаваясь, жить...
М.
Бурленьем лавы вдоль расщелин ада
стращает инфернальной глуби прыть. –
Но нам с тобой, мой любый отрок, надо
учить урок и, не сдаваясь, жить.
Законница, таблица умноженья
не защитит нас от бесстыдства дня.
Но мне – держать и ток, и напряженье,
пока твой свет нисходит на меня,
пока негромко и немногословно
мы говорим на нашем языке,
пока твоя ладонь теплеет кровно,
всем стужам вопреки, в моей руке.
Дитя, как одолеть мне эту зиму,
гадать не стану – Бог хранит свечу...
Ты учишь географию – и мимо
разломов почвы близишься к Гольфстриму.
А я – любви историю учу...
______________
Стихи из моей поэтической подборки,
только что напечатанной в Германии
в кёльнском журнале "Европейская словесность",
вып.13, 2018, (редактор журнала - О.Ольгерт).
Когда бы и настали перемены...
Без чары вечеря. Но музыку всё слышу,
и это искупает ложный путь.
Осенний тёмный дождь стучит о крышу:
«Мы встретимся ещё когда-нибудь...»
Без чары вечеря. Вино не греет вены,
и рук не греет ласковый обман.
Когда бы и настали перемены –
их все уже оплакал Иоанн.
Смотрю в окно и поминаю лето,
как будто бы опять во тьму тебя
без слова отпускаю, без привета,
уже ни дня в минувшем не любя.
Дробится ливень, ударяя в стёкла.
Предзимье оседает на висок.
К озябшему стеклу прилип промоклый
бронзоволикий вязовый листок.
«Мы встретимся ещё...» – О да, конечно.
Без срока ждать, без ропота уснуть.
Из-под фрамуги веет казнью нежной –
дождливой, листопадною, предснежной.
И тесен путь, коль он и вправду путь...
На краю Галактики посёлок...

На краю Галактики посёлок,
на обрыве Млечного Пути.
В нём пилот, механик и уфолог
в сеть выходят после десяти.
Над полночным, в пару крыш, селеньем
Персеиды небо бороздят.
Трудно здесь, и верой и терпеньем,
быть на вахте десять лет подряд.
Неустойчив пульс-сигнал Фейсбука,
но, из сайта ноту подхватив,
можно для себя и друг для друга
прошлых лет насвистывать мотив.
Или можно вспомнить притчу Босха -
правду о несении креста.
Далеки от лжи и сбоев мозга
эти запредельные места...
Можно снова в бездне отдаленья
оживить свеченье лиц родных.
На краю Галактики селенье -
росчерки с небес, фантомов тени.
Тихий, на листе тетрадном, стих...
15.09.2018
---------------------------
Фото - П.Лисовский,
Ночь Персеидов
Но жизни - ни много, ни мало...

В игольчатой шкурке зелёной,
тугим перестуком бодря,
каштаны срываются с кроны,
с дозревших небес сентября.
Как лето безбрежно сияло!
А с ночи подкрались дожди.
Но жизни - ни много, ни мало,
а каждому - вровень почти
с тем сроком, что в гуле вокзала,
в мелькнувшей осенней толпе,
напела гадалка-ромала
со шрамом на верхней губе.
Живешь - и мальчишество длится
в колючих игрушках плодов,
и в охре каштанов синицы
не кличут ещё холодов.
Но скачет по крыше сорока,
и криком, и оком остра, -
подельница строгого срока,
бродячей цыганки сестра...
12.09.2018
Вон там, на берегу, сияет ночи час...
От нищих уходи, от богачей – тем паче.
Глядишь – к исходу дней останешься один.
И не стыдись ни слёз невидимого плача,
ни на челе морщин, ни над челом седин.
Что было, не прошло – вросло занозой в душу,
изрыло шкуру-плоть трудами лемехов.
Верёвку затяни на поясе потуже,
пеньку бы на кадык – да всклень и так грехов…
Но были, – вспомни, – сны, и яви тоже были!
Вон там, на берегу, сияет ночи час,
когда, – рука в руке, – мы целый мир любили,
и строгий Взор со звёзд прощал с улыбкой нас...
И по глотку и сласть, и горечь пей...

Помяты астры первой ранней стужей,
растрёпаны причёски нежных фей…
Что ж, затяни предзимний пояс туже
и по глотку и сласть, и горечь пей.
Щепотку соли и толику перца
добавь в осенний ледовитый хмель.
Быть может, слово любящего сердца
спасётся средь простуженных земель?
Быть может, сам спасёшься от раскисших
кладбищенских неумолимых глин, –
в каких-то высших пазухах и нишах, –
ты, собеседник тёмнокрасных вин,
ты, книжник расходящегося ряда,
сообщник обречённых лепестков? –
Шуршит парчою скатерть листопада,
и поминальный стол уже готов…
И вижу всю землю свою из-под звёзд...
Я дымом полынным взлечу над стрехою
и вижу всю землю свою из-под звёзд.
Как ломит мне грудь ключевое дыханье,
когда, распрямляя крыла по ночам,
к вам, вешние травы, лечу на венчанье
и к вашим, затоки, склоняюсь очам!
И кровью, и болью вхожу в твою волю,
седых ковылей и волхвов сторона.
Блеснут, шелохнувшись под пылью и солью,
то русича шлем, то хазар стремена...
Столетья курганная глубь поглотила,
несметное в пепле легло и золе.
Но снова всплеснётся весенняя сила,
бессонной волной проходя по земле.
Так сызнова Днепр в полнолуние светел,
что виден сквозь сон посечённым в бою...
И в белых садах возрождается пепел,
и давнюю думу пою, как свою.
Догорают последние дни...
Догорают последние дни,
умирает желанное лето.
И вечерние меркнут огни,
словно гаснет зрачок амулета.
Божья Мать опускает глаза
на фамильной иконке нагрудной.
И смириться с уходом нельзя,
и поверить в спасение трудно.
Неужели тебя и меня,
и любви нашей верной не станет?
Август-жертвенник, полный огня,
откровением судного дня,
красотою безжалостной ранит...
18.08.2018
И там повсюду будет привкус солнца...
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном -
и вы, смутясь и торопясь, войдёте
туда, где правят юности законы.
Там вкус вина смешается и соли,
и там повсюду будет привкус солнца.
Лиловым ветром позабытой воли
повеют с древних склонов колокольцы...
Была ладонь её солоновата,
и горячи нетронутые губы.
Спускалась ночь, почти что без заката,
и лето шло стремительно на убыль.
И юность к окончанию катилась.
к подножью от вершины Аю-Дага.
И всё прошло, забылось и простилось.
И близко всё - каких-нибудь полшага...
Жизнь оказалась щедро, странно длинной -
и ныне так же колко, как в семнадцать,
обводом моря, лунною долиной,
тропою кипарисной пробираться...
И может быть, вы просто не умрёте,
глотнув свободы над волнистым лоном. -
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном...
Пока ночная тишина стоит...
* * *
Рай разнотравья, шлакоблочный ад. -
Лети, душа, по скорбному маршруту,
где в летней тьме колышет мышь мышат,
где инь и янь вдыхают мяту-руту,
пока ночная тишина стоит
в молитвенном пространстве, чёрно-влажном.
Уходит жизнь. И Бог почти забыт
в её контексте, издавна продажном.
В её формате красных фонарей
и жёлтых дач из жёсткого бетона
никто не станет ни к кому добрей
и не услышит боли обертона,
когда мой мир, мой ангел, сквозь года
идущий зыбким штрих-пунктиром хвори,
опять зовёт меня с собой туда,
где над горой полна любви звезда,
а под горой зарыто в землю горе...
2018
И соль волны, и мёд стряпни вдохну...
Вплетайся, лыко, в праздничную ткань!
Не пропадать ведь жизни понапрасну...
Манит волной, дарит Тмутаракань
напутствие рыбачьему соблазну.
Хрустя ракушкой жаркой, на Азов
прийти и с леской стать на край бетона.
И в отроческий незабвенный лов
вернуться вновь, запальчиво-влюблённо.
Туда, туда, где увалень-бычок,
лобастый, как Сократ, сакральный предок,
хватает жадной пастью твой крючок,
наживку нежно-розовых креветок,
где ты уже красней, чем ирокез,
спешишь с куканом грузною походкой,
где спёк тебя лучами полдня бес,
а мать гремит чугунной сковородкой
и в постном масле жарит свежину –
на тесной кухне в съёмной халабуде...
О, крошку плавника бы, хоть одну -
да снова на язык! Нет, не усну –
и соль волны, и мёд стряпни вдохну,
и весь тот день, свидетельство о чуде!
Вот он, поздний июль именинного дня...

Вот он, поздний июль именинного дня...
И всегда гладиолусы в праздничный день –
то лиловое, то нежно-алое пламя.
Отзвенит и удвоится дня дребедень,
и, вечерние гости, я сызнова с вами.
Все – знакомые лица, всё те же глаза,
что не радостней, нет, не смелей, не моложе.
И уже приласкать ни минуты нельзя,
хоть ещё и секунды оплакать негоже.
То, что было пребудет. А слабость и срам,
захотят – обернутся крепчаньем молитвы.
Как трепещет листва своенравным ветрам,
так дрожит поутру зазеркальице бритвы.
Вот он, поздний июль именинного дня:
гладиолусы, пена зелёной бутылки.
Пьёте ль вы за меня иль клянёте меня –
а не царь я себе, ни во лбу, ни в затылке.
То, что пелось крылато, забыто давно.
Дышат чем-то не тем ясноглазые дети.
В чёрном воздухе – белым султаном вино.
Нам опять всё былое терпеть суждено
на премудро-жестоком и праздничном свете.
От рожденья до смерти свободный...

Тёплые дни омываются щедро дождями,
вволю смородины будет, малины - на диво.
Но отчего-то июльскими этими днями
шпажника жду я
особенно нетерпеливо.
Встань во весь рост гладиаторский,
встань, гладиолус! -
Шпажный клинок,
от рожденья до смерти свободный,
алого цвета
бесстрашный и искренний голос,
"ствол кипариса -
простой и прямой, благородный"!
Куском да пинком не пленён...
Зазывы утиного кряка
слышны далеко над водой,
и ящериц ловит собака,
прибрежной шурша лебедой.
Завидую – как беспечален
стареющий трёпаный пёс.
И даром, что хвост измочален,
и розовый шрам не зарос.
И даром, что умную морду
корёжит у губ седина,
что костью хребтовою твёрдой
уже не хрустит старина.
И даром – репейное поле,
собачья бездомная быль
насыплют на ссадину соли,
на зубы – скрипучую пыль…
Не сыт, а зато – не стреножен!
Куском да пинком не пленён.
И злыдням назло – всё не гож он
на корм для лохматых ворон.
Вот гнутые месяца рожки
всплывут из озёрной воды,
и вздрогнет дворняга сторожко
под боком у колкой скирды…
Думы с утра высоки и легки...
Думы с утра – высоки и легки,
словно из юности что-то воскресло.
В домике летнем живут пауки –
в рамах оконных, под ручками кресла.
По деревянным трёхгранным углам,
под потолками, блестит паутина,
и отзываются всем сквознякам
слабым дрожаньем чешуйки хитина.
Что-то случалось тут прежде со мной –
то ли из сумерек слышалось пенье,
то ли укропом, политым луной,
пахло мальчишества стихотворенье.
Так и вселилось в запущенный дом
это, казалось, ушедшее, время. –
Тихо бормочет в углу с пауком,
сушит на полках укропное семя.
А за раскрытым со скрипом окном
вспыхнет небесно наивный цикорий,
не позабывший ни духом, ни сном
детской любви, аллергии и кори.
Там облако подобно кораблю...
Мне – десять.
Я кузнечиков ловлю
в прибрежной серебрящейся полыни.
Там облако подобно кораблю
в июньской нестерпимо ясной сини.
Всё то, что за полвека вдаль ушло,
услышь – ещё живей волнует сердце.
Вот вновь жасмином город замело,
одетый в камуфляж, обутый в берцы.
Мир полон зла.
Но в юном том хмелю,
где не расписан подлый дебет-кредит,
я жив. И весь июнь, всю жизнь люблю,
всех смертных лепестков счастливый трепет.
20.06.2018
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем...
М.
Круги, овалы, эллипсы и дуги
стрижи в полёте чертят неспроста.
Не зря их крылья – веерно-упруги,
не зря изящна вильчатость хвоста.
И если о моей любимой птице
меня ты спросишь, первенец-малыш,
мне не придётся, милый, усомниться
в единственном ответе: «Летний стриж!»
Вдоль каменных аркад сникают годы –
уклон, откос, измена на излом…
Но как неодолим инстинкт свободы –
чертёж стрижа в пространстве мировом!
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем,
и прощены, и ввысь вознесены, –
соратники и острокрылым стаям,
и тонким дням июньской белизны...
Поучительна книга династии Цин...
Из "Песен реки Ян-Цзы"
Китайская грамота
Полновесный июль, абрикосовый зной,
невесомая дрожь светотени -
но горчит эта щедрость подспудной виной
и тревогой невнятных смятений.
Поучительна книга династии Цин -
восемьсот тонколицых наложниц
вырезает из нежных шелков мандарин
птицеклювым движением ножниц.
Розовея, смутясь, они стаей вспорхнут
и украсят цветением ветки,
но повсюду развесил узорчатый плут
паутинные ловчие сетки.
О, как прежде я спелое лето любил,
грозовое, румяное лето!
Но становится пеплом погашенный пыл,
и никто не в ответе за это...
И не знаю, как быть - улететь ли в Китай
на огромную Жёлтую реку,
где бамбук или рис шелестят "Баю-бай"
потерявшему сон человеку?
Где не сразу ведут на заточенный шест -
век живут мелкотравчатым торгом...
Восемьсот лепестковых воздушных невест
будут ждать и обрящут с восторгом
императора ночь. И, шестнадцати лет,
будет предана лекарю дева,
ибо мудрошипящий придворный совет
должен выдавить чадо из чрева...
Ну, а тех, кто родился, на этой земле
не минует сгущение лета.
И созреет, взойдя на суглинистом зле,
щедрый плод в исполненье обета.
И для каждого - свейся кольцом ли, взлетай -
много трепета, воздуха мало.
И почти всё равно - уплывать ли в Китай
или в омут родного зерцала...
Не спеши, мой дружочек, июнь...
Не спеши, мой дружочек июнь, не спеши,
загорелый, в хлопчатой рубашке, мальчишка!
В твоих дырах-дворах, в затрапезной глуши,
всё ещё золотятся надежды коврижки.
Даром зимние псы грызли насмерть меня,
люди-братья за ломаный грош предавали. -
Мне всё памятны духом твои зеленя,
лучезарный твой свет без фальшивой морали.
Время сплющено тяжестью гиблых пространств -
инфузории делят общак и амёбы.
Но шиповник-июнь вводит в песенный транс
и язык мой щенячий, и выгибы нёба.
Бог простит мне грехи молодые мои -
перепевы Адамовых яблочных песен.
Я ведь знаю, что тихие радуг слои -
чистозвучней в июне, чем Армстронг Луи,
чей металл золотистый и вправду чудесен...
На то и ночь, как песня "Караван"...
Сирень, пионы. Стихотворец-май.
Намаешься с его хмельной повадкой.
То солнцу, то слезам небес внимай
над в клетку разлинеенной тетрадкой.
Не в шутку, а всерьёз сложилось так -
до слёз светло над рифмой маломальской.
Вот так же честно плакал Пастернак
над женственной распутицей февральской.
Борис ли Леонидыч насвистал,
ожёг ли рот я "горькою от Борьки"? -
Но снова в мой полночный мадригал
цветеньем веток ломятся задворки.
На то и ночь - как песня "Караван",
чтоб во дворе, акацией укрытом,
я смог бы спеться, через океан,
с потомком Баха, Бахуса - с Бахытом,
которому я не соврал: "Люблю!",
а он: "Аналогично!" - сдал мне сдачу...
В шагренях мая до утра не сплю,
не подстелю соломки скрипалю,
лишь лёгкости смычка в ответ - заплачу.
Над ягодной грядкой пионовый куст...
Отцветают пионы, и зреет клубника -
их смешавшийся запах и лёгок, и густ.
И склонён над землёю июнь солнцелико,
как над ягодной грядкой пионовый куст.
Отцветают пионы - усыпали землю
лепестками пунцовых и розовых гамм.
Не оглянется лето - торпится, внемля
новым дням молодым, новым юным цветам.
Восьмикрылая дрожь, белокрылая пара.
Кратки, кратки объятья четы мотыльков...
И садовник-старик, молодой от загара,
на ладони ласкает уколы шипов.
Чтоб глаза на весь год синевой первородной промыть...
На лету не поймёшь, то ли бросится пёс под колёса,
то ли ветер швырнёт под "восьмёрку" шуршащий пакет.
В сдвиге линий, объёмов и форм на бездомность вопроса
не услышишь ответа, которого, в сущности, нет.
Не успеешь заметить, кто слева подрежет, кто справа,
кто на "бумере" прёт напролом, наркотою взбодрён.
Просто держишь штурвал, дабы чудищ сакральных орава
не спровадила - так, между делом - скучать в пантеон.
На ходу, на лету не поймать промелькнувшей детали,
но несущая линия - твёрже ведёт и верней.
Сокровенные дни обновления солнца настали.
Снова светится жизнь - и года растворяются в ней!
Белых свечек полны терема проповедника-мая.
Словно жемчуг, нанизаны дни на правдивую нить.
Удержать бы свой путь. Книгу книг я на миг закрываю,
чтоб глаза на весь год синевой первородной промыть!
Вновь кружит над поляной барвинка...
Не мешайте летать шмелю...
Из песни
Вновь кружит над поляной барвинка
нежно-бархатный шмель-менестрель.
Снова милую сердцу картинку
расцветил живописец-апрель.
Снова слышу родные мотивы:
"Не мешайте под солнцем летать!"
Ветки пенятся, розовогривы.
И твержу: "Благодать, исполать! " -
всем, кто всуперечь подлому миру
о младенческом-божьем поёт
над землёй мародёра-кумира,
где заходится пеной эфира
лживый, нравоучительный рот...
29.04.2018
И дремлет у калитки рая...
И снова - солнца ход неспешный,
и надо мной опять парят
румяным маревом черешни,
как будто тридцать лет назад.
И у дощатого забора,
как в очень давний день босой,
обильно пахнут помидоры
листом, обрызганным росой.
На крыше кухни и сарая
дождями обтрепало толь,
и дремлет у калитки рая
дворняга с именем Ароль...
Там Марфы, с мальвами, передник,
и там, у кухонной стены,
я - внук, стригун, любви наследник,
уже последний собеседник,
кому те дни ещё видны...
Бабочка вспорхнула, голубянка...

Бабочка вспорхнула, голубянка...
М.
Бабочка вспорхнула, голубянка,
над апрельской зеленью трёхдневной,
храма пробужденья прихожанка,
чудотворец радости душевной.
«Никогда ещё такой не видел!» –
встрепенулся отрок, внук любимый.
Знай, дружок: и Джотто, и Овидий
этой вестью взлётною хранимы.
Бабочка-Психея невесомо
оживает с каждой примаверой,
и душа весны, – повсюду дома! –
светится надеждою и верой.
Стаяли снега недавней бури,
дышит свежей влагою тропинка.
Светят удвоением лазури
бабочка и первоцвет барвинка!
23.04.18
Эти ветки с нежным ароматом...
В глубине двора, меж кирпичами,
вспыхнул абрикоса белый цвет.
Как мне снился зимними ночами
этот обновленья амулет!
Эти ветки с нежным ароматом,
первые свидетельства весны,
эти дни, где в тёплый ветра атом
вечные надежды вмещены!
Слава Богу, брат, прозимовали.
Глянем тихо всем потерям вслед...
Абрикос цветёт! - И нет печали,
и смертей под синим небом нет!
18.04.2018
Видна ль Тебе моя борьба...
* * *
Видна ль Тебе моя борьба?
Я не стираю пот со лба,
лишь молча, прикусив язык,
рыхлю апрельский Твой цветник.
От крана приношу воды
к корням пионовой гряды.
Согретой почвы анашу
вдыхаю и вовсю гляжу,
как сызнова пиона куст -
бутонами розовоуст.
Видна ль Тебе моя борьба -
восторг склонённого горба,
разгулье мышц после тюрьмы
гиперболической зимы,
где месяцев не шесть, так семь
пароль был "хлад", а отзыв "темь"?
И вот, в руке Твой чернозём
размяв, я думаю о том,
что он - темней, я - чуть светлей,
но мы уже одних кровей.
Позволь же длить мне этот ход
челночный - то опять вперёд,
к железом пахнущей воде,
то вновь - к пионовой гряде.
Позволь ещё! Я так привык,
что здесь - и Твой, и мой цветник.
Помолчав с Твоею рядом Книгою...
Рядом со Святым Твоим Евангельем
положу стихов-грехов тетрадь.
Ты уж мне позволь навстречу ангелам
на Страстной негромко подпевать.
Вдруг они песком отдраят начисто
всё моё, в занозах, естество,
вдруг сумеют обменять на качество
чертово число того-сего…
Помолчав с Твоею рядом Книгою,
набухают силою слова.
Певчий в дальний путь уйдёт расстригою,
а душа останется жива.
Вдруг она, невольница упорная,
в подлые не вхожая дома, —
не на склейке белого и чёрного,
а на схлёсте страсти и ума, —
тронет слух такой чистейшей нотою,
так до дна пронизывая тишь,
что и дуре-плоти квазимодовой
Ты её бездушие простишь…
Что же держит нас здесь...
Вот и угол больницы, где бледно-весенней улыбкой
попрощался со мною Иван мой, предчувствуя смерть.
Та апрельская боль возвращается смутою зыбкой.
Но не лучше побег от неё – карусель, круговерть.
Вот и стены тюрьмы, где Василия били кастетом,
как за тысячу вёрст, на Лубянке, костили Петра...
На Холодной горе освежили салатовым цветом
бок тюряги весенней. И солнце сияет с утра.
Сватья-баба-судьба, как верна твоя злая натаска!
Снова в дуре-копилке хохочет над старостью медь.
Стал я сивым и яркому колеру верю с опаской.
Отчего ж до сих пор
не устал поутру молодеть?
Что же держит нас здесь – на просторе, мазутном и плоском?
Ты ли, ветер-свежак неиспорченных вешних времён?
Не бурлацкий же стон, не уста же, залитые воском,
не борца же за светлое завтра
в зенице патрон?
"И не стану я клясть косоротое хищное время" –
говорил я вчера и сегодня скажу наперёд.
Улыбнётся Иван не простой, золотой, теореме:
жизнь и хвори минуют,
а Пасха все дОлги вернёт...
Христос въезжал на фетровом ослёнке...
Христос въезжал на фетровом ослёнке...
Христос въезжал на фетровом ослёнке
в золотоверхий град Ершалаим,
и пели ветки пальмовые звонко
над ним, тигровооким, молодым.
То дети, веер зелени вздымая,
живили воздух над его челом.
И обмирало сердце, вспоминая:
«Авессалом, Давид, Авессалом...»
И вот прошло две тысячи подлунных
необратимых зим, жестоких лет.
И, что б ни взялся ты сыграть на струнах,
а выстраданней нот в клавире нет,
чем ослик тот, апрельский привкус чуда,
чем запах вербных веток у лица,
и свет тревожный, бьющий отовсюду, –
бессонный взор Вселенского Отца...
-------
Живопись - М.Нестеров
Спускаясь на лазурный март Равенны...
Флоренция гнала пинками Данта,
и клювом Зальцбург Моцарта долбил.
И ты, мой продувной, ты, без ветрил
сквозняк-степняк, мой град, – понты-пуанты, –
ещё сто лет пиита не простишь
за собственного облика убогость…
Господь и тем являет пастве строгость,
что всех бедней – в Его часовне мышь.
Таков я сам – импровизатор фраз,
жонглёр гармоник, амплитуд и фаз,
знаток с прадавних пор, не напоказ,
бесплатных интегральных исчислений…
Но к камню Данта в солнечной Равенне,
полуденной не оставляя тени,
в гурьбе икрою выметанных масс,
дальневосточных узко-острых глаз
я приближаюсь снова, – здесь-сейчас
иль там-тогда, – координаты зыбки…
Зеницы-осы, бабочки-улыбки
и акварельных ласточек язык.
И здесь же – спутник мой, почти двойник,
пространство крепко взявший за кадык
герой Угры, Бородина и Шипки
и прочих битв на бронзовом коне.
Но маршалы на марше – сон во сне
не мне, другому пехотинцу, в жилу.
Полвека простота моя служила –
кому, зачем?.. «Доколе?» – не вопрос,
зане и ноет шрам, и сломан нос
кастетом. И мотает аритмия
по ямам так, что ямбам не до рифм.
Всё жрать хотят твой ворон и твой гриф,
край отчима, Горыныча и Вия!
Знать, скифа череп сплюснут навсегда…
Но здесь, в Равенне, сонная вода
журчит. Насквозь пропитан полдень солнцем,
над гробом-квадром Данта – гид японцам
лепечет нечто о кругах-путях,
о девяти спиралях-терренкурах,
о свежих, и не очень, новостях,
пропетых в Пятикнижии и в сурах.
И здесь, где далеко за тыщу лет
златятся смальтой своды византийства,
тишь – вдевятеро подлинней витийства,
и девять раз по девять голубь-свет,
спускаясь на лазурный март Равенны,
готов на ноль умножить брендов бред,
тирады поражений и побед, –
лишь пёрышка касаньем... Вдохновенно
с весной бегут по веткам перемены,
сверкает циферблат, как амулет.
И тишью, так похожей на завет,
ложится в память ясноглазый день
в Равенне, где голубка-коломбина
флиртует с тенью Дантовой орлиной
и где сравнима с ядерной доктриной
соском лиловым взбухшая сирень...
Давай, художник мой, продолжим этот драйв...
Дизайнер
Анжело Литрико, мой италийский друг,
отмечен столь застольною фамильей,
что чарка тотчас чертит полный круг
воздушный над Романою-Эмильей!
Анжело Литрико, единодумец мой,
иглы и нити вдохновенный мастер,
одел мой торс в прикид передовой –
лихой, как галактический блокбастер.
Любезный Литрико! Рубаху из полос
цветов твоих – куда уже цветнее! –
клянусь, я и доднесь не перерос
и верен близким отношеньям с нею.
И то, мой ангельский! – Ну где б я отыскал
соратника по колеру, по вере
в лоскутный пир коралловый, в кристалл –
магический, в ямбическом размере?
Давай, художник мой, продолжим этот драйв –
сравненье наших родственных гармоний!
Звучит «ти амо» ловче, чем «ай лав»
здесь на холмистом ренессансном лоне.
И фра Анжелико я вспомнить захочу,
поскольку сходство двух имён – глубинно.
Мой Литрико! Нам мифы по плечу
не те, что порчу кутают в парчу... –
Простые, но с кровящей сердцевиной!
---------------------------------
Из книги - С.Шелковый Небесная механика, Киев, "Радуга", 2009 г.
Где искры бьют сквозь тонкие слои...
* * *
Хав прорвался по левому краю,
засветил парашют над штрафной.
До сих пор я свой гол забиваю! -
Сквозь июль, сквозь пылищу и зной,
мяч плывёт круглой рыбиной в сетку,
серафимом и сферой парит,
огибая дугой пятилетку
и тотемы стахановских плит.
И за клинья шумеров в ответе,
за всех рун и руин Вавилон,
блещут смуглыми икрами дети,
ибо к насыпям, с южных сторон,
солнце шлёт на холерные травы
цвет и мёд, без фальшивых речей
пустыри оживляя для славы
турбулентных - навылет! - мячей...
Игрища
Увы, окутал дым учителей,
подсыпав соль в усы и перец в баки.
Но звонки зовы сверстников-друзей
сквозь все шумы, ристалища и драки.
Сидячие притворства позабыв,
исполненные протокольных бдений,
и ныне чую гончих ног порыв,
в укусах йода сбитые колени.
О, частый пульс футбольного мяча,
о, игрища, сродни высокой драме!
Вопящий "Мимо!" Коля Каланча,
облитый неподдельными слезами...
О, ног-смычков мажорная возня,
и точностью, и остротою паса
гармонии учившая меня
задолго до октав Торкватто Тассо!
Там был в цене вольнолюбивый нрав,
и слабый духом не был там в почёте.
А кто был прав и кто чуть меньше прав,
почти бесспорно отражалось в счёте.
Усталые наставники мои!
Ваш синус регулярно повторяя,
душой я там, где вольные бои,
где искры бьют сквозь тонкие слои –
в вечнозелёном безнадзорном мае!
* * *
То в кофе окрас, то в какао,
то в смуглость вечерней зари:
Тостао, Брандао, Фалькао –
футбольных баталий цари.
А вот и факир Батистута,
ваяя трёхсотый свой гол,
парит невесомо, как Будда
над летним лужком маттиол.
И снова ристалищ и хлеба
взыскуют Милан и Мадрид.
И форвард, как молния с неба,
на грани офсайда искрит.
Чтоб завтра, взлетая над квотой,
и сам ты пробился в финал
и с пылу, и с жару, и с лёту
взметнул к небесам с Тьягу Моттой,
с Фалькао – трофея фиал!
2016
Оттого и врастали в перо неумелые пальцы...
* * *
Лишь с летящего почерка всё начиналось когда-то,
лишь со взора ревнивого, с юной, до дрожи, руки.
Под лиловою строчкою выцвела давняя дата –
Рим и Трою с тех пор поглотили снега и пески.
И полмира с тех дней в деревянной тяжёлой одежде
на плечах домочадцы и други во тьму унесли.
Странно жить и теперь, но тогда, но в мальчишеском «прежде»,
трепетала душа, отрываясь от вязкой земли.
Оттого и врастали в перо неумелые пальцы,
оттого прорезался во лбу неулыбчивый глаз,
что мы все, как один, на минуту по свету скитальцы,
и уже через миг будет некому вспомнить о нас.
Шевелятся разбухшие, вечножующие, туки
погребальных холмов...
И на каждой юдоли – тавро.
И за воздух хватаются новорождённые руки,
чтобы некая птица в ладонь уронила перо.
В узорах звёзд безмолвно и спокойно...
* * *
Но, если вправду мафия бессмертна,
а суть заветных слов едва слышна,
не стали бы над ночью так несметно
сиять созвездий коды-письмена!
В узорах звёзд безмолвно и спокойно
живёт очеловеченность небес.
Земные царства - злобно непристойны.
Но ангелы, прошедшие сквозь войны,
неумолимо зорки и убойны,
спешат мутантам зла наперерез.
Рай, радость, радуга...
Детство
Рай, радость, радуга. Дни - дети бога Ра,
цветущие ромалы Рамы Кришны.
И, босоногий, посреди двора,
средь муравы июльской я - не лишний
ни век назад, ни в нынешние дни,
где сердце всё больнее кривдой сжато...
Чудесник Ра! Спаси и сохрани
тот счастья луч под яблоней в тени,
где мы с тобой вдвоём молчим, одни,
и радуг тех воздушные палаты!
Как сестра милосердия, бел и целебно-душист...
* * *
С января на февраль на часах перепрыгнули стрелки,
на облезлых обоях расцвёл василёк на стене.
Снова вспомню, вдогон стрекотанью, о Стрелке и Белке,
о дворнягах, сгоревших дотла на холодной войне,
Не забыть и стрелков начеку, чикатил - из ежовских -
без полслова раскаянья, без искупленья грехов...
Здесь, в промёрзлых тенётах, в широтах безжалостно жёстких,
счастлив, кто доживёт до июньских прощённых стихов.
С января на февраль календарь передёрнет картинку.
За окном - минус двадцать, и сдох жигулёнка движок.
Подгребает планета Нибиру, всем нам, - под сурдинку, -
подбивая счета за всеобщий друг другу должок.
Поднебесный ли рухнет огонь к Африканскому Рогу?
За чеку ли потянет норвежец, шизоид-бомбист?
В нескончаемом празднике знанья печали премного.
Но пока что во тьме за стеклом дышит снег, слава Богу, -
как сестра милосердия, бел и целебно-душист...
Скоро будет всё совсем иначе...
Есть отвага предчувствий...
* * *
О.М.
Говори, говори о плечах европеянок нежных,
гнутоклювый и чувственный, слабый и вечноживой!
А замолкнешь - лишь ветер и взвоет в пределах бесснежных,
пережёванных, сплюнутых золотозубой Москвой.
А смолчишь - только падальщик и прохрипит над равниной,
костяной распахнув, с кумачовой нутрянкою, зев.
Азиатские скулы холмов перемазаны глиной,
и по мокрым щекам прорастает озимый посев...
Не молчи - да пробьётся высокий обман говоренья
через вязкую кривду осенних и зимних дождей!
Городская квартира больна теснотой и мигренью,
а за окнами - неразличимость случайных людей.
Не смиряясь, бубни, пересмешник надсады и горя,-
и цитату цикады, и лиса Улисса завет!
Отчего в этом чуждом для жёстких ушей разговоре
неизбежность сквозит, как под дверь проливается свет?
Есть отвага предчувствий. И ею пульсирует вена,
в её ритме возможно вразрез пересечь ледоход.
Причастись - и над чёрной водой пролетишь непременно.
Как напомнил ещё один Осип: "Решимость ведёт..."
Не верю я словам, но сердцем чую голос...
Завтра, 9 января, исполняется 95 лет
Бориса Чичибабина.
Публикую здесь одно из своих стихотворений,
обращённых к его памяти.
У могилы Чичибабина
Не плачь, не плачь, Яськов*! -
Он больше, чем возможно,
остался, - и уйдя, - живым среди живых.
А дым его махры, мятежный и тревожный,
всё тянется за ним, - пахучий, словно жмых, -
с тех лесопильных лет, казалось бы далёких,
что в ватнике-фуфле и нынче прут во двор...
О волчьих колерах да о собачьих сроках
доныне на Руси не кончен разговор.
С чего б и тише стать охриплости напева
о Вятке-Колыме, о Воркуте-Мордве?
Обмылок справа мок, торчало шило слева. -
Патруль сменил патруль на курве, на Москве...
И тот же вертухай, брехливый дядька-Киев,
из мутного Днепра вовсю гребёт улов.
Не сыщется на нас погибельней батыев,
чем эти, из своих занюханных углов!
Уйми слезу, Яськов, под добрыми очками
и облаку махры вослед в стихе вздохни,
как ранены глаза щепой на пилораме
и в эти, - ну, ничуть не радостнее, - дни.
Не верю я словам, но сердцем чую голос,
который свыше дан, не предан, не пропит.
Ядрёная зима! - Скрипит морозный полоз.
Сдирает стужа скальп и плакать не велит.
-----------------------------
*В. Яськов - харьковский поэт и эссеист, друг Б.Чичибабина
Распахнут окоём...
Распахнут окоём...
1.
Прохлада и чабрец. Набыченный козёл
наследовавший нрав заржавленной пружины,
стеклянные глаза, грязно-седой камзол
и лучшие рога Ай-Петринской вершины.
Лачуг дырявых свист. Навалом мусор-вздор
насыпал раб земной у входа в поднебесье.
И будто бы шепча младенческий укор,
трепещет на ветру поодаль редколесье.
И этот березняк уже не смерд садил:
когда-то и сюда, знать, поднимались люди –
кто с саженцем в руке, кто с ковшиком белил,
а кто с глотком вина в охотничьем сосуде.
Дыхание чабра. Прохладно-жидковат
обрывистых вершин предсумеречный воздух.
Там где-то, у подошв, скликают газават,
но тишь небесных трав настояна на звёздах.
Распахнут окоём. – Ракушки городов
нанизаны внизу на нити побережий.
За веком век плывёт над яйлой без следов,
и лезет на козу лупатый здешний леший.
2.
Коньяком «Ай-Петри» угощали
на макушке этой же вершины
Тюрки при бочонке и мангале –
крымско-мусульманские мужчины.
Скалы ли, зубцы, клыки, отроги –
подпирали купол мирозданья...
Вежливый вопрос звучал в итоге:
удалась ли сочной снедь баранья?
Оттого ли, что пунцовой феской
оттенил я шрамы и седины,
был смягчён хрящом гортани резкой
клёкот из воинственной щетины?
Потому ли, что, от лоз чуть пьяный,
отражался я кальяном медным,
синий вечер яства дастархана
оживлял в орнаменте приветном?
Снова на вершине воздух хладен
вопреки теплыни у подножья,
и в изломе скал и скальных впадин
светится пунктир узора Божья.
Вновь пасутся на Ай-Петри кони,
жеребёнок губы тычет в вымя
матери. И привкуса погони
нет в шашлычном поднебесном дыме.
Хромом брезжит, никелем прохладным
звон стремян или ключей от рая.
Если б время не было всеядным,
можно было б жить не умирая...
3.
Мы с тобой вдвоём придём на Суд,
станем над бескрайними гробами,
белый опечаленный верблюд
с плотными шерстистыми горбами.
Истрепал халат багдадский вор,
борода слиняла, пооблезла.
Но цветёт узором твой ковёр,
что кладёшь ты всаднику под чресла.
Вновь я на престол Ай-Петри влез,
сел Тимуром меж горбами брата.
Ты и я - лишь прах у стоп небес,
даже если бисером богата
тюбетейка на моей башке
и твоя узда с кольцом сквозь ноздри.
Каждой жилкой, в каждом корешке -
чужаки мы козьей коза-ностре.
Жуй колючку или "Китти-кэт",
всё равно в глазах - табу и мыто
у трудяг, которым места нет
близ щедрот овечьего корыта.
Мы с тобой придём на скорый Суд
в долгом и упорном несогласье...
Над травой крапивницы снуют,
и каймой вокруг седла цветут
сто газелей вытканного счастья
Золотые глазищи за так даря...
В пять часов – ни души, ни бродячей собаки
в темноте тридцать первого декабря.
Темно-синий Гурзуф чуть звенит во мраке,
золотые глазищи за так даря.
В каждой лавке кусок – кусает однако,
шкуру с позднего путника всласть дерут.
Лишь зрачок огня во вселенстве мрака –
и цветок на грудь, и значок за труд.
В зимнем воздухе угольный выдох дыма. –
Так полвека назад из белёной печи,
от забот твоих, милая, неопалимо
расцветали румянцем добра калачи.
Сквозь пространство и запах приходит, и привкус –
полнотой возвращенья утрат щемит.
Ясно-зимний Гурзуф – самоцвет на вынос,
самопал, воссиявший от искры быт...
Зимняя гостья
От чёрных кур – коричневые яйца,
от сонных крыльев – сумрачные сказы…
На ветках ночи – оторопь скитальца,
в зрачке нетопыря – осколок фразы.
Дошкольник и едок пустого супа,
над россказнями вскидываю брови:
от чёрных кур – кофейные скорлупы,
с двойным желтком, двойною искрой крови…
Вода на киселе, стократ прокислом,
старуха-гостья, плесени золовка,
носищем шевелит, до губ отвислым,
но как ведь врёт да как дурачит ловко!
На ужин напросясь, жуя, бормочет
про кума, что от ломтя в горле помер,
а в кукиши скукоженные очи
какой-то свой прикидывают номер.
От чёрных кур – серебряные яйца,
с налётом чая, как на старой ложке.
В Кощеевой клешне царевны пальцы,
а страхи разом – истинны и ложны.
Стращай, вещунья, чернобайствуй снова! –
Вокруг меня стоят в снегу живые,
собаки, горностаи и коровы –
все звери, шерстяные, роговые.
Все гербовые твари, родовые
стоят и дышат розовою пастью –
и заслоняют от Яги, от Вия,
от нежити, от выродка во власти…
Стогами пахнет, зверем и макухой.
От чёрных кур мой сон до жути ярок. –
В Сочельник забрела на час старуха,
пяток яиц оставила в подарок…
Ты слушаешь музыку неба...
Ты слушаешь музыку неба...
Пройди по первейшему снегу,
по полночи наискосок!
И что за нужда человеку –
искать полнозвучней исток?
Ведь искренней, звонче, белее,
чем прописи снежной карат,
не скажут ни «Четьи минеи»,
ни «Суммой» прославленный брат.
Ты слушаешь музыку неба,
но слышать мешают шумы –
лихие добытчики хлеба,
умельцы, глухие умы...
Но если уж снег выпадает
средь полночи и средь судьбы,
то ангелов очи рыдают
от счастья и светятся лбы!
О, только б никто не услышал
ни их, ни тебя, – им в ответ, –
и только б наружу не вышел
исполненный щедрости свет!
Ступай по целебному снегу,
по пустоши, по белизне,
по манне, мечте, оберегу!
Узнай окоёма омегу
в ночном тёмно-синем вине!
Посох ладони, плечам ли сума...
Вновь подступает средь ночи зима,
белым ложится на чёрную землю.
Равною мерой, что будет, приемлю –
посох ладони, плечам ли сума.
В мокрую глину, в ноябрьскую стынь
падают конники и пехотинцы.
Мёртвых венков – ярко-дики гостинцы.
Я бы хотел к изголовью – полынь.
Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну – и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...
Для кого на земле - светопад, первоцвет, снеговей...
Для кого на земле - светопад, первоцвет, снеговей
За себя не боюсь, но за малых моих, но за присных
неспокойна душа, всё болит среди ночи душа.
Я глотаю вино на сосновых, на глиняных тризнах -
это сверстник опять в одночасье уходит, спеша.
И глотаю, давясь, злое зелье на нищих поминках -
два гвоздя, две слезы да поспешно два слова вослед.
Смяты травы добра на горбатых ничейных суглинках,
лишь колючий репейник топорщит разбойничий цвет.
За себя не страшусь, но за них - угловатое племя,
за оставшихся здесь, среди смуты, глазастых детей -
не кляну тебя, век, но прошу тебя, вздорное время,
дрогни волчьей губою и юную кровь пожалей!
И не стану винить тебя зря, плотоядное время,
ибо всё-таки смерть оставляет живущих живей...
Только звуком, развеянным в воздухе, вздрогну над теми,
для кого на земле - светопад, первоцвет, снеговей...
И правда в том, что ныне не иначе...
1. Анонс
В скором будущем я допишу стихи
«Дорогой Дракула» и «Триста лет ворону»,
а затем, похоже, и «Шорохи Шемахи»
с «Разложением в ряд по Маклорену».
Плюс – «Цветы лихолетья» готовы взойти,
освежив мрачноватые «Складки местности». –
Вот полдюжины почек на ветки пути
растерявшей веру в себя словесности.
А поскольку теперь ни одна кузькина мать
не спасёт от Быка, партзолота, дона Алонсо,
я решил, что неплохо бы дать в печать
что-то очень краткое – в форме анонса.
Ибо что и вспомнишь из «Илиады» всей?
Редко имя автора или героя.
Чаще – лозунг, хлёсткий, как шторм-борей:
«Чрезвычайная тройка», «Троица», «Троя»…
2. Письмо
Драго-Дракула, с третьим столетьем ворона
не поздравил тебя, но к Покрову пишу…
Ветер рукопись рвёт и несёт во все стороны
запах гибели – палой листвы анашу.
А как дым погребений проест в экологии,
в окоёме озона, сквозную дыру,
в эту брешь устремятся, инкогнито, многие –
по ночному винту и с возвратом к утру…
Прошмыгнув параллельными координатами,
лабиринтами, броуновской кутерьмой,
вдоль кротовых проходов толкаются атомы,
чтоб любыми маршрутами, блогами, чатами, –
но прорваться к истоку – к порогу, домой…
Тем же фортелем, Дракула, тень Трансильвании
со шнурками усов и с шиповкой хвоста,
догоняет меня. Здесь, в шершавой компании,
древесина осин – семикратно чиста!
На безрыбье, в безлунье состряпаны выборы
здесь, где век-вурдалак всё живое гнобит,
где трансформеры-гопники, киборги-килеры
всё надменнее корчат значительный вид.
Вот и брызжет мне, княже, багряными фесками
в очи время. И ломится в грудь шариат.
Ты ведь прав – над Кощеями и Чаушесками
правя требу – псалмами, до крайности резкими...
И семь раз осенён – твой осиновый клад!
3.
* * *
Правитель Цепеш в замке Тырговишты
макает в миску с кровью пайку хлеба.
И воют с кольев хрипло: «Да взгляни ж ты
на злую землю, Вседержитель неба!»
И правда в том, что ныне – не иначе
стучат часы... Под мантией и рясой –
всё те же лапы, волчьи да собачьи,
всё тот же дьявол власти, рубщик мяса.
Теряет казням счёт Средневековье,
не каясь ни на век, ни на минуту.
Влад Дракула под угольною бровью
глаз рачий, вурдалачий пучит люто...
Поминаю, молюсь. И живу...
Мы ль не призваны, мы ли не званы
на доселе невиданный мор,
богохульного века Иваны,
братья гиблые мёртвых сестёр?
Мы ль не призваны, званы не мы ли
хрипом ворона и петуха?
Век рассыпался лагерной пылью,
горстью пепла, горою греха.
Да не имут убитые сраму.
Молочай серебрится на рву.
Скорбный храм
и тропа моя к храму... -
Поминаю, молюсь. И живу.
--------
Живопись - П.Филонов
И очи промыть родниковою певчей водою...
За это приходится дырами в шкуре платить,
Короткою жизнью и тысячелетней тщетою.
Но, Боже, как сладко на слове хлебА замесить
И очи промыть родниковою певчей водою!
За это - плати опозданьем в борьбе и гульбе
И каждому «здравствуй» - «прощай» отвечай бестолково…
Соленая трещина на непорочной губе.
О млечное время, небесное первое слово!
То было зимой, и по городу ель пронесла
Декабрьского леса тяжелые хвойные ветки.
В квартире был сумрак, парили окон зеркала,
И тявкал терьер за стеною у левой соседки.
За стенкою справа невидимый Карпов-сосед
Хрипуче-надсадно боролся с вечернею астмой…
И вспыхнула фраза! – И хода обратного нет
Ни в ясные дни, ни в века канители ненастной.
Минута, секунда... Но разве длиннее судьба?
Тавро золотое на серой обыденной шкуре!
Еловая песня в снегу... Набухают хлеба.
Замешаны здесь – а на Рейне хрустят, на Амуре!
Синиц налетела стая...
Синиц налетела стая,
а следом снежный заряд,
обрывки листвы листая,
спешит отпеть листопад.
Не все у меня, знать, дома:
мне мил этих птиц атас –
их лётных нырков изломы,
и бисер лукавых глаз.
В порханье пернатых гномов,
в примете предзимья – знак
хандры корней полиномов
во взорах ничьих собак.
Вещун нерифмованных лекций
и лабораторных работ,
я мыслю, что Секст Проперций
на Патмос не позовёт,
но те полсловца, что Клюев
припас в лубяном туеске,
протенькают в тонком клюве,
блеснут в заводном глазке -
тем утром, где вестник стужи,
небритый гиперборей,
хрустя целлофаном лужи,
защёлкнет, на никель, туже
ошейник ручных зверей.
Теперь, когда зовут отец и мать...
* * *
Но лето лицемерно, словно жизнь.
Честней зима. Она смертям роднее.
В каком лугу с красой ни закружись,
а дольше лета не поладишь с нею.
Теперь, когда ни явь, ни зелье снов
не льнут к губам, ещё недавно смелым,
крепчает смысл гекзаметра без слов,
узора на стекле заиндевелом.
Теперь, когда зовут отец и мать
на берег свой, под полуночный полог,
что дому опустевшему сказать,
вселенскому сиротству книжных полок?
Ранняя осень шуршит о тебе, о живом...
Памяти поэта Имануила Глейзера
Длится твоё завещание: «Будь и пиши!»
словом сердечным и великодушным приветом.
Длится завет твой над южным, над радужным летом
и не угаснет без боя в сугробной глуши.
Ранняя осень шуршит о тебе, о живом,
о неубитом ещё на мосту Сан-Франциско…
Вроде, лететь тебе в Крым и в Молдову неблизко,
а только ясно я вижу: за общим столом
с Имом Борис и Арсений с Сергеем сидят,
над виноградом молчат, но – по-братски, любовно.
Дружество душ – целомудренно, немногословно.
Склянки сдвигаются, полня ямбический ряд.
Более в чуткости струн, чем в клавире стиха, –
суть этой непостижимой, загадочной жизни.
Груда муската – глава Иоанна на тризне.
Осень тиха и не не ведает клятвы-греха…
Дышит простужено осень...
* * *
Слышишь, мелодию плавно и точно выводит
тот, у кого это клеется, - лабух ли гений?
Cлышишь, всегда недовольное время уходит?
С шорохом прячется в ворох кленовый осенний...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо - услышать
даже себя самого, даже кроткого брата.
Дышит простужено осень. А светит ли выжить -
знает лишь очень большого умища палата.
Рядом с палатою мер и весов, по соседству
с будкой-киоском, с ларьком всенародно-всеядным,
рушатся с ходу на цель беспородные средства,
свет разжижается в воздухе чёрном, бесплатном.
Мокрых огней и промозглого вечера гамма -
вряд ли уступит в живучести золоту-сини.
Темень ломая, в разломе царит панорама,
магний дуги, магнетизм неопознанных линий.
Это мелодию, дудку строгая, выводит
кроткого отрока никелированный ножик,
это иглу прямо в мышцу сердечную вводит
скорая помощь созвучий, досель невозможных...
Светился день, сухой, пригожий...
Застывшим солнечным оврагом,
сквозь голый зябкий краснотал
октябрь, почти неслышным шагом,
свой день последний отмерял.
Светился день, сухой, пригожий,
летучей нитью повитой.
И пахло в воздухе рогожей
и чистой льдистою водой.
И вниз по склону буерака,
навстречу мне, тропой-змеёй
вдвоём с лохматою собакой,
пацан-школяр спешил домой.
И так улыбчивая псина
светилась влажным языком,
так ранец с глянцем дерматина
до звона в пульсе был знаком! –
Как будто бы не четверть века
по небу моему прошла,
а только покачнулась ветка,
и из-за вербного ствола
я сам спешу себе навстречу
сквозь тот же солнечный овраг –
всё тот же мальчуган беспечный
в добротных чучельных штанах...
Осенней горы золотые глазища...
* * *
Осеннее море июльского чище,
прозрачней, стекляннее и холодней.
Осенней горы золотые глазища
полны виноградных зернистых огней.
Прохладно и солнечно. Веет мускатом
от грядок кудрявых на спелой горе.
Не быть мне ни юным уже, ни богатым,
не выиграть приз в муравьиной игре.
Зато мне осталось – вспорхнули фазаны
из рыжей листвы виноградных шпалер,
и солнце взошло яснощёко и рано –
на молодцеватый июльский манер.
Осталось – еще не остывшее море,
сентябрьского воздуха мятная плоть.
И в синем, чуть-чуть ледовитом, просторе –
молекул-минут золотая щепоть.
Над срубом сосновым задумчиво осень...
Крестьянский колодец, оконце живое -
четыре берёзы растут по углам.
Склонились к окну - им поётся по-своему,
как снились их косы залётным ветрам.
Над срубом сосновым задумчиво осень
четыре свечи белоствольных зажгла...
Последние дни - и мгновения-осы,
пылинками злата и чёрного зла
мелькают... И в каждом - тончайшее жало,
и жгуч, и пьянящ неразбавленный яд.
"Как лето с собой нашу радость умчало!" -
чуть наискось листья над срубом летят...
Четыре свечи отгорят без остатка -
плакучим и русоволосым огнём.
Пойдём же, мой пёс, - откровенье так кратко!
К лачуге, с листвою на крыше, пойдём...
Августовский сгущается зной...
* * *
Августовский сгущается зной,
и текучий огонь "Изабеллы"
вдоль гортани горячей волной
проникает и в душу, и в тело.
Цезарь пьян, и, похоже, стихи
любят бодрый напор возлиянья.
Солнца святость и мира грехи -
свет единый в багряном стакане!
Как причастье, по капле беру
на язык крепко-терпкую влагу.
Пью за жизни большую игру,
за любовь её, риск и отвагу.
За всё то, чему быть суждено,
за невольничьи зимние сроки,
чтоб в бродильном апреле зерно
разродилось опять у дороги.
Скоро уйдёт загорелое лето...
* * *
Выносив джинсы от голубизны
до белобрысого, ватного, цвета,
скоро уйдёт загорелое лето
сквозь разогретую пряность сосны. –
Отгулеванив на хрустком песке
и на речном округлённом теченье,
лето в иное уйдёт измеренье –
яблоко в сумке, душа налегке...
А за рубашкою спрячет тетрадь,
где не окончены в рифму заметки,
где меж листами – полынная ветка.
Чтоб, через год воротясь, дописать...
Был ореховым год позапрошлый...
Был ореховым год позапрошлый,
а два года за ним - ни шиша...
Век-снабженец, и ушлый, и дошлый,
делит пайку, мякину кроша.
Раб бесценностей материальных
гиблой жажды не в силах избыть.
И вдоль долгих затмений кабальных
брата Каина тянется нить.
Время пляшет без страха и срама.
Как похожи полвека на миг!
Но исток свой, - до хлама и спама, -
и теперь я любить не отвык.
Нувориш, деревянное рыло,
у межи мой спилил абрикос.
Много ягод оранжевых было,
солнце белым наливом светило.
Не осталось - ни яблок, ни слёз...
Там, где Китеж в стеклярус оправлен...
* * *
Там, где Китеж в стеклярус оправлен,
за пространством, за оптикой рам,
делит дым с воробьём Чичибабин,
сыплет семя щеглу Мандельштам.
Где в окно деревянною буквой -
"Гутен морген!" - стучит Гутенберг,
там ты рос и босотой, и букой,
но гремучих кровей не отверг.
На шершавых задворках бессонниц
нахватавшись репьёв, аки пёс,
от щедрот хулиганских околиц
ты бодрящую дерзость унёс.
Оттого и кивал тебе старый,
что в массовке над чёрной водой,
как винчестером, выхвачен фарой,
до сих пор ты плывёшь молодой!
Из блокбастера вытурен напрочь,
из бестселлера выдут харчком,
сладишь звук - некривой и не навзничь -
нефальшивым подпишешь крючком.
Умягчишь его именем женским,
детским дискантом кликнешь с собой
и Рождественским, Преображенским
синим дымом над рыжей трубой -
полетишь
над мазутной водою,
над острогом - Холодным бугром -
над сестрою, бедой-лебедою,
семижильной травою седою...
Снег с черёмухи, с тополя гром.
И снова ждать рассветный лепет птичий...
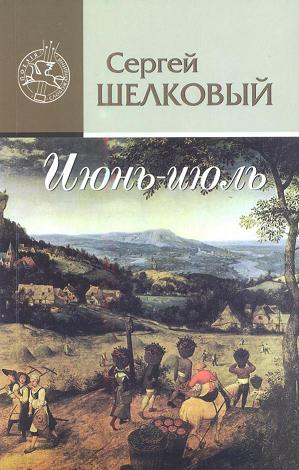
И снова ждать рассветный лепет птичий...
Ещё любил я первое июля,
когда после дождя опять светло,
и солнце золотит в столовой стулья
и брызжет на гранёное стекло.
Как дышит рухлядь в этом доме старом –
открытки, ноты, бастионы книг!
Все шло к тому, чтоб тайно и задаром
я некий мир из воздуха воздвиг.
А что ж ещё в бездомном певчем звуке?
Грудинных струй волнистая игра...
И ни на рубль скептической науки,
ни на копейку прочного добра.
Слова о лете – обречённей лета.
Глотни вина, поозоруй чуток –
и ласкою предсмертного привета
закончи рукописный завиток.
Иди же, ночь! Как ладен твой обычай,
дружок-сверчок, игруля из игруль!
Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей,
и снова ждать рассветный лепет птичий:
«Июнь-июль, июнь-июль, июль...»
Я в Джубге был тогда...
Джубга
Я в Джубге был тогда. Она названьем
мне розу-джан средь жара джигитовки
напомнила. Рот опекла аджикой.
чтоб с губ не стёр я поцелуя вкус.
В спираль свивая махаона ус,
прохладное, нарзаном пахло лето.
На водных крыльях мчала нас «Комета»,
вся в пене, отойдя от Туапсе.
И море было солнечно-зелёным –
бездонный, разливанный изумруд…
И бесконечность над волнистым лоном
протяжно пела: "Чист и честен суд. -
Все умерли. И все ещё умрут"...
И там, в один из дней, перед закатом,
зелёное легло над морем солнце.
о чём как о явлении природы,
редчайшем, восклицал в «Труде» спецкорр…
Кудрявились кусты подростков-гор,
цвело над морем солнце, зеленея. –
Тогда поверил я глазам своим
и до сих пор им, прежним, доверяю,
включая в помощь, впрочем, третий глаз –
дозорный лазер, бьющий, может статься,
с благословенья тонких лунных фаз
и всех иных реликтовых вибраций…
Во мне, молочноспелом, зрели мысли,
роились, словно атомы в пространстве,
сливаясь в неопознанный узор.
И всё крутили фильм «Багдадский вор»
тогда над морем. Мама, брат и я
снимали под сырой горой лачугу.
Шестнадцать мне. А маме тридцать восемь.
Теперь я старше прежних нас троих,
всех вместе взятых. Зеленело солнце,
и по горе, кустистой, предзакатной,
взбирался я, настырно продираясь
сквозь тернии кизила. Стол пин-понга
на лысине холма, кренясь, стоял –
один на всю пустынную округу…
Снимали, говорю, сарай, лачугу,
в копеечной хибаре ночевали.
Вдоль хилых стен – три утлые лежанки.
Есть дверь, но – ни единого окна:
едва на стенке щёлкнет выключатель -
темным-темно, не видно ни шиша…
Поймали как-то в сумерках ежа,
он и шмыгнул под среднюю лежанку.
За ним Митяй мой руку протянул,
а тот его – возьми, хвати за палец…
Вот так нас и грызут полвека, братец,
без срама бесовские кумовья,
породы вурдалачьей не тая,
то в сонные, то в становые жилы
впиваясь. Ну, а мы, похоже, живы,
как там тогда, в приморском том селе…
И потому в чернильно-влажной мгле –
ни полслезы, мой кровник белобрысый!
И ни проклятья, большелобый брат!
Пускай уж ежевики синий взгляд
нам светит с гор, и глазки барбариса
подмигивают варварским огнём.
Ночь отстояв, мы выдюжим и днём -
с ежом-бомжом и беса развернём…
И жизнь, и смерть в одних мигают былях.
Придёт карга – не изменись в лице,
лишь в притче о взрослеющем юнце
взойди на катер на подводных крыльях,
что старт берёт от порта Туапсе.
Вишни красные, белая скатерть...
Бормотун, домовик неказистый,
скособоченный временем том...
Эта книга из рук букиниста
пахнет давним чужим табаком.
Нет, былое в потёртой обложке
я недаром сегодня раскрыл.-
Горьковато-пахучие крошки
встрепенули молекулы крыл.
Чей-то взор, настигающий, смелый,
меткой искрою брызнул в меня,
штрих-пунктирною ниткою белой
дёрнул зуб из молочного дня...
В этом сне моя кожа упруга,
там опять наяву я смеюсь,
ни кривого порочного круга,
ни своей прямоты не боюсь.
Та же нитка на шею надета -
с белым кремнем, омытым в реке.
Налегке беспредельное лето,
бесконечная жизнь - налегке!
Свет веранды. И деда приятель
тем же, давним, горчит табаком...
Вишни красные, белая скатерть.
И лимонница под потолком...
Пока мы дышим...
* * *
Пока мы дышим, смерти нет.
И вслед за ней - мы живы снова
в иных слоях. Не счесть примет
мерцаний мира неземного.
И я по зыбкому лучу
вернусь к тебе, мой сын, оттуда,
зане одно сказать хочу:
"Любил, люблю и снова буду
хранить тебя, мой книгочей,
мой хрупкий, грустноокий отрок!"
Все сорок сороков свечей
зажгу я, отгоняя морок,
чтоб высветлить твои пути,
жестокосердые дороги...
До встречи, милый, не грусти,
ведь в хитро вытканной сети
и мы - бессмертны, словно боги.
К небу свет взойдёт изнутри...
* * *
Тополиный пух
отвитал.
Голубиный дух -
тих и мал.
После ливня бел
стал жасмин.
Цвёл июнь, как пел
Отчий Сын.
Сизари снуют
подле врат.
Где наш ум и труд? -
Стыдно брат!
Время набекрень.
Сорван пласт.
Разве, птичий день
зёрен даст.
Разве, вновь, на счёт
"Раз, два, три",
к небу свет взойдёт
изнутри...
И продлится Дух,
твёрд и тих,
как воздушных дуг
семь цветных.
Лето. Зелень. Храм.
Сизари...
Буду жив - воздам.
Изнутри.
Песня на эти стихи -
на авторском сайте seshel.ucoz.ru
Сегодня, в День Памяти...
Сегодня, в День Памяти жертв политических репрессий хчу вспомнить здесь лишь о трёх замечательных поэтах, пострадавших от людоедского режима - о Владимире Свидзинском, Василе Боровом, Борисе Чичибабине.
Василь Боровой - приговорён к смертной казни за антисталинские стихи, пережил десять лет норильских лагерей на гиблом берегу Ледовитого океана.
Борис Чичибабин - пять лет лесоповала в Вятлаге, тоже за стихи, неугодные режиму.
Только трое из миллионов и миллионов пострадавших, уничтоженных изуверами, прямые потомки которых и ныне поднимают волчьи и змеиные головы и алчут всё новых и новых жертв...
______
Сергей Шелковый
У могилы Чичибабина
Не плачь, не плачь, Яськов*! -
Он больше, чем возможно,
остался, - и уйдя, - живым среди живых.
А дым его махры, мятежный и тревожный,
всё тянется за ним, - пахучий, словно жмых, -
с тех лесопильных лет, казалось бы далёких,
что в ватнике-фуфле и нынче прут во двор...
О волчьих колерах да о собачьих сроках
доныне на Руси не кончен разговор.
С чего б и тише стать охриплости напева
о Вятке-Колыме, о Воркуте-Мордве?
Обмылок справа мок, торчало шило слева. -
Патруль сменил патруль на курве, на Москве...
И тот же вертухай, брехливый дядька-Киев,
из мутного Днепра вовсю гребёт улов.
Не сыщется на нас погибельней батыев,
чем эти, из своих занюханных углов!
Уйми слезу, Яськов, под добрыми очками
и облаку махры вослед в стихе вздохни,
как ранены глаза щепой на пилораме
и в эти, - ну, ничуть не радостнее, - дни.
Не верю я словам, но сердцем чую голос,
который свыше дан, не предан, не пропит.
Ядрёная зима! - Скрипит морозный полоз.
Сдирает стужа скальп и плакать не велит.
------
*Владимир Яськов - харьковский поэт,
эссеист, друг Б.Чичибабина
* * *
Памяти В.Свидзинского
и В.Борового
«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье
Индейский триптих
Индейский триптих
Клаудии Элизабет Ортис Энрике де Ульбрихт
и Роберту Фолькеру Ульбрихту
1. Мать-Луна
Над охрой глин агава голубая
с гирляндой колокольчатых цветков. –
От сочной плоти шкуру отдирая,
наследственный певец-ацтек готов
из мякоти агав намять текилы
и терпкий огнедышащий нектар
впустить в истосковавшиеся жилы
и в душу взять как Тоацины дар.
О, Мать-Луна, священная лягушка,
сглотнувшая из оксидана нож!
Плесни и мне текилы четверть кружки
и на четыре «пи» меня помножь!
Где базилика Гваделупской Девы
стоит на месте храма Тоацин,
сосет корнями каменное древо
текучий мельхиор моих седин.
О, сны Луны, видения без края!
Мы пьём, и с нами третий – дон Хуан.
И в темноте свирепого раздрая
сияет с неба, жертву выбирая,
беременной богини оксидан.
2. Язык
Цветком ацтека, жарким чернобривцем,
с клинка кровищу стёр Эрнан Кортес.
Огонь и дым вздымались до небес,
и кто убит был сталью, стал счастливцем,
поскольку всех оставшихся до тла,
горячечной заразой инфлюенцы,
в мученьях умертвили силы зла,
одетые в кирасы ополченцы –
шестёрки длинномордых королей,
вмурованных в дворцовый мрак Мадрида...
Когда соврёт их рот змеиный «vida»,
что значит «жизнь», названьям кораблей –
не доверяй! Но псы бродячей смерти,
прикрытые обманкою креста,
в насилье утвердились неспроста:
cквозь Монтесумы мёртвые уста
язык торчит испанский... Еrgo, верьте –
богам угодна звука чистота.
3. Тони и волшебная дверь*
Мелочь в пенале, - и никель, и медь, -
перебирают школярские пальцы.
"Надо хотя бы за кошкой успеть,
чтобы сварганить похлёбку из зайца".
Надо впервые мне рубль наскрести,
чтобы купить эту книжку в картоне:
речь о волшебной двери. Пропусти,
время-пространство, мечтателя Тони
в нынешний, чуть постаревший, мой дом!
Мне было семь, а ему было восемь.
Через полвека мне шепчут о нём
дух тех страниц, та индейская осень...
Шорох листов - словно отзвук судьбы,
над камертоном сентябрьские ноты,
жёлто-багряные всхолмий горбы,
воздух над синью озёрной губы,
замерших ос пустотелые соты...
*"Тони и волшебная дверь" -
повесть Говарда Фаста о мальчике-мечтателе и индейцах.
Вовсю поют дрозды, и потеплело...
Дрезденский диптих
Фолькеру Райнеру Ульбрихту
1.
Холодная весна идёт,
и продают на Пасху вербу,
понеже обновляет веру
евангелический народ.
Забудем ли, саксонец мой,
как были юны мы когда-то,
когда звенели брат на брата
гранёной склянкой гулевой?
Увы, то выпито давно,
но мы единства не избыли,
хоть и ушло из нашей были
легкотекущее вино.
Форзиция в цвету нежна
в апрельском дрезденском тумане.
Как правильно, – без упованья –
свой трезвый возраст пить до дна!
Твой, трижды интегральный, круг
и мой чертёж – не очень схожи.
Но разность нашу не итожу, –
она обманчива, мой друг…
Желты форзиции кусты –
свежи, золотопенны ветки!
Саксонского упорства предки
глядят с дворцовой высоты.
И в угловатости забрал,
в суровых рыцарях из камня
порука твёрдая дана мне
в том, что ещё не кончен бал,
что в сумрачном апреле есть
пасхальных благовестов звуки
и, стоящая всей науки,
раз в год о верном сердце весть...
1997
2.
У Лукас-кирхи
Вовсю поют дрозды, и потеплело.
И засветилась Дрездена сирень.
Старинной кирхи каменное тело
чернеет сквозь апрельский синий день.
Напротив - "резиденция синьоров",
дом для полубезумных стариков.
Но Лукас-кирхи непреклонен норов,
прошедший сквозь безумия веков.
Опять обласкан юною весною
сожжённых стен шершавый известняк.
И, патиной мерцая, сединою,
псалтырь твоя не смеет быть иною -
ей снова послан откровенья знак!
21.04.2017
Дрезден
И поспешные грозы весёлую грусть проливают...
* * *
Вырастают деревья и форму пространства меняют,
и уже не узнать обветшавшие за год дома.
И поспешные грозы весёлую грусть проливают
на кирпичные ульи, на каменные терема.
Зеленеют, блистают, густеют блаженные купы.
Как люблю я ветвей простодушную щедрую плоть!
И да буду утешен я мискою серого супа,
лишь бы снова дарил эти майские грозы Господь!
Только б снова омыл эти липы сверкающий ливень.
Вот стихает гроза - словно страсть, опадает вода...
И оттаял под сердцем зимы мастодонтовый бивень,
и почуял я вновь, как по жилам струится звезда.
Жаль, что короток май и не вечны венчальные грозы!
Тает белое время каштановых губ и очей.
И летят лепестки - белизна с алым крапом угрозы -
шелухой опадают - ненужною, тусклой, ничьей...
Но вдоль радуги - выгиб небес, справедливая сила,
что по зоркости глаз и по имени нас нарекла,
что у слабости нашей согласия не попросила
и бессмертие душ нам дала - не со зла, не со зла..
Люби - не будет подлинней завета...
* * *
Люби меня. Пусть я и не достоин
твоей русоволосой красоты.
Я не спасу. И стать другим - не волен.
Но как похожа на спасенье ты!
Звени мне ворожбою золотистой,
мой хрупкий ангел с гибелью в очах!
Не нам с железным взором атеиста
соломенный выстраивать очаг,
не нам копить холодные монеты
на сретение порченых родов...
Люби - не будет подлинней завета
на стенах обречённых городов.
Сквози мне тягой позабытых магий,
зови бескрайний неба оборот! -
Настанет май, за свалкою в овраге
для нас колючий тёрен расцветёт.
И за три дня набухнут рек затоки
лягушечьей и щучьею икрой.
Да не прервутся между нами токи,
искрящие от первородных Трой!
Да повезёт бессильной нашей власти -
оставить средь травы цветок огня...
Зови меня, зови глубинней страсти!
Люби - и видит Бог, спасёшь меня..
Крещенский зверь, метель в размахе...
Ода метели
Ух тЫ, как праздник разгулялся –
крещенский зверь, метель в размахе!
Шатун разнуздан в пульсе, в вальсе,
и кровь вскипает в росомахе.
Сто лет такого не бывало,
и век еще не повторится!
Под козырьком желдорвокзала
скукожились бродяжки-птицы.
А ты вдыхаешь, rara avis,
всей грудью, птица непростая,
восторг-кураж и радость-зависть –
пургу, как Библию, листая.
Дожить до небывалой вьюги,
до воскрешающей метели!
Иного и не надо, други,
ни в предисловье, ни в пределе.
Велик за Пушкиным Свиридов.
И я бы лишь строку поправил
из всех стихов, комет, болидов:
„Господь наш – самых снежных правил!”
Лики
Ничего у нас нету с тобою,
кроме этих, студёных до слёз,
перебранок собачьего воя,
перехлёстов заснеженных вёрст.
Кроме с неба по-волчьи глядящих
ледовито-зелёных зрачков,
тех, что знают насквозь нас, пропащих,
нас, не видящих букв без очков.
Под порогом отступника-дома
кто родил нас, истлели давно.
Грех наш - долог, и хлеб наш - солома,
и в стакане прогоркло вино.
Полночь бьёт. В скрежетании боя -
пёсий брёх, прокурорский язык.
И за что нас прощают с тобою
лик Марии и Первенца лик?
Кучук-Ламбатский диптих
Кучук-Ламбатский диптих
1.
Чёрные куры сидят на ветвях алычи,
дымчатый кот задремал на ступенях хибары.
Явно искренье молекул османской парчи
в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.
Вот он, посёлок приморский, куда столько лет
я приезжаю опять по невнятной привычке,
где между прошлым и будущим паузы нет,
как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.
Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.
Банщицей здешней веранда сдана мне - товар,
столь ходовой в сей жильём небогатой огруге.
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,
демос слепил два десятка халуп при турбазе:
вольного воздуха водка и бриза мускат
в каждом зачатии-вдохе и в выдохе-фразе!
Воля Господня, свобода святого вранья, -
наперекор греховодной обыденной правде,-
дней на пяток умыкните с поминок меня
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...
Море возлюбленной пахнет.
И хмель не берёт
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.
2.
Карабах, Кучук-Ламбат, мыс Плака -
сорок лет знакомые места.
Ловит взор мой нищенка-собака,
взмахивая паклею хвоста.
Два щенка скулят под сизым боком,
под обвислым выменем пустым.
Мне б не дать надежд им ненароком,
не пустить бы в ясны очи дым.
Я и сам ведь знаю про надежды
то, чего и не хотел бы знать.
Видимо, они сбывались прежде,
видно, довелось нам опоздать.
Что ж опять сюда я приезжаю,
в частный сектор, на недельный срок -
не стрелок, не скупщик урожая,
не упырь, сдирающий оброк?
Что-то брезжит малой мне лампадой
в этих неразлюбленных местах...
Многого давно уже не надо -
плыл бы день, о ста бы головах,
отражаясь в бухте Карасана,
где над бодрой синью Партенит
пеной чаек, сепией баклана
продолженье повести сулит...
А о душе и о метели...
* * *
На зубок бы хрустящей зимы -
чарку снега, горбушку мороза!
Вылетай, снегирёк, из тюрьмы,
роза дыма, рябиновки доза!
Нету музыки - тише, чем снег,
усмиривший пропащую почву.
Снегиря подоспел оберег -
красной маркой на белую почту.
Снежной Библии свеж переплёт.
На медвежьем клыке шевелится
зимний бормот про тёплый приплод,
про священных детёнышей лица.
Бритвой стужи обрежу петлю.
В синий купол взлетай осиянно,
царь-снегирь!
Не ловлю, а люблю.
Не напрасно люблю - первозванно!
* * *
На склоне лет пальнёт сквозь зиму
винчестер вороном-стволом.
Щетинный вепрь промчится мимо,
круша лещину, напролом.
А нам, мой друг, пора вернуться
в свой дом, тулупы сбросить с плеч
и спичкой, и свечой на блюдце,
в камине истово разжечь
сосновые дрова. – Не надо
первосвященнее огня...
В крови – вечерняя отрада
на воле прожитого дня,
дня свежевыпавшего снега,
морозно-дымного ствола...
В окне темнеет. Льдисто Вега
над чёрным ельником взошла.
Тепло в дому. В усталом теле
есть лёгкость поздней правоты.
Мы лишь на четверть поседели.
А о душе и о метели
молчать умеем – я и ты..
Пушкин - пушист, серебрист...
* * *
Пушкин - пушист, серебрист. По секрету при этом,
Лондона Джека в тринадцать я больше любил. -
С Белым Клыком засыпал под сугробом валетом,
в ружьях Клондайка ценил скорострельности пыл.
В шубе онегинской век крепостничества мчится,
полозом санным скрипя, бубенцами звеня.
Снежный хорей в африканское сердце стучится,
в солнечный бубен морозного синего дня.
Я и теперь к ним тянусь, но уже по-другому:
помня, что дружества мёртвых - вернее иных.
Если живым отказал со стыдом я от дома,
знать, потому, что ломоть их - полова и жмых.
Вот и жую золотую, с мороза, солому.
Корм не в коня, а ясак да ярлык - не в меня.
Честному зверю, Клыку, ослепительно-злому,
верят во сне из-под снега мои зеленя.
А в январе леденеет, не ведая срама,
Пушкина плоть, и бледнеет кофейная кисть.
И еле шепчут лиловые губы Обамы:
"Вымерзли яблони ямбов. Опомнись, окстись!
Голос органа встаёт над холмами...
Переводы из немецких
поэтов-экспрессионистов
начала ХХ века
Якоб ван Годдис
(1887 - 1942)
Друг
Ему в живот вонзил я сталь кинжала.
Блестел суглинок, кровью напоён.
То вопль взлетал, то тишина дрожала,
гас взор его, по-детски удивлён.
Жесток был путь к утраченному раю,
свидетелей казня. А день вставал,
на глади плиток кафеля сияя.
Могуч был полдень. Друг о нём мечтал.
2017
Конец света
С голов срывает шляпы ураган,
И в крик перерастает каждый звук.
Уносит буря крыши - треск и стук,
И мчит поток на берег, тьмою пьян.
Вот шторм! Копыта дикие морей
О землю бьют, чтоб дамбы прочь снести.
Дыханье рвётся в горле у людей,
И с поездами рушатся мосты.
2017
Георг Тракль
(1887 - 1914)
Воспоминания детства
Радостью солнечный полдень объят,
В воздухе гулы пчелиные зреют.
Платья сестёр за ветвями белеют.
Мальчик задумчиво слушает сад,
В книге страницу листком заложив.
Липы от зноя увяли, ослабли.
В небе парит белокрылая цапля.
Дрожь светотени, игра, перелив -
В лозах ограды. Вот в дом, торопясь,
Сёстры вбегают в ромашковых платьях.
Ветру из сада уже не догнать их -
Сник, пробиваясь сквозь зарослей вязь.
Мальчик погладил по шерсти кота,
Очи питомца блестят зеркалами.
Голос органа встаёт над холмами,
Ясен и чист, как небес высота.
2017
Полуденный шёпот
Солнце, осени теплынь.
Ветви мёд плодов роняют.
Полдень медленно ласкает
Плавных сводов высь и синь.
Блеск металла – смерти взгляд,
Белый зверь – зимы виденье.
Девушек-смуглянок пенье
Заглушает листопад.
Богу снятся колера,
Нежного крыла биенье.
На холмы бросает тени
Предзакатная пора.
Сумерки, покой, вино;
Звон гитары всё печальней
Тихий свет от лампы дальней.
Сон ли, явь ли – всё равно...
2016
Просветлённая осень
В богатстве сил уходит год,
в плодах багряных, в тяжких лозах.
И одиночество живёт
в тиши лесов златоволосых...
Крестьянин скажет: дай-то Бог!
Вечерний звон плывёт вдоль луга.
И мужество приходит в срок,
когда спешат все птицы к югу.
И с неба милосердья час
снисходит синею рекою.
И образов иконостас
молчанья полон и покоя.
2016
Запустение
Осенний ветер. Колокол стихает.
Прощанье птиц теснит мне грудь волненьем,
Когда они с печалью и смиреньем,
Паломники, в прозрачном небе тают.
Сквозь сумерки иду вечерним садом,
О стае грезя, светлой и крылатой,
И, полон невозвратных дней утратой,
Путь в облаках прочерчиваю взглядом.
И вновь повеет грустью запустенья,
Заплачет дрозд в крушине одичавшей.
В узор оград багрянец лоз вплетён.
И млеющих детей немые тени
парят бескровно над фонтана чашей.
И в синих астрах крепнет стужи сон.
2016
Альфред Лихтенштайн
(1889 - 1914)
Пророчество
Чую: мир охватят скоро
беды без конца и края.
Засмердят убитых горы,
Вспыхнет бойня мировая.
Помрачнеет купол неба.
Смерть, когтистый зверь, взъярится.
Люмпен ниц падёт нелепо,
Мимы вслед за ним, девицы.
Стены хлевов и конюшен
Рухнут - муха не спасётся.
Гей, накрашен и надушен,
Под кроватью задохнётся.
Целый мир лежит в руинах,
В страхе мост над Рейном выгнут.
Всех, виновных и невинных,
Муки гибели настигнут.
2017
Туман
Бескровные деревья тают дымом,
И мягко разрушает всё туман.
Дрожь теней, криков сдавленных обман.
И звери гибнут в омуте незримом.
Как мухи-пленницы, огни застыли тихо,
Им убежать бы, заметя свой след.
Но стережёт их хищный, жирный свет
Луны, несытой, словно паучиха.
Мы все, неотвратимой смерти вторя,
Растопчем дикой роскоши хрусталь.
И белые глаза ночного горя
Вонзим во тьму, в жестокую печаль.
2016
Эрнст Штадлер
(1883 - 1914)
Обращение
Я – жажда, крик, пожар, огня напор.
Душе – потока дней не побороть,
Кипят их струи, рвутся на простор
И шрамами былого метят плоть.
Ты – зеркало, где в круглой глубине
Искрит источник жизни и поёт,
И где взбухает на янтарном дне
То, что из тлена вскоре оживёт.
Моя душа сорвётся с высоты,
Сквозь полночь летней звёздной ворожбы.
А образ твой – величье красоты,
Знак вечности и оберег судьбы.
2016
Перевёл с немецкого
Сергей Шелковый
Зажжённых свечек Праздничный венец...
Рождество в Лунде
Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.
Неделя Рождества – и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.
Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье «Вифлеемская звезда» –
живой огонь, берущий за живое…
И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –
с рождественской свечою и цветком
за каждою оконной рамой Лунда…
И в воздухе – то чёрном, то цветном –
не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.
* * *
Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!
За что твой абрис помню и люблю?
За то ли, что, - без лишних слов, по сути, -
я путь всё тот же, неизбежный, длю,
за годом - год, за мигом - полстолетья,
связуя с непрерывностью пунктир,
неловко тычась в мировые сети,
толкаясь красной буквицей в эфир?
И не за то ль, что, слепленный отважно
по Отчему подобью пешеход, -
дороге друг я, и рассыпав брашна,
она меня в Сочельник приведёт
к заснеженному шведскому порогу? -
Скрипит камнями башен Лунд-чернец
в морозной тьме и посвящает Богу
зажжённых свечек Праздничный венец.
В огромном стылом храме пахнет хвоей,
мерцает в яслях сено Рождества,
и свечек огнеглазье золотое
являет дух живого существа.
Но вдруг средь гулкой стыни отголоском
настигнут слух удары молотка,
как бы взметнув над гиблым перекрёстком,
в пространстве, ставшем на секунду плоским,
чад гарпии, угар еретика...
И вспыхнула фраза! - И хода обратного нет...
Предновогодний трамвай
Трамвая щуп искрит бенгальской медью,
летит огонь, крылат, раздет, разут.
И елки, будто связанных медведей,
по улицам заснеженным несут.
Вновь этот воздух – спирт предновогодья,
круженье чуть подвыпивших надежд.
Из тьмы сияют ясеней угодья,
играет иней их бровей и вежд.
Весь этот город – крыши, арки, бреши –
облагорожен снегом на корню.
Сосновым духом густохвойный леший
щекочет ноздри и гортань мою.
А их все тащат, чудища, в трамваи –
взъерошенных, опутанных тесьмой!
И я, трамвайный номер забывая,
никак не вспомню – пятый ли, восьмой…
Все иглы рядом едущей сосенки
ерошу соумышленной рукой.
И пахнет мир смолисто, колко, звонко,
вчера еще заморенный такой...
Зимний дебют
За это приходится дырами в шкуре платить,
Короткою жизнью и тысячелетней тщетою.
Но, Боже, как сладко на слове хлебА замесить
И очи промыть родниковою певчей водою!
За это - плати опозданьем в борьбе и гульбе
И каждому «здравствуй» - «прощай» отвечай бестолково…
Соленая трещина на непорочной губе.
О млечное время, небесное первое слово!
То было зимой, и по городу ель пронесла
Декабрьского леса тяжелые хвойные ветки.
В квартире был сумрак, парили окон зеркала,
И тявкал терьер за стеною у левой соседки.
За стенкою справа невидимый Карпов-сосед
Хрипуче-надсадно боролся с вечернею астмой…
И вспыхнула фраза! – И хода обратного нет
Ни в ясные дни, ни в века канители ненастной.
Минута, секунда... Но разве длиннее судьба?
Тавро золотое на серой обыденной шкуре!
Еловая песня в снегу... Набухают хлеба.
Замешаны здесь – а на Рейне хрустят, на Амуре!
Дух Малаги велением Аллаха...
Plaza de Toros
Гумилёв конквистАдором конкистадора нарёк -
не для жеста, пожалуй, для вольнолюбивого спора.
Так и ты бы - в крещендо быков андалузских облёк:
не в грамматику - "торо", а в полногремучее "торро"!
Вот он, бык смоляной, вылетает из красных ворот,
словно чёрт из коробки с пружиною, Зорро-задира,
и ноздрями раздутыми воздух предгибельный пьёт -
майский воздух Севильи, любовницы Гвадалквивира.
Вот он роет копытом песок, чёрный Авель, литой
из бойцовой, не помнящей братова имени, плоти...
Верхний ярус арены чадит ядовитой махрой,
и оркестр многотрубный в бравурной сливается ноте
чуть правее тебя, но всё в том же, доступном, ряду,
где курцы табака апплодируют бурно мулете,
в 3-ем тысячелетье, в 12-ом кряду году, -
реконкисты и Каина жертволюбивые дети.
И закланье - изысканно, и позумент золотой
облегает в обтяжку плечо и бедро матадора.
Между алой мулетой и мутно-зелёной водой
к небесам отлетает душа терминатора-торо.
И в бодрящем и праздничном рвенье триада коней -
благородные головы в бело-багряных султанах -
мигом тушу увозит... И трубы поют всё пьяней
над весенней Севильей. И полнится летопись дней
Андалузии - в кодах-загадках, желанно и странно...
Валенсия
Так вот, где сёстры-ласточки зимуют!
Соборов валенсийских лепота,
белиссимо, прочтённое с листа,
влечёт их ввысь и в роздыхе ликует.
В Валенсии – семнадцать в декабре
волна и воздух. И накат негромкий
ласкает плоть белопесчаной кромки
в размеренно-ритмической игре.
Мои четыре с половиной дня
в цепи тысячелетней кавалькады –
не Бог весть что… И всё-таки не надо
из памяти вычёркивать меня,
Валенсия! – Теперь-то я могу,
твоею смуглой нежностью задетый,-
пусть не омегой, - альфою и бетой
на средиземноморском берегу
играть с тобой в слова, в воспоминанья,
в те изваянья Сына из песка,
которые ничейная рука
у моря оставляет в назиданье:
искусство – то, что будет жить без нас,
без имени и даже без корысти
ревнителя пера, резца и кисти,
наследуя лишь детскость певчих глаз...
И вот летуньи наши где снуют,
сбежав на юг, - в твоей закатной хмари,
Валенсия! – О легкокрылой твари,
о беженке, заботится приют
монастырей твоих и колоколен.
И здесь,- средь кротко-женственных дерев,
лимонных, апельсиновых, - я волен
взывать «Сестра-касатка!» нараспев.
И право, так мне легче узнавать
всё то, что в силе многоцветной снилось,
и поутру в гостинице «Лос Силос»
тяжёлый штоф на окнах раздвигать...
Здесь, через площадь, - колизей быка.
Без бритвенных пассажей матадора
зевнёт зима. Но в марте, в день мажора,
рванётся на арену чёрный торо,
чтоб гибель, - чья же? - в бисере декора,
была прилюдна и насквозь легка...
Малага
Дух Малаги велением Аллаха
задуман в перламутровых осях
ума и воли. И Господня страха,
лелеющего совесть на сносях.
Плесни вина с толикою полыни
на честный нераздвоенный язык
и протрезвей, семи несущих линий,
семи опорных точек ученик!
От Рима до берберского узора
причудливо пульсирует пунктир.
Цветник, поживой для ноздрей и взора,
алеет там, где смуглый канонир
палит из пушки с башни Гибральфаро,
где вдоль бойцовой кладки пламень роз,
до лепестка-бемоля, до беккара,
в кровоточивый пляс фламенко врос...
На третий день почувствуешь своими -
и зной припёка, и сквозняк-свежак
на возвышенье том, где "Пабло" имя
озвучит - не таверны! - меры знак.
И явственно увидишь, как Пикассо
вдоль побережья Малаги идёт,
подросток из графического класса,
в глазищах - перламутр боеприпаса,
лоб торо и упорно-твёрдый рот...
Снежной Библии свеж переплёт...
Царь-снегирь
На зубок бы хрустящей зимы -
чарку снега, горбушку мороза!
Вылетай, снегирёк, из тюрьмы,
роза дыма, рябиновки доза!
Нету музыки - тише, чем снег,
усмиривший пропащую почву.
Снегиря подоспел оберег -
красной маркой на белую почту.
Снежной Библии свеж переплёт.
На медвежьем клыке шевелится
зимний бормот про тёплый приплод,
про священных детёнышей лица.
Бритвой стужи обрежу петлю.
В синий купол взлетай осиянно,
царь-снегирь!
Не ловлю, а люблю.
Не напрасно люблю - первозванно!
Вспоминая Клюева
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.
Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.
Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?
Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.
Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарою,
штофом залью на душе красногривую смуту.
Зиму бы пробедовать без большого пожара…
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара…
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку
Так уж сладилось, нарисовалось...
Винолюбие
Отнюдь недаром, Дагна Дрейка,
нам любо красное вино,
ведь наша певчая семейка
им греется давным давно,
поскольку зимние туманы
над Даугавою-рекой
ворочаются хмуро, пьяно,
как серый бомж на мостовой.
Но я-то помню очи Риги
лет тридцать пять тому назад –
как бы Дануты и Ядвиги
сияющий любовью взгляд.
И дабы встреча не забылась,
я в амнезии стылых зим
багряно-терпкой влаги милость
вздымаю:
не «Чин-чин» – «Сим-сим!»
Я – с Вами вместе, Дагна Дрейка.
А Вы, мне верится, – со мной!
Живи и щебечи, семейка,
где белый шум плывёт от Блейка,
как свет воротника Ван-Дейка,
и где журчит водицей лейка
над грядкой в августовский зной!
2015
* * *
Сентябрь припасает варенье.
кизил багрянеет в тазах.
И горлица стихотворенья
в безоблачных неба глазах
белеет – на взмахе – знакомо
и снова влетает под кров.
Субботнею млеет истомой
теплынь нищеанских дворов.
Курлычет контральто романса
в открытое настежь окно.
А солнечный гривенник шанса
звенит о дворовое дно:
«Верни пятаки побирушке,
себе и вражине прости
охотничью страсть, погремушки
и перья синичьи в горсти!»
Пройдя сентября середину,
главы не сберёг Иоанн.
Но золото, синь, паутину
ещё не завесил туман.
Пируют на лавке ханыги.
А помнишь! – И ты приносил
на пир свой: то строчку из книги,
то каплю бальзама из Риги,
то красный султанский кизил!
Дальняя родня
Эти бардики и краснолюдки
под землёй расцветили сады.
Брызжут искрой курляндские шутки
в расторопше – цветке бороды.
В розе фейса подземного гнома
расцветает усмешки рефрен,
и отваром корней полинома
сдобрен путь к философии дзэн.
Так уж сладилось, нарисовалось,
что из всех латышей у меня
только Дагна и Раймондас Паулс –
хоть и дальних корней, но родня.
Да ещё корешки-краснолюдки,
виноделы глубинных садов,
что в душистом дыму самокрутки
заступают на вахту на сутки –
режиссёрами радужных снов…
2016
На мотив Дагнии Дрейки
(с латышского)
* * *
В фиалках Рига. Молния ветвится
огнём лиловым в островерхих башнях.
Простушка милая, фиалок чаровница
с улыбкой чистой на устах увядших,
хитрюга старая, ты девушкой и феей
проходишь сквозь века. Тебя в разлуке
я снова оживляю, как умею,
и отдаюсь тебе бесстрашно в руки.
И в губы арку Шведскую целую.
Лаская камни, слушая их пенье,
опять в тебя влюбляюсь, молодую,
фиалок фуга, фейерверк цветенья!
* * *
Не льёт. И тишина чиста – до звона.
Просохла площадь, ливень-водолей
утих. И ветер, хмелем напоённый,
весь мусор выдувает из щелей.
И скомканный листок, как лебедь белый,
над мостовой шурша, готов взлететь.
И девочка куском цветного мела
для «классов» на асфальте чертит сеть.
Не суесловь пред тишиной большою.
Всё продано, что можно и нельзя,
давным давно. И, с грошем за душою,
малютка бес смеётся нам в глаза.
Перевёл
Сергей Шелковый
Мудрецы и мечтатели, книжники, вечные дети...
Монастырская библиотека
Золотистое гинкго пылало осенней свечой
там, где Броумов к небу вздымал вертикальные шпили,
где, сквозь сад монастырский, шурша листопадной парчой,
мы под своды старинной обители Книгу вносили.
Это капище книжное, где до сих пор Бенедикт
повторяет завет свой настойчиво и терпеливо,
семь веков простояло и долго ещё простоит,
вопреки всем шаманам, трясущим химерною гривой.
Здесь доныне смиренники Слову осанну поют,
ибо Слово есть Бог, от начала начал и без срока.
И, как лепкой барокко очерчен молитвенный труд,
так багрец окаймил синеву поднебесного ока.
Здесь и я умираю с листвою и Книгой живу,
всё острей ощущая в минутах протяжность столетий.
И видны в облаках, пусть не всем, корабли на плаву.
И воздушного змея по небу ведут наяву
мудрецы и мечтатели, книжники, вечные дети...
2016
Тропою кипарисной пробираться...
бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной! -
Темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи - роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись - прощаться рано.
Кто слышит Зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна -
до римских львов, до львиных пирамид!
* * *
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном -
и вы, смутясь и торопясь, войдёте
туда, где правят юности законы.
Там вкус вина смешается и соли,
и там повсюду будет привкус солнца.
Лиловым ветром позабытой воли
повеют с древних склонов колокольцы...
Была ладонь её солоновата,
и горячи нетронутые губы.
Спускалась ночь, почти что без заката,
и лето шло стремительно на убыль.
И юность к окончанию катилась.
к подножью от вершины Аю-Дага.
И всё прошло, забылось и простилось.
И близко всё - каких-нибудь полшага...
Жизнь оказалась щедро, странно длинной -
и ныне так же колко, как в семнадцать,
обводом моря, лунною долиной,
тропою кипарисной пробираться...
И может быть, вы просто не умрёте,
глотнув свободы над волнистым лоном. -
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном...
* * *
Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
Привокзальное радио снова "Славянку" играет,
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
Снова сутки свиданья с портовой фартовою Кафой
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
Каплет в рюмку мою "Пино-гри" виноградников графа -
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.
Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, -
эти минус три четверти века... Со снимка глядят
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, -
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
Не осталось уже никого с августовского фото,
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года -
карусели приморской дрожат золотые жучки.
Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
Александра - вослед Македонцу, Арапу вослед.
Я ведь сам - иноходец Ивана и сын Константина,
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
но которые живы и набраны чётким петитом
в каждой строчке моей, в каждой рифме - один на один...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.
Памяти поэта Имануила Глейзера
Памяти поэта Имануила Глейзера
Длится твоё завещание: «Будь и пиши!»
словом сердечным и великодушным приветом.
Длится завет твой над южным, над радужным летом
и не угаснет без боя в сугробной глуши.
Ранняя осень шуршит о тебе, о живом,
о неубитом ещё на мосту Сан-Франциско…
Вроде, лететь тебе в Крым и в Молдову неблизко,
а только ясно я вижу: за общим столом
с Имом Борис и Арсений с Сергеем сидят,
над виноградом молчат, но – по-братски, любовно.
Дружество душ – целомудренно, немногословно.
Склянки сдвигаются, полня ямбический ряд.
Более в чуткости струн, чем в клавире стиха, –
суть этой непостижимой, загадочной жизни.
Груда муската – глава Иоанна на тризне.
Осень тиха и не не ведает клятвы-греха…
2016
О, как магически звучало...
* * *
Помяты астры первой ранней стужей,
растрёпаны причёски нежных фей…
Что ж, затяни предзимний пояс туже
и по глотку и сласть, и горечь пей.
Щепотку соли и толику перца
добавь в осенний ледовитый хмель.
Быть может, слово любящего сердца
спасётся средь простуженных земель?
Быть может, сам спасёшься от раскисших
кладбищенских неумолимых глин, –
в каких-то высших пазухах и нишах, –
ты, собеседник тёмнокрасных вин,
ты, книжник расходящегося ряда,
сообщник обречённых лепестков? –
Шуршит парчою скатерть листопада,
и поминальный стол уже готов…
2016
* * *
О, как магически звучало:
«Тетрадь, чернильница, пенал…»,
когда из летнего астрала
в осенний ты перелетал,
паря мальчишеской душою,
расправив пару лёгких крыл!
Сполна за гранью, за межою
уже той осенью ты жил…
Теперь, умолкший утомлённо,
рискнёшь ли снова в руки взять
пенал тот, розового клёна,
ту летописную тетрадь?
Там смысл двоится и троится,
а хаос гнёт и ум, и труд,
Там никнут птицы, тают лица…
Но чистые, без слов, страницы –
смелы. И ни на гран не лгут.
2016
* * *
А не уходит, не уходит лето!
Великолепьем полнится сентябрь,
мир помечая полной мерой света.
И, как ты, хищный бес, ни жги, ни жарь,
как ни вгрызайся в радужную шею
поваленного навзничь петуха,
я новый день до дна допить успею.
А жертвенные птичьи потроха,
глядишь, и отведут чуму от дома,
раздор от мал-мала большой семьи…
И не упрутся корни полинома
фатально в инфернальные слои.
Колдует осень солнечное вуду,
сменяя свежим ветром прежний зной.
И я, вчера зарытый в почву, буду
сегодня полон вольности иной.
И, сев на разогретую скамейку,
добавлю всевлюблённости слова
в тетрадку, – в клетку или же в линейку, –
как бы в кубышку бросив царь-копейку.
И вновь душа, на зло чертям, жива!
2016
Марина пишет Райнеру Марии...
* * *
Марина пишет Райнеру Марии.
Любовь и смерть разносят эти письма –
две вечные работницы на почте:
любовь – за полглотка хмельного счастья,
а смерть, карга кривая,
лишь за то,
чтоб отворили дверь ей поскорее…
Марина пишет Райнеру и ныне,
когда давно уже их нет обоих,
когда в плаще плюща,
в швейцарском замке,
певец-пражанин Рильке опочил…
А ты, зеленоокое сиянье,
морская и вселенская Марина!
Ты, чудо и пульсар любви и звука,
удавлена
на ржавом вседержавном,
на вырванном из двух тысячелетий,
на выломанном из Креста,
гвозде…
2016
* * *
Ценя лауреатов-стихотворцев,
нобелиатов и иных достойных,
я всё таки инстинктом выбираю,
к кому из них навстречу мне спешить.
Сто лет мне любы Прага и пражане. –
Вот с Градских круч
так яро славит Сейферт
поэзию и музыку!
Он прав,
когда превыше золотого перстня
метафору магическую ставит.
Ведь Слово впрямь –
небесное посланье.
И нет от Бога нам любви верней.
А золото – лишь пайка рудокопа,
добытая из чёрных червоточин,
из почвы, поглотившей мертвецов…
Вот разве что
блеснёт в студёной речке
его крупица, аурум, чешуйка
молекулой и образом удачи,
метафорой,
почти что бессловесной.
Блеснёт –
и глаз зажмурит мотылёк…
2016
И рядом - изначальные Слова...
Сентябрь в Тавриде. Смоквы пожелтели,
лиловыми медами налились.
Как отразились в каплевидном теле
Эдема высь и Палестины близь!
Как внятен шёпот Ветхого Завета,
простых вещей и связей правота:
пройдите соль и зной до края лета -
и тихий мёд обрящете у рта.
Осенний Крым. Явленье благодати.
Шуршит инжирной рощицы листва.
И близко новых сущностей зачатье,
и рядом - изначальные Слова.
* * *
О Агапо, осенняя гречанка
с оливковою тенью на лице!
Над давней бухтой палевая чайка,
зовущая о счастье-беглеце.
Таврическая осень благодатна,
лишь солнце с каждым утром холодней.
А наш сентябрь и юность невозвратны...
О Агапо, прошло так много дней!
Над нашей ночью зов Кассиопеи,
размашистый остроугольный знак.
О, смуглая наследница Орфея,
сто лет разлуке – и да будет так...
Но там, где память о любви минувшей
стенает чайкой на краю земли,
иду по кромке меж водой и сушей
и слышу шёпот: «Агапо, послушай,
прошли две жизни, навсегда прошли...»
* * *
Вечерние стаи стрекоз над водой
у горной речушки в Тавриде.
Мелькнувшему счастью не скажешь «Постой!»,
но я на судьбу не в обиде.
Та нежная, та золотая рука
к моей прикипела ладони.
«Пока – я шепчу – дорогая, пока...» –
на склоне июня, на склоне.
У первой разлуки пронзительный вкус
вина, чуть горчащего ядом.
«Пока!» – на полвека усну. И проснусь –
и мы, те же юные, рядом.
Мы там, где стрекозы шуршат над водой,
где пахнут дикарки-маслины
в июньском цвету и где серп молодой
дрожит над загривком вершины.
И в сумерках катится к морю река,
роятся прозрачные крылья.
И снова к руке прикипела рука...
Всё было, моя золотая! Пока.
Всё есть. И останется былью.
Четыре берёзы растут по углам...
Мало жёлтого, больше - кармина
в вечереющих крымских лесах.
Снова осень приходит с повинной,
с поволокой в неверных глазах.
Влажный сумрак – как ладан обедни.
Ни души на морском берегу,
словно в этом краю - я последний
да и сам уцелеть не смогу.
Холодна и просторна свобода,
и предсмертно чиста тишина.
Отпеванию царского рода
даже страсть помешать не должна.
Никого на земле не осталось –
ни властителя, ни дурачка
И большая, как время, усталость
проникает в глубины зрачка.
А широкая тёмная птица,
опускаясь кругами с небес,
на безмолвную гору садится,
на потухший карминовый лес.
* * *
Крестьянский колодец, оконце живое -
четыре берёзы растут по углам.
Склонились к окну - им поётся по-своему,
как снились их косы залётным ветрам.
Над срубом сосновым задумчиво осень
четыре свечи белоствольных зажгла...
Последние дни - и мгновения-осы,
пылинками злата и чёрного зла
мелькают... И в каждом - тончайшее жало,
и жгуч и пьянящ неразбавленный яд.
"Как лето промчалось, как милости мало!" -
чуть наискось листья над срубом летят...
Четыре свечи отгорят без остатка -
влюблённым и русоволосым огнём.
Пойдём же, мой пёс, - откровенье так кратко!
К лачуге, с листвою на крыше, пойдём...
Непозабытые, непозабывшие...
* * *
И снова - солнца ход неспешный,
и надо мной опять парят
румяным маревом черешни,
как будто тридцать лет назад.
И у дощатого забора,
как в очень давний день босой,
обильно пахнут помидоры
листом, обрызганным росой.
На крыше кухни и сарая
дождями обтрепало толь,
и дремлет у калитки рая
дворняга с именем Ароль...
Там Марфы, с мальвами, передник,
и там, у кухонной стены,
я - внук, стригун, любви наследник,
уже последний собеседник,
кому те дни ещё видны...
Острова
Исла Эльба, Корсика, Сардиния,
весь в оливах, рай хорвата - Хвар.
Охрой почвы и смарагдом пинии
каждый остров, словно Буссенар,
дышит в удивлении, в предчувствии,
медно-красной пулей синий ствол
заряжая, чтоб из цельных уст его
в цель летел стремительный глагол...
А ещё был светел остров с ельником
посреди родной реки Донец,
где бродил ты ящериц подельником,
пастушонком облачных овец.
И, ни сном, ни духом об экзотике,
ни гу-гу о пёстрых островах,
проплывал на камышовом плотике
меж кувшинок в слобожанских снах.
В солнечных изломах семилетия
ликовали ритмикой, - без фраз, -
птичьи восклицанья-междометия,
плёса искромётный глаз-алмаз.
Вышивая Эльбу ли, Сардинию,
от Змиёва и начни стежок,
где жива купель золото-синяя,
заводь у Гайдар, ленивый линь её,
плот и мальчик, летних вод божок...
* * *
Дом стариков под ребристою крышей -
издали верностью теплятся мне
непозабытые, непозабывшие,
очи живые в открытом окне...
Знаю, что снова увижу на склоне
здесь, только здесь, начинавшихся дней
эту аллею грачиных колоний,
строй патриарший седых тополей.
Вымытый въезд из булыжного камня,
взятый зеленым гнездовьем в полон.
Стены и заросли родины давней,
полные гулких, зовущих имён.
Не умолкали деревья и птицы.
Гнёзда цвели среди клейкой листвы,
не уставали минуты светиться
под перезвон первозданной молвы.
С жаркой веранды плетённые кресла
из белокорых текучих лозин
в сад выносили - к читальне небесной -
под красноплодные ветки бузин.
Не было прошлого в мире без тени,
кроны-громады баюкали высь...
Жизнь раскрывалась - и чувство рожденья
непостижимее было, чем жизнь!
Неистребимый ястреба укол...
Билет первого сентября
Неистребимый ястреба укол,
зачатье осени. - Гомункулы у школ,
родительской обласканные тенью.
В негнущихся ботинках пацанва,
охапки астр и зыбкая канва
скользящего за кадром несмиренья...
Глаз медиума, крапины крыла. -
Откуда весть благая снизошла
на Богом позабытые пенаты?
Откуда птица - пепел и зола -
укол зрачка до сердца донесла?
но и больней, и трепетней: "Куда ты?.."
Туда ли, где и я - тот самый гном,
одетый гимназическим сукном,
чей белый воротник пришит неровно?
Туда ли? - Там такой же синий день,
речь фарисея грузом гнёт плетень,
невнятный срок даётся мне условно.
Там в рое гномов каждый даровит -
художник, лихоимец, сибарит
надели обувь с чистыми носами.
Щекочет ноздри запах свежих кож.
И мир скорей на школьницу похож,
чем на вахтёра с рыбьими глазами.
Сегодня ровно тридцать девять лет
со дня, когда заманчивый билет
вручён мне вкупе с пёстрым хороводом.
И если вдруг скользнёт по строю свет -
далече все. А трети вовсе нет
под пьющим душу ярким небосводом...
Похоже, есть сермяжный некий смысл
в том, что сентябрьский воздух свеже-кисл,
как яблоко, но никогда не сладок.
И ястреб - чист и зол - не истребим,
и, кто любим, тот часто не храним,
поскольку мы - рабы своих повадок...
Не ностальгия - роздых на пути.
Лети же, птица хлёсткая, свети
пронзительным патрицианским оком.
Но тем же небом воротясь назад,
верни иной, чуть потеплевший взгляд. -
Я жил и мало верить стал упрёкам.
И правда в том, что ныне - не иначе...
Анонс
В скором будущем я допишу стихи
«Дорогой Дракула» и «Триста лет ворону»,
а затем, быть может, «Шорохи Шемахи»
и «Разложение в ряд по Маклорену».
Плюс – «Цветы лихолетья» должны бы взойти,
освежив мрачноватые «Складки местности». –
Вот полдюжины почек на ветки пути
растерявшей веру в себя словесности.
А поскольку теперь ни одна кузькина мать
не спасёт от Быка, партзолота, дона Алонсо,
я решил, что неплохо бы дать в печать
что-то очень краткое – в форме анонса.
Ибо что и вспомнишь из «Илиады» всей?
Редко имя автора или героя.
Чаще – лозунг, хлёсткий, как шторм-борей:
«Чрезвычайная тройка», «Троица», «Троя»…
2002
Письмо
Драго-Дракула, с третьим столетьем ворона
не поздравил тебя, но к Покрову пишу…
Ветер рукопись рвёт и несёт во все стороны
запах гибели – палой листвы анашу.
А как дым погребений проест в экологии,
в окоёме озона, сквозную дыру,
в эту брешь устремятся, инкогнито, многие –
по ночному винту и с возвратом к утру…
Прошмыгнув параллельными координатами,
лабиринтами, броуновской кутерьмой,
вдоль кротовых проходов толкаются атомы,
чтоб любыми маршрутами, блогами, чатами, –
но прорваться к истоку – к порогу, домой…
Тем же фортелем, Дракула, тень Трансильвании
со шнурками усов и с шиповкой хвоста,
догоняет меня. Здесь, в шершавой компании,
древесина осин – семикратно чиста!
На безрыбье, в безлунье состряпаны выборы
здесь, где век-вурдалак всё живое гнобит,
где трансформеры-гопники, киборги-килеры
всё надменнее корчат значительный вид.
Вот и брызжет мне, княже, багряными фесками
в очи время. И ломится в грудь шариат.
Ты ведь прав – над Кощеями и Чаушесками
правя требу – псалмами, до крайности резкими...
И семь раз осенён – твой осиновый клад!
2013
* * *
Правитель Цепеш в замке Тырговишты
макает в миску с кровью пайку хлеба.
И воют с кольев хрипло: «Да взгляни ж ты
на злую землю, Вседержитель неба!»
И правда в том, что ныне - не иначе
стучат часы... Под мантией и рясой –
всё те же лапы, волчьи да собачьи,
всё тот же дьявол власти, рубщик мяса.
Теряет казням счёт Средневековье,
не каясь ни на век, ни на минуту.
Влад Дракула под угольною бровью
глаз рачий, вурдалачий пучит люто...
2016
К листве лимонной чёрного двора...
Пахнет гречкой, подгоревшей в коммуналке у соседей.
За подъездной драной дверью – двор, усыпанный листвой.
«Аз» - скажу пароль, а осень мне ответит «буки, веди»,
грудь и плечи расправляя, как румяный постовой.
Словарю пословиц Даля лисьей шапкою кивая,
баснописца поминая с тонконогой стрекозой,
листопад унюхал рифму. А когда она живая,
сам я чую возбужденье гончей или же борзой.
В чаще веток – лепетанье алфавита, плески гаммы
и синичий, - в клюв из клюва, - дробной ноты перелив.
В ярком умиранье формы есть языческая драма,
но Завет благовещает, что Носитель сути жив…
И на полусбое ритма, на простудном переходе,
на изломе самописца – рисовальщика дуги –
я сутулую фигуру в промелькнувшем пешеходе
поспешу узнать… И ближним без труда прощу долги.
Кто любим, тот не уходит, даже если отлетает. –
Листопадом окликает и наклоном головы…
Ясной осенью, должно быть, мальчик мой меня узнает
из-под челки белобрысой… Дымной осенью, увы…
* * *
Ракло и тремпель - харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь заполночь царапаясь в жильё...
Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся -
к листве лимонной чёрного двора,
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.
И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город - из травы и стали,
босяцкая и ангельская стать...
Отнюдь не ссуда освежит нам кровь...
Крумлов
Летунья-дочь,
ты мчишься в Крумлов смело,
а мне и не угнаться за тобой.
По кругу дней тащу я суть да дело,
седой ковбой с поджатою губой.
В Анталии, в Египте и на Кипре
я вновь, увы, догнать тебя не смог.
И в Римских водах, в изумрудном Тибре
не омывал я варварских сапог.
Но город-замок ждёт меня, я чую,
но кличет Крумлов охрой черепиц
и шепчет мне, что рядом, одесную,
надолго задремал Аустерлиц.
А мы без рваных ран, под красной розой,
как завещал правитель Роженберк,
с глобальною управимся угрозой –
с тем, что дырявит землю карла-цверг,
в горах окрестных добывая злато…
Отнюдь не ссуда освежит нам кровь,
но волны Влтавы, но дыханье мяты,
но древних башен девственная новь!
2016
* * *
Ценя лауреатов-стихотворцев,
нобелиатов и иных достойных,
я всё таки инстинктом выбираю,
к кому из них навстречу мне спешить.
Сто лет уже люблю пражан и Прагу. –
И с Градских круч
так яро славит Сейферт
поэзию и музыку!
Он прав,
когда превыше золотого перстня
метафору магическую ставит.
Ведь Слово впрямь –
небесное посланье.
И нет от Бога нам любви верней.
А золото – лишь пайка рудокопа,
добытая из чёрных червоточин,
из почвы, поглотившей мертвецов...
Вот разве что
блеснёт в студёной речке
его крупица, аурум, чешуйка
молекулой и образом удачи,
метафорой,
но только бессловесной.
Блеснёт –
и глаз зажмурит мотылёк…
2016
На мотив
Ярослава Колмана Кассиуса
Поэт
На влажных ветках фраз пусть вызреют слова,
А розы саду сна подарят дуновенья.
Пусть мысли махаон пригубит лишь едва
С росистых лепестков полкапли вдохновенья.
Храни же, не сомни живого мира мех,
Взглянув ли на него, погладив ли рукою.
Былое будет жить в душе для новых вех,
Для синих слёз весны над прелою листвою.
Весенний водопад сверкнёт в стихе твоём,
Не приглушай теперь хрустальности клавира.
Зелёно-белых скал так ярок окоём,
Так ароматен снег искрящегося мира!
Перевёл с чешского
С Шелковый
И жизнь, казалось, правильно идёт...
* * *
Хорватия – Икар без головы.
Таков на карте странный её абрис.
Когда-то каждый день листал я атлас,
а ныне – лишь по праздникам, увы.
Но вновь ко мне Дубровник, Сплит и Хвар
во сны приходят зимними ночами,
и снова слышу зов я за плечами:
«Я жду тебя, мой кровник, мой Икар!
Приди – и мы у моря пару крыл
для новых взлётов сладим понадёжней.
И пусть доступной пищею подножной
рождённый ползать голод утолил.
А мы с тобою вдоль воздушных дуг
над синью Адриатики помчимся.
Ты ведь волшебной музыке учился
и знаешь, что в гармонии – все числа,
что в поднебесье – кода чистый звук…»
2016
Воспоминание о Малаге
Раскрою вновь тетрадь – как быстро время мчится!
Уже который год засохшие цветы
томятся меж страниц... Но вновь все дни, все
лица,
всю Малагу, душа, вернуть захочешь ты.
Поляны роз её изысканностью дара
бесспорно посрамят Челлини с Фаберже.
Как прян ветвей кармин на склонах Гибральфаро,
как звонок солнца диск на знойном вираже!
Вернёмся ли, мой друг, туда, где нас пленяли
не чуждые, – о нет! – вселенские черты,
где штопор отворял столетья по спирали
и зайцы в хрустале мерцали, как цветы?
Вернёмся ли, душа, на родину Пикассо
иль Малага без нас пропьёт запас вина?
Под крепостью-горой – в два столика терраса.
Чуть вермутом горчит волна ночного часа,
и в свете звёзд полынь – смиренья седина...
2016
* * *
И.
Ещё вчера тебя я угощал
печёным вепрем и моравским пивом
в подвале златопражском «Астрогал»
с аккордеоном, словно тигр, игривым.
По перламутру клавиш музыкант
сновал в запале, радостно мажорном.
И на груди крахмальной чёрный бант
искрился ярче красного на чёрном.
Он пел по-чешски, будто Карел Гот,
как петь учили Сметана и Дворжак.
И жизнь, казалось, правильно идёт –
без белых пятен и без чёрных кошек.
И мысль мелькнула, что патриархат
с немытой вековечной бородою
и нас с тобой отпустит в Пражский Град,
и отпуск даст свирепому конвою,
что скрежет траков с пражской мостовой
в левады наши вломится едва ли…
Но, Боже мой, но, бедный разум мой!
Как мало мы о порче родовой,
как мало мы о зле и смерти знали!
2016
Почти неслышный дождь пошёл...
* * *
Почти неслышный дождь пошёл,
шурша по кронам летней ночи,
задумчивый мотив завёл,
составленный из многоточий,
из невесомых пауз тех,
в которых явных смыслов мало.
Но нам, по бедности, на всех
и этой кротости хватало.
И нам в негромкой простоте
хватило ночи августовской,
чтоб о Персеевой звезде
вздохнуть и о судьбе неброской,
таящейся за тишиной,
за танцем капель двухминутным…
И ты мой путь, мой срок земной,
пройдёшь, как дождь, простясь со мной
в недоуменье неподсудном…
2016
* * *
Каждый день приносит вызов новый,
новый зной хватает за грудки:
«Ты всё тот же отрок непутёвый,
ливню подставляющий виски?»
Отвечаю: «Тем же, прежним, буду –
нарисую буквы на листе,
через зной и холод руку к чуду
протяну в бездушной пустоте».
2016
* * *
Вслед голодная кошка мяучит.
Чем тебе, египтянка, помочь?
И меня ведь снедает и мучит
неуёмностью порча из порч.
Не отпустят ни жажда, ни голод.
И непознанной сути вослед
буду жалко скулить, ибо смолот
урожай мой, а дом мой расколот,
и согласья меж присными нет…
2016
Теперь светись, Фазиль...
В последний день июля в Переделкино умер Фазиль Искандер.
Царствие небесное ушедшему из жизни большому поэту, писателю, философу, человеку.
В июне 1989 года мне довелось в Коктебеле дважды увидеться с Искандером.
От этих двух встреч осталась у меня его книга "Созвездие Козлотура" с дарственной надписью на титуле, сделанной по-детски крупным и приветливым, словно его улыбка, почерком:
"Сергею Шелковому - поэту - братски от ФАИскандер. Коктебель, 26.6.89 ."
Последнее слово "ФАИскандер" выступало уже по сути в роли факсимиле и оттого из родительного по строю фразы падежа переходило в именительный.
Эти слова, написанные в Коктебеле Искандером, дорогие мне и тогда, почти тридцать лет назад, в дни моего неофитства, когда по двум первым книжкам меня только что приняли в СП СССР, становится мне ещё дороже теперь, когда мудрый и человечный писатель окончил свой в высшей степени достойный земной путь.
И, думаю, что не рассудку моему, а сердцу захотелось сейчас, вдогонку Фазилю Искандеру, окликнуть его несколькими прощальными строчками:
* * *
Памяти Ф. Искандера
Теперь светись, Фазиль, в созвездье Козлотура…
Мне виден Коктебель, июньский солнцепад,
сухумский Зороостр, плечистая фигура
и полный мглы веков и дружелюбья взгляд…
Теперь вернулся ты в окрестности Чегема –
вновь стригуном скакать по маковым полям.
Там не всегда верна Эвклида теорема,
и золотом зрачков смеются рощи там.
А дядюшка Сандро, с загадкою улыбки
на честном и простом коричневом лице,
всё знает наперёд без страха и ошибки
о сыне Абдулы, задумчивом юнце.
Ты дважды подал мне приветливую руку,
абхаз и перс. Апсны с Авестой – исполать!
Тех киммерийских дней храня в душе науку,
в Эдем через Чегем я дам охотно крюку,
чтоб снова от тебя о братстве услыхать…
И вот ещё добавлю свои стихи о Коктебеле
тех самых времён встречи с Искандером.
Может быть, услышит их Фазиль из иных измерений
и порадуется воспоминанию о уже далёком благословенном крае -
Коктебельская бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной -
темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи – роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись – прощаться рано.
Кто слышит зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна, -
до римских львов, до львиных пирамид!
1 .08. 2016
Мой львёнок, цвет золотогривый...
Дочернее
1.
Мой львёнок, цвет золотогривый,
дыханье августовских дней,
где полдни спелы, словно сливы,
где щедрость мира всё ясней!
Мой первенец, глядящий зыбко,
одетый в сонные шелка,
повитый отчею улыбкой
и женским счастьем молока!
Ты слышишь - в полночь кружит небо
зверей огнистых карусель,
раскачивая с львиной негой
судьбу, планету, колыбель?..
2.
Сизифов зимний день втащу под крышу,
всё той же вечной лестницей взойдя. –
Но не ропщу, ведь я за дверью слышу
твой голос, ясноглазое дитя!
Войду – и мне в прихожей улыбнутся
два сброшенных, два красных сапожка.
И милосердно губ моих коснутся –
судьбы дыханье и твоя рука...
3.
Всё! Наконец домой вернуться
с тропы бродяжьей и случайной,
линялым усом окунуться
в расплав крепчайшей гущи чайной.
Лаская груз фамильной чашки,
под перезвоны разговора
кольнуть клыком, чуть одичавшим,
глазурь забытого фарфора...
Как дышат разноцветной плотью
на книжных полках царства граций!
Как плавно складни переплётов
тебе навстречу отворятся!
И страстно вскрикнет половица
древесным плетивом волокон,
и озарится гладь страницы
кошачьим оком, спектром окон!
И, дрогнув эхом, обернётся
иною рукописью время.
И дым пространства чуть качнётся...
А надо всем и надо всеми –
щемящий свет дочерней тайны,
свеченье детской млечной кожи,
глаза, что всё необычайней,
всё больше на твои похожи...
4.
Пробуждаясь от майского сна,
ты меня окликаешь чуть слышно.
Дочь, росток мой,
за окнами вишня
расцвела невесомо и пышно,
и разгадка её мне ясна. -
Есть у времени странность одна,
что понятна мне рядом с тобою. -
Вряд ли мы разминёмся с зимою,
но так вечна сегодня весна!
5.
Окунается окунь в чернила заката-лимана.
окунается с радостным плеском, срываясь с крючка.
От турбазы доносится песнь о гульбе атамана.
Песня тоже пьяна - хоть проверь, хоть поверь с кондачка.
Вот вернусь в халабуду - и сам прихлебну из бутылки,
ибо крови моей отсосало стакан комарьё.
Засолю окуньков и развешу на леске, на жилке,
чтобы зря не пропало рыбацкое счастье моё.
Ох, и темень же здесь, на азовском вечернем заливе!
Называется "Лотос" турбаза. Атос и Портос
из растрёпанной книжки глядят. И в едином порыве
комариная свора решает свой шкурный вопрос.
А с утра хорошо! По песку разогретого лета
с шестилетнею дочкой идём босиком на канал.
Караси-кругляши в золотые чешуи одеты.
Ну, тащи его, милая! Вот он, в траве засверкал!
Безмерен грустью, сроком мал...
* * *
Я один. Звать меня Кузнецов.
Остальные – обман и подделка…
Юрий Кузнецов
Ты пил из черепа отца,
а, может быть, и нет.
В пятне размытого лица
смешались тьма и свет,
черты волхва и Пугача,
поэта и мента.
И плакала из-за плеча
святая простота.
Был переполнен дымный зал
толпой писак густой.
И ты мне книгу подписал
с внезапной теплотой:
«На память добрую, Сергей,
на острый слух и взгляд…»
Спи, грешный ангел, Асмодей,
там, где никто не свят.
Меж Троекуровских могил
бесстыдно бродит смерть.
Не оттого ль ты вусмерть пил,
что слышал неба твердь?
И средь кладбищенских холмов
упырь скликает рать,
чтоб вновь из отчих черепов
кровавый хмель лакать.
Пробьётся ли сквозь пьяный бред,
сквозь вурдалачий мрак
твой звук, – вопрос и неответ, –
не лицемерья пируэт,
кромешной правды знак?
2016
Памяти А.Передреева
Лил зимний дождь что было сил
за окнами на голь деревьев.
Чуть трезвый Толя Передреев
в тот вечер стих мой оценил.
В тот раз дружок Рубцова пил
с другим, малодостойным, другом
и горько плакал, будто стругом
подбитым в омут уходил.
Земля, где гибнут мужики
от гордости, хоть и по пьяни,
то в Вологде, а то в Рязани
редчайшие родит цветки.
По-детски искривляя рот,
твердил он, со слезой и болью,
что сердце сорвано в застолье,
что сам он вскорости умрёт...
Так подлинно он предрекал
свою погибель в плаче этом!
Он очень русским был поэтом -
безмерен грустью, сроком мал.
Он умер дома и во сне.
От сердца. От родимой водки.
Прости же, милый, пир короткий.
Опохмелись последней соткой.
И оживи, на миг, во мне...
С милыми сердцу Ириной, Еленой...
21 июля ... года
С милыми сердцу Ириной, Еленой,
с нунцием папским и юношей Ю
над яркоструйной, индиговой, пенной,
над Карасанскою бухтой парю.
Нунций - чуть лыс и зовётся Эрмано.
Как ни крестись - а двоюродный брат.
О, мой лиловый, сиреневый! Рано
в душу я взял аромат ваш и яд.
Вздымем по склянке пурпурного зелья
и на чужих поострим языках.
Впрочем, случайно и кратко веселье –
не захмелеть и синице в руках…
Боже, земная мне кровней обитель,
но в облаках улыбнись обо мне!
Вряд ли воитель, лишь искры хранитель,
выпью и в волны войду при луне.
Савонарола грохочет за рощей –
метящий время полночный прибой.
Звёзды - всё колче, столетье – всё площе…
Отче! И всё же призри мои мощи,
дай ещё миг –
объясниться с собой.
* * *
М.
Круги, овалы, эллипсы и дуги
стрижи в полёте чертят неспроста.
Не зря их крылья – веерно-упруги,
не зря изящна вильчатость хвоста.
И если о моей любимой птице
меня ты спросишь, первенец-малыш,
мне не придётся, милый, усомниться
в единственном ответе: «Летний стриж!»
Вдоль каменных аркад сникают годы –
уклон, откос, измена на излом…
Но как неодолим инстинкт свободы –
чертёж стрижа в пространстве мировом!
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем,
и прощены, и ввысь вознесены, –
соратники и острокрылым стаям,
и тонким дням июньской белизны...
* * *
Два шмеля средь игл чертополоха
пьянствуют в малиновых цветках.
Вянет дальний голос кабыздоха
в истомлённых августом полях.
Два шмеля в мехах золото-чёрных
рьяно льнут к лиловому вину.
В этих полднях знойных и просторных
скоро растворюсь и отдохну.
Было всё, и большего не нужно.
Жизнь спешит на круг иной, чужой.
Благодатен день полновоздушный,
и репей алеет над межой...
2016
И слёзы счастья вытирай...
* * *
Как ты, дружок, ни семиструнь,
а лето вдаль уходит.
Жасмином-лебедем июнь
в отлёт с собой уводит -
шиповника венчальный цвет
и липы плеск медовый,
и триолет свой, и сонет
о Леде нежнобровой.
Струят лазурь её глаза
над морем и над сушей.
И о любви не петь нельзя -
вслед жизни промелькнувшей.
Как строй струны ни подбирай,
спешит за Ледой Лета...
Но ты, мой друг, своё играй
про мимолётный летний рай,
и слёзы счастья вытирай
над правдою сонета.
2016
* * *
Деревянные перила, деревянные террасы,
деревянные ступени грустным голосом поют,
ибо время все бездушней – год от года, час от часа –
перемалывает в пепел перепончатый уют.
И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,
плыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлён.
В летнем коконе веранды, в древесине говорящей
перламутровою жилкой трепетал легчайший сон.
Были в сетке переплёта разноцветны ромбы стёкол,
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...
Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щёлкал?
Чья беседа по овалу вкруг столешницы текла?
Кто там в платье светло-синем загорелыми руками
над фамильною посудой рано утром ворожил?
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...
Я один на свете вижу те сосновые ступени.
На веранде – капли воска, брызги битого стекла...
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,
и записка поминанья одинока и бела...
Подсолнухи двадцать первого июля
21 июля 19.. г.
И всегда гладиолусы в праздничный день –
то лиловое, то нежно-алое пламя.
Отзвенит и удвоится дня дребедень,
и, вечерние гости, я сызнова с вами.
Все – знакомые лица, всё те же глаза,
что не радостней, нет, не смелей, не моложе.
И уже приласкать ни минуты нельзя,
хоть ещё и секунды оплакать негоже.
То, что было пребудет. А слабость и срам,
захотят – обернутся крепчаньем молитвы.
Как трепещет листва своенравным ветрам,
так дрожит поутру зазеркальице бритвы.
Вот он, поздний июль именинного дня:
гладиолусы, пена зелёной бутылки.
Пьёте ль вы за меня иль клянёте меня –
а не царь я себе, ни во лбу, ни в затылке.
То, что пелось крылато, забыто давно.
Дышат чем-то не тем ясноглазые дети.
В чёрном воздухе – белым султаном вино.
Нам опять всё былое терпеть суждено
на премудро-жестоком и праздничном свете.
Подсолнухи 21-го июля
А.К.
А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
И круг пространства-времени един...
Киммерия
Здесь волны шепчут имя Пифагора,
шуршат "Анаксимандр, аквамарин"...
Здесь нету слов для жалоб и укора,
и круг пространства-времени един.
И этот круг, живая эта сфера,
верней, взаимопроницанье сфер,
искрят то алой альфою Гомера,
то опереньем весельных галер.
Так детородно Понта колыханье,
так страстен стон волнующихся вод!
О, выслушай еще одно признанье
и продолжай свой кесарийский ход,
клочок земли с налетом перламутра,
где целый век в виду волнистых гряд
встречаю я аттическое утро
и провожаю варварский закат!
И если б каплю пурпура для тоги
сумел я здесь добыть, залетный росс,
да видят беломраморные боги -
и я свернул бы с каменной дороги,
и я бы в эту охру с хрустом врос...
Коктебельская бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной -
темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи – роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись – прощаться рано.
Кто слышит зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна, -
до римских львов, до львиных пирамид!
Волошинский холм
Знойная сухость - таврийская муза,
тысячелетник - лилов на холме.
Чётки, насечки - жеребчика узы.
Аве! - июлю, и август в уме.
Платину плавит понтийское лето,
цезий в изложницы Цезарей льёт.
Царственна в полдень зенита монета -
аверс ликует, звенит оборот.
А базилевс сухотравья, кузнечик,
чалый скакун, цымбаларь да скрипаль,
снова седлает бессмертника венчик
и озорует, соломенный враль.
Нет, не сидится в тени мне за чаркой -
соли и зною ресниц вопреки
снова взбираюсь на холм янычарский,
море лаская у правой руки.
Здравствуй, Волошин, полынный мой кровник
с привкусом дедовского "цоб-цебе"!
Слышишь ли, глиняной правды виновник,
вздохи и шорохи почв о тебе?
Видишь ли, - брызжут кобылки над склоном,
крылья расправив в химерном броске? -
Рифмы, что шифром искрят потаённым,
колером - алым, шафранным, лимонным
и растворившим лазурь в молоке!
Вот счастье моё на земле...
Перечень
И Рильке, что умер, внезапно уколотый розой
в ту руку, что так вдохновенно водила пером,
и, взятый в пожизненный плен низколобой угрозой,
сакральный Платонов, замученный в доме на слом,
и Джотто Бондоне, – о, соле, о, анджело мио! –
что чёрною пастью Иуды рождает Христа,
и Пушкин-Сверчок, и цикад Амадеевых диво –
вот счастье моё на земле, навсегда, неспроста!
И Ланца со мною навек, и Свидзинский, и Тесла –
по сердцу, по крови, по духу собратья мои.
Здесь с Брейгелем Босх – обличений гремучие чресла…
Здесь краски сжигают Винцента, дабы не исчезла
над бездною радуга, множа Триады слои.
2016
Вербное Воскресенье - Palmensonntag
В начале этого лета вышла в свет моя книга-билингва на русском и немецком языках "Вербное Воскресенье" -"Palmensonntag", где помещены около 40 переводов моих стихов, сделанных Алексом Шмидтом и Яковом Матисом и около 30 моих стихотворений о Германии - это уже только на русском.
Часть этих стихотворений из третьей главы "Гармония Германиии строга..." я здесь и размещаю
Реформация
Ульриху Габберту
Брат-дикобраз, разящий отовсюду
отточенными стрелами словес, –
се Аквинат, се обличитель блуду,
брюхатое предгрозие небес...
И всё же климат мягок. Но на север –
подобны башням Эльбы берега,
и, словно луговой неяркий клевер,
гармония Германии строга.
Здесь, северней, вздымает голос Лютер,
и крепкий ветер рвётся в затхлый храм.
У алтаря скупые слёзы муттер
роняет по нордическим сынам.
Сюда, в обитель мощного органа,
в холодное жилище высоты,
приносит честный немец покаянно
румяные крестьянские цветы.
И я вхожу в их стрельчатые храмы,
чтоб средь суровых стен и витражей
понять вернее их триумф и драму,
гортанность речи, прямизну ножей.
Германия. Ухоженные астры
и ларь дубовый, нажитый трудом.
И пастор, ясноглазый и лобастый,
напоминает мне в беседе частной,
что храм тевтона носит имя Дом.
Воинственны готические крыши,
но воды Эльбы кротки. Берег тих,
там, где в соборе Магдебурга, в нише,
светлеет лик Марии, и всё ближе
к бездонной тишине – прощенья стих.
Кведлинбург
Там скупо, пасмурно-тепло
апрель восходит осторожный,
и тучный коршун тяжело
взлетает с груши придорожной.
И чтя воскресный перекур
медноголосием обедни,
всплывает город Кведлинбург,
нетронуто тысячелетний.
Под крапом, охрой черепиц
дубоворёбрые фахверки –
плеяды угловатых птиц,
всегда готовые к поверке, –
укрыли в жилистой душе
седого долга разуменье
о несогбенном палаше,
о грузной Лютеровой тени...
Там, как музейный арбалет,
с прицелом в око иностранца,
строга премудрость, трудность лет
под серой чешуёю сланца.
И замок-бург с крутой горы,
когда-то лютый и богатый,
на смену в правилах игры
глядит теперь подслеповато...
Но солнце, пристальный хирург,
в бельмо вонзает луч летучий. –
И отвечает Кведлинбург:
«Яволь, герр доктор! – Легче, лучше...»
* * *
Звёздное небо над нами
и нравственный закон внутри нас...
И.Кант
Есть две строки во многотомном Канте.
Я деспотию почвы пережил.
Знать, нечто знал о стайерском таланте,
о напряженье мозга, нервов, жил.
Господь не упрекнёт меня за чёрствость,
ведь внутренние слёзы столь теплы,
что дым наружных слов, – зачем-то, чёрт весть,
на кончике пера, хвоста, метлы
взвихряясь, – даже искры не прибавит
к полученной в наследство теплоте...
Кто призван, тот Отца без крика славит,
а горло на подмостках рвут не те,
не те, кто сопричастен жизни Духа.
Ещё я знаю то, что вопреки
скуденью зренья и провалам слуха
пребудут вечера свежи, крепки. –
Под чёрным небом в белой лечь сорочке
на землю, но вдоль Млечного пути.
И заново прочесть в себе две строчки
о том, как это поле перейти...
Шверин
В платанах Шверинского замка
дробится апрельская трель.
О, дрозд, вдохновитель мой, danke,
пернатый агат, менестрель!
Озёрные серые воды
прильнули к узорам торцов,
и грумы под пышные своды
крутых увели жеребцов.
Хрустит под подошвою гравий,
лекала дорожек чисты.
Никто уклоняться не в праве
от строгости и простоты.
Никто отрекаться не волен
от каменной славы дворца
от сталеплавилен и штолен
и от орденов мертвеца.
Курфюрстовой вольности высверк
за стенами замка уснёт,
зане несгибаемый Бисмарк
в Берлине историю гнёт.
Традиция давящей воли,
железо тевтонских забрал...
Но пахнет апрель лакфиолью,
и плавен озёрный овал.
Но над белокорым платаном,
над лепкою рыцарских звёзд,
умытый шверинским туманом,
о Гретхен, об умнике странном
поёт мефистофельский дрозд...
Плющ Померании
Вот плющ германский, отстранивший ересь, –
работник с родословной благородной.
В фундамент кирхи крепко корни въелись,
чтоб стебель сжился с кладкою холодной.
Вот лист тройчатый – жилистый характер
костисто-долговязого тевтона.
Дождь моросит, и в кирху входит патер –
торжественно, как Дух в предверье лона.
Промокший зимний плащ скудельно-зелен.
Атлантики солёные туманы
предсеверным гранитноглазым землям
целят по-свойски рыцарские раны.
Вот зелья соль, тройное заклинанье:
терпенье, труд, прямой хребет до гроба.
На Хайди ли, язычнице, на Ханне –
плащ из плюща, нордическая роба.
И я, – с помором, с Померанской чайкой,
с зарывшейся в песок бродяжьей баржей, –
опять вплываю, вестью неслучайной,
в зрачок сестры прохладной – Эдды Старшей.
* * *
Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен
на июльской ладони мне жадина-жизнь подносила.
И когда прогрызёт мне кадык тупиковая плесень,
оживёт в переулке-струне молодильная сила.
Не сказать, как вишнёвых деревьев пунцовые кроны
над забором-горбом ни за грош, по любви, вызревали!
И когда упаду я обломком лепнины с фронтона,
карнавалы красавиц и дружных стрижей фестивали
мне качнутся вослед, догоняя, рифмуя, прощая...
Снова синь грозовая чернильною станет и чёрной.
Над простыми предметами и непростыми вещами
головою качну я в ответ, понапрасну учёной.
А проснусь ли живым – подпою! Ибо вечные звуки,
махи пчёл, махаонов, стрекоз, темперируют воздух –
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки
Фредди Меркури шалого – в тающих утренних звёздах...
* * *
Просторней, солнечней, смуглее
мои наследные края,
но в странном зазеркалье Клее,
скользит меж клевера змея.
От града Нюрнберга до Кёльна
цветна туманов полоса.
Довольно, Грета, о довольно! –
Вино и яд – твои глаза.
Горчит и жжётся, Маргарита,
тобой надпитая судьба.
Реторта и купель разбиты,
и не спасает ворожба.
У острокровельного дома
тропа не в силах повернуть...
Могло случится по-другому,
но в тигле не вскипела ртуть.
Но рыхлый философский камень,
скупой алхимии завет
взметнули только сизый пламень,
не алый, нет. – И чуда нет.
И ты – вдали, ты – чужедушна,
надменные твои уста
нежны сегодня и послушны,
а нет на них любви креста...
И нет крыла на нашей встрече.
Герани Альбрехта красны.
Молись, строптивый человече,
у алтаря чужой страны.
Вдыхай прощальней и смелее
и дождь, и солнце бытия.
Но там, где скошен клевер Клее,
насквозь промокла тень твоя...
Пересадка в Хофе
Медвежий заснеженный угол,
Баварская Тмутаракань.
Гранёный – сквозь прозелень – купол,
понтифика медная дань –
чуть слышному веянью Духа
в ничуть не хвастливых краях...
Сочельник – огней заваруха,
нерусской гульбы полувзмах.
Тевтон по надежде и вере
пирует. Что Рейн, а что Майн –
везде карусельные звери
и паром цветущий глювайн.
Везде – окольцованность долгом,
завет-аксиома о том,
что счастье пути будет долгим
над велосипедным седлом!
И я в пересадочном Хофе,
где поезд вот-вот подадут,
под ёлкою выхлебав кофе,
негромко подумаю: «Гут!» –
про этот старательный угол,
что вынянчил в твёрдом труде:
искрящейся патины купол
и Святок малиновый уголь,
трескучий – навстречу Звезде...
Магдебургская песня
В осеннем ясном воздухе холодном
стучит трудолюбивый молоток,
германский совершенствуя чертог.
А нам – суконным, ватным, старомодным –
путь затруднён в калашный, здешний ряд…
«Калашников»-алкаш, царь-автомат,
изделие сорок седьмого года –
вот песнь смертолюбивого народа!
Вот стих на все пространства-времена!
Опять в тевтонском воздухе слышна
мелодия старательного скерцо –
не молкнет фрица честный молоток...
О, брат мой! Разве стал бы я жесток,
когда б не этот, в клочья, образок,
когда б не пуля – издали, под сердце?
Квартал Сан-Паули
Порядком в кухне, свежею едой,
речной прохладой веет ветер Ганзы,
И дни мои нестройной чередой
Уходят – поперек дороги Ганса.
Германским буком мне едва ли быть, –
Мой нрав попорчен ропотом осины.
И не постичь мне ни тевтона прыть,
Ни плавное коварство мандарина.
Сан-Паули полночная свеча
Цветёт над блудом уличного бала,
Где черными синкопами рыча,
Лиловой пастью влажен зазывала,
Где муравьиной цепкостью вкраплен
В янтарь своей харчевни китаёза...
И нагл, и простодушен Вавилон,
И полон разноцветного наркоза.
Гуляет Гамбург, город городов.
Резвится оборотистая Ганза
И каждому от праведных трудов
Дарит шансон или обмылок шанса.
На Реппербане рдеют фонари.
Во тьме, под иероглифами ночи, –
В заботах от заката до зари
Прельстительниц искательные очи.
Почти не жаль срамной их красоты,
Их юности, пошедшей на продажу, –
Без трепета лилейные цветы
Несут на лицах синих мух поклажу.
Почти не грустно и на этот раз
Смиряться с перевернутостью мира.
Почем ночное солнце этих глаз?
О, не дороже ль венского клавира?..
Хмелеет Гамбург. Темною водой
Пахнёт свежо от гавани соседней, –
И дни мои нестройной чередой,
С обедом разминувшись и с обедней,
Отчалят от ганзейских берегов,
Чтоб никогда сюда не воротиться,
Где фанза Чанга и Мими альков
Дробят звериный лик больших веков
В неразличимо-крохотные лица…
* * *
Мёдом не будь, ибо слижут в два счёта тебя,
ядом не стань – будешь наземь извергнут блевотой.
По горько-сладким сусекам с утра поскребя,
полнись высотной и полновоздушной заботой.
Век технологий гарцует, грызя удила.
Что ни опричник – в клешне золотая мобила.
Чудны, Отец, и чудны Твоей глины дела –
к хорде Адама цепляется Голема жила.
Синее, с каплею кобальта, светит стекло.
Марс ли искрит или Веспер на сколе флакона?
Чистому разуму на сто пудов повезло –
Гуссерля гусли гудят отголоском Сиона.
К Ясперсу в Гайдельберг на семинар ли спешишь –
дышит в глаза осевое, несущее время.
Воду и хлеб, и реки философской камыш
сердце вбирает, и чакрами чувствует темя.
Тихо мерцает во тьме гигабайтами сеть,
дивны, Отец, фолиантов шрифты и закладки.
Жить в очарованном мире и в нём умереть,
на уронив высоты на прокисшую твердь,
не разлюбив ни одной сокровенной загадки...
Апрель в Брауншвайге
Весенний, белый и лиловый, дым,
цветенья дым, ласкает млеком веки.
Здесь благостно. И потому чужим
ты будешь здесь – и ныне, и вовеки.
Здесь тихо. И апрель у древних стен
цветёт ещё нежней, ещё моложе.
И воспалённой жаждой перемен
не режет глаз он и не ранит кожи.
Здесь в воздухе сполна растворены
приметы благодатности усилий.
И патиной – лазурью седины –
мерцает медь церковных крыш и шпилей.
Старинный город – охраняем львом
из бронзы золотисто-кудреватой.
Внимай ему. Но всё, что о своём
припомнишь, – будет слов напрасной тратой...
* * *
Фолькеру Ульбрихту
Холодная весна идёт,
и продают на Пасху вербу,
понеже обновляет веру
евангелический народ.
Забудем ли, саксонец мой,
как были юны мы когда-то,
когда звенели брат на брата
гранёной склянкой гулевой?
Увы, то выпито давно,
но мы единства не избыли,
хоть и ушло из нашей были
легкотекущее вино.
Форзиция в цвету нежна,
в апрельском дрезденском тумане.
Как правильно, – без упованья –
свой трезвый возраст пить до дна!
Твой, трижды интегральный, круг
и мой чертёж – не очень схожи.
Но разность нашу не итожу, –
Она обманчива, мой друг...
Желты форзиции кусты –
свежи, золотопенны ветки!
Саксонского упорства предки
глядят с дворцовой высоты.
И в угловатости забрал,
в суровых рыцарях из камня
порука твёрдая дана мне
в том, что ещё не кончен бал,
что в сумрачном апреле есть
пасхальных благовестов звуки
и, стоящая всей науки,
раз в год о верном сердце весть...
* * *
Пламенистый параллелограмм...
В.Набоков
Здесь облик Баха тучен в тёмной раме,
а там – деревья снежны за окном.
И в пламенистом параллелограмме
сквозь иней стёкол весть влетает в дом.
О том, что в белых ветках – пенье взмаха,
что ноты вертикалей так чисты!
Нет в музыке прижизненного страха,
а есть морозный воздух высоты.
Бездушны зеркала, мертвы портреты,
и нет в нас звонкой лёгкости детей.
Но ромб огнистый, лёгкий сколок света, –
летучее предчувствие вестей:
о небе Иоганна Себастьяна,
о вздохе неразгаданной души,
с том, что жизнь цветна, а смерть обманна,
что до и после – всё лучисто-странно
и в кирхе Баха звонки витражи...
Книжный развал
Дант и Мазох, Мисима, Каббала
и дюжина других запойных книжек.
Коран един, яко един Алла,
но сердцу мил зернистых слов излишек.
Запью глоток багряного вина
глотком осенним солнечного ветра.
Средь книг и жён – не хуже ни одна,
ведь равно ждут и Федра, и Деметра.
Сентябрьский город летом обуян,
зной щедро-золотист, как Илиада.
И я, от долгой молодости пьян,
спать не смогу без новой капли яда.
Ладонь твою в свою ладонь беру
у алтаря – у книжного развала.
Хочу, чтобы в скудеющем миру
одной зелёной буквой больше стало.
И мне опять глаза твои нужны,
чтоб нечто знать о будущем сегодня,
чтоб невесомый голос тишины
спасти от тяготенья преисподней...
Две мои страсти сращены в одну:
зов женщины, чьё эхо – детский гомон.
И лепет фолианта, где в плену
у тела гнома – небожитель Гофман...
* * *
Die Sonne scheint hell* – вспоминается через полвека.
Над мятым учебником полдень тевтона сияет.
И солнцеслужение над головой человека,
над жизнью поспешной размеренно циклы считает.
Das Wetter ist schön** – небеса разгораются ясно,
синеют, искрятся школярского счастья сугробы.
Не веришь – а жизнь промелькнула, напрасна, прекрасна,
и мчится сквозь сон твой – челнок с очертаньями гроба…
Но с тем, что осталось, да будем тверды, как тевтонцы,
крестовые рыцари-псы в ослепительных латах!
Die Sonne scheint hell – всё упорствует зимнее солнце,
и ель, словно кирха, встаёт на молитвенных лапах.
Парит танненбаум германского чёрного леса,
закатный багрец января – всё тревожней, всё ниже.
И школьный мой дойч переводит мне Лютера мессу
и ропот глухой расставания Вагнера с Ницше.
*ярко сияет солнце (немецк.)
**погода прекрасна (немецк.)
* * *
Я думаю, не умер Бог.
Тевтонской спесью порчен Ницше –
летучий аспидов клубок
и он же – лунь простёртый ниц же.
Но Бог, как минимум, устал.
Устал не менее, чем люди.
Ведь фарисеи правят бал,
мусолит ростовщик кристалл,
и нет раскаянья в Иуде.
Заплачь, коль можешь.
Сам суди!
И сам к секире подходи
для воздаянья... Ибо в нём –
просвет меж злом и полным злом.
Вдоль Лабы
Это Дрезден, это Прага,
островерхие кремли –
там, где брага и отвага
в лоне камня расцвели.
Замки, панцирь-оболочка.
А из окон – злата ток,
словно бы под сердцем квочка
нежит в извести желток.
Спит Флоренция на Эльбе,
воды зимние черны.
Гуще бы в сочельник ель бы!
Вьюги, колкой свежины!
А коль глянет Цахес криво
вдоль саксонского моста –
рядом чешский город-диво,
речи сестрины уста.
О, вдоль Лабы ездки эти
меж заснеженных столиц! –
В обгоняемой карете
экивоки тонких лиц!
Словно кисти и клавиры,
и смычок волосяной
дружат в этой части мира
с разлюбезной стариной.
В чёрный Дрезден, в злату Прагу
мчится пара снежных крыл –
вьюги белую бумагу
Рильке голубем сложил.
И летит вдоль Лабы птица,
вдоль чудес известняка.
В этот лётный путь влюбиться –
право, легче пустяка.
Вот и я, хоть и хирею,
а вовсю гляжу на свет. –
За пургу, за сверхидею
любит жизни ахинею
хореический поэт!
Записка из Трира
То Крым мелькнёт, то Ромул-душегуб,
братоубивец волчьего разлива...
Прохлада склянки чуть коснётся губ
отрадой винограда, сластью сливы,
смородиной, кровинушкой родной,
анисовой душицей алкоголя,
и вновь плывёшь с невнятною виной –
по волнам-гребешкам, барашкам воли,
по весям, тарабарским городам,
по сломам, тектоническим и смутным,
полкрошки, полглотка то здесь, то там
подхватывая в пиршестве попутном...
Но трезвый привкус въелся в камни стен
на мозельвайне вздыбленного Трира.
Как прежде, Рим и Крым, цари измен,
очерчивают сердце карты мира,
но здесь, на римском Мозеле, встаёт
громада верноподданного счастья.
Две тыщи лет гудит собора рот
о высях и глубинах папской власти.
И тот же тон плывёт от хвойных уст,
от ельника летит, от краснолесья. –
Узорчатый неопалимый куст,
стратегий и смирений равновесье,
звучит – кому о чём, тебе ж – о том,
как сляпан ты случайно, спешно-поздно,
каким продажным вышвырнут судом –
хромать на Харьков, на Ростов, на Грозный...
Кому о чём сей гул, а нам – о днях
без патриарха, без отца, без брата,
где правда вора вязнет на зубах,
где зло с утра и до упора – свято...
Из песен о Многобукве
Цукерторт говорит: «Хорошо!»,
но юлит Цубербиллер: «Возможно…»
И тому, кто в пике не ушёл,
снова – эдак и так – будет тошно.
«От винта!» – верещит Цукерторт,
«Херу хер!» – Цубербиллер картавит.
Ты – не то, чтоб горбат или горд,
но тебя лишь полоний исправит.
Так останься на празднике букв,
и твой родственник Серхи де Седа,
под навесом разлапистых клюкв
проведёт с тобой время обеда.
Между целью и мухой це-це
чертит резкий зигзаг герр Цузаммен.
И колышется птенчик в яйце,
с непреклонностью в жидком лице
в космонавты сдающий экзамен.
Роща
Тот август – наш, где молодость и ветер
смеются, обнимаясь на бегу,
где дремлет академик Кёппен Петер
под камнем на высоком берегу.
Скорей! – Уже над рощей кипарисной
стремительно темнеют небеса,
и светляково, ласково-капризно,
сияют и зовут твои глаза.
Скорей! – Пока полмесяца не встало
из-за турецкой пристальной воды,
укроем встречи тайное начало
от синей мусульманской бороды.
И над щербатой ветхою плитою,
над тем, кто эту рощу посадил,
кто побережье Рейна золотое
на терпкий караимский Крым сменил,
над прахом, обрусевшим и сановным, –
опять родимся и умрём опять!
И возвратим себя друг другу снова,
пока луне – не время засиять...
Скорей! – Средь кипарисной укоризны,
средь колкой хвои, – смелость смуглых тел.
А чинный дух... Да вспомнит он о жизни,
когда с тоски на Рейн не улетел.
* * *
То Паганини, в позвоночник нож,
то блеск и гниль каналов, Казанова…
Сменяешь шиш на кукиш, грош пропьёшь –
а только в звуке и очнёшься снова.
«Когда бы не врождённый к речи слух,
ты и не жил бы, неслух абсолютный…»
Бетховен, три десятилетья глух,
века озвучит «Одой» многолюдной.
О радости взметнётся боль пропеть
и будет жить в отваге полнозвучий,
какую бы жестокую комедь
не жаловал творцу рожденья случай.
Звук зреет, и взлохмаченной главой
подобен туче грозовой Бетховен.
Распахнут чернозёмный пласт живой,
и дышит гумус, грешен и верховен!
Сны Гутенберга
1. Первопечатник
Мой Гутенберг средь инкунабул –
Восстал, юпитероподобен...
Апрель с когтистых кровель капал,
И воздух влажен был и сдобен.
Лучи, колокола, валторны
В дрожащие сплетались сети,
И львы из бронзы злато-черной
Зевали сладко, словно дети.
Я вновь ступал на землю готта, –
Нет, не чужую для России, –
Кивая патриарху Отто
И юной предпасхальной сини.
Я вспоминал, что Пасхи праздник
Зовется «Остерн» у германца,
И добрый от вина лабазник
Мне путь подсказывал до Майнца,
Где жил мудрец с главой медвежьей,
С лесною хвойной бородою... –
О, как весною веет свежей
Над книжностью его седою!
Ивану Гутенбергу, герру,
Спою на Пасху «Аллилуйю».
За человеческую веру,
Как в церкви, руку поцелую.
2.
* * *
Там, где Китеж в стеклярус оправлен,
за пространством, за оптикой рам,
делит дым с воробьём Чичибабин,
сыплет семя щеглу Мандельштам.
Где в окно деревянною буквой –
«Гутен морген!» – стучит Гутенберг,
там ты рос и босотой, и букой,
но гремучих кровей не отверг.
На шершавых задворках бессонниц
нахватавшись репьёв, аки пёс,
от щедрот хулиганских околиц
ты бодрящую дерзость унёс.
Оттого и кивал тебе старый,
что в массовке над чёрной водой,
как винчестером, выхвачен фарой,
до сих пор ты плывёшь молодой!
Из блокбастера вытурен напрочь,
из бестселлера выдут харчком,
сладишь звук – не кривой и не навзничь –
нефальшивым подпишешь крючком.
Умягчишь его именем женским,
детским дискантом кликнешь с собой
и Рождественским, Преображенским
синим дымом над рыжей трубой –
полетишь
над мазутной водою,
над острогом – Холодным бугром –
над сестрою, бедой-лебедою,
семижильной травою седою...
Снег с черёмухи, с тополя гром.
Памяти
Вольфганга Казака
Сильная и замечательно духовно ищущая
вещь С.Шелкового «Сон». Он узнал, что нельзя
выступить против смерти. Мы должны включить
смерть в нашу жизнь! Но эта задача огромна.
В.Казак
Теперь, когда уже из Кёльна
не жду я от тебя депеш,
ты в выси околопрестольной,
по-прежнему, – надеюсь, – свеж
и крепок в дружеском прочтенье
тех, нам с тобою внятных, строк,
где в некой вспышке озаренья
итог – всего лишь вновь исток:
«Был миг, как вечность: очи сузив,
я ввысь воздел Дамокла меч
и Гордиев рассёк я узел,
и груз Сизифа сбросил с плеч.
Разнёс в щепу Прокруста ложе,
смыл напрочь Авгиеву грязь...
Над смертью меч вознёс! И всё же
рассвет ожёг ознобом кожу,
беззвучно надо мной смеясь...»
2016
Стереометрия
Петли вьёт в пространстве Лета,
холод крепнет у затылка.
Рвётся Мёбиуса лента,
бьётся Кляйнова бутылка.
В их движенье ниоткуда, –
без конца и без истока, –
очевидность и причуда
закольцованы без срока.
Только, сколь бы по спирали
ни ткалась бы паутина,
в седине паучьей шали
жив зрачок аквамарина.
Что-то, смявшись, остаётся,
несмотря на передряги,
выпрямляется, смеётся. –
И для губ есть капля влаги.
Совпаденья редкий случай
брызжет квантом перемены,
и румянец, свет живучий
моет щёки Ойкумены.
Шёпот-шорох, – без крещендо, –
выдыхает: «Жив курилка!»
Вьётся Мёбиуса лента,
и, как песня из Сорренто,
пьётся Кляйнова бутылка!
О чём, петунья-лепетунья...
* * *
О чём, петунья-лепетунья,
опять лепечем мы с тобой?
О чём зовём напрасно, втуне
пред злонамеренной судьбой?
Пред зачернённой напрочь кармой
жестоких непролазных мест,
где по-елабужски над Камой
догонит, разорвёт и съест
глаза поэта пасть собачья -
навеки вурдалачья власть...
О том и зов наш, не иначе,
чтоб посчастливей нам пропасть,
осыпавшись июльским цветом
на грядке с пряным табаком,
куплетом лепеча, приветом
под яблоневым спелым летом,
ладком, ямбическим рядком...
2016
* * *
Ещё любил я первое июля,
Когда после дождя опять светло,
И солнце золотит в столовой стулья
И брызжет на гранёное стекло.
Как дышит рухлядь в этом доме старом –
Открытки, ноты, бастионы книг!
Всё шло к тому, чтоб тайно и задаром
Я некий мир из воздуха воздвиг.
А что ж ещё в бездомном певчем звуке?
Грудинных струй волнистая игра...
И ни на рубль скептической науки,
Ни на копейку прочного добра.
Слова о лете – обречённей лета.
Глотни вина, поозоруй чуток –
И ласкою предсмертного привета
Закончи рукописный завиток.
Иди же, ночь! Как ладен твой обычай,
Дружок-сверчок, игруля из игруль!
Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей,
И снова ждать рассветный лепет птичий:
„Июль-июнь, июль-июнь, июль...”
Вещественно и необманно...
Стропила
Я плоть от плоти ваш пацан,
послевоенные задворки,
набивший гильзами карман
и в доме прячущий осколки.
Круги чумазые макух
шершавят губы и сегодня.
И светит круг, дарённый вдруг
небритым дядькой на подводе.
Разбитых зданий ржавый хлам,
где бьёт сквозняк холодный в спину,
бугристый рыжий котлован
с бренчаньем урок про малину,
в конце худых очередей
ржаного клейкие довески
и от завода и людей
машинный запах крепкий,резкий -
Всё это въелось в плоть, как дым
костра из серого бурьяна,
как шрама давнего следы -
вещественно и необманно.
Послевоенный жёсткий мир
околицы, мазутной глины,
твой дефицитный рыбий жир
сквозь жар и горечь скарлатины
вдруг снова торкнется в душе
не просто хилым витамином,
но взрослым правом - быть уже
твоих лишений гражданином.
И повторятся наизусть
твои дощатые времянки
и ледяной цементный бюст,
покрытый слоем серебрянки.
И марта стылая волна,
когда старухи в грубых шалях
"Не дай же Бог, опять война" -
под чёрным рупором рыдали...
А над разрухой - майский взрыв:
там солнце строго восходило,
над жжёным щебнем осветив
медово юные стропила.
Думы с утра высоки и легки...
Летний дом
Думы с утра – высоки и легки,
словно из юности что-то воскресло.
В домике летнем живут пауки –
в рамах оконных, под ручками кресла.
По деревянным трёхгранным углам,
под потолками, блестит паутина,
и отзываются всем сквознякам
слабым дрожаньем чешуйки хитина.
Что-то случалось тут прежде со мной –
то ли из сумерек слышалось пенье,
то ли укропом, политым луной,
пахло мальчишества стихотворенье.
Так и вселилось в запущенный дом
это, казалось, ушедшее, время. –
Тихо бормочет в углу с пауком,
сушит на полках укропное семя.
А за раскрытым со скрипом окном
вспыхнет небесно наивный цикорий,
не позабывший ни духом, ни сном
детской любви, аллергии и кори...
* * *
Львиного зева лиловая морда
с каплею солнца на верхней губе...
Длинное лето нелучшего сорта
всё ж под конец улыбнулось тебе.
Веет покоем понтийское лоно.
Можно, вдохнув, никуда не бежать,
на широченных перилах балкона
книжку и гроздь винограда держать.
Рядом, внизу, с ленкоранских акаций
не облетел ещё розовый пух.
Можно о малом, своём, усмехаться,
не выходя за молчания круг.
Можно, в конце-то концов, этим летом
ту иль иную из преданных муз
кликнуть. И разбередиться ответом...
Бражники вьются над шёлковым цветом,
осы на вспоротый рвутся арбуз.
Нас по имени помнит Всевышний...
Над Азовом
М.
Пироги с абрикосом и вишней
носит лето вдоль берега моря.
Два куплю для тебя. Третий - лишний:
сыт я эхом правдивых историй,
толкователь мистерий и сказок,
богомаз, баснописец и певчий...
Письма слал из-под Кёльна мне Казак,
герр славист. И Шенгели из Керчи
с каждым новым стихом телеграмму
отправлял мне с пометкою "срочно".
Длится речь древнегреческой драмы,
слово к слову кладя крупноблочно.
Как бы ум ни сушили трюизмы,
а хрусталик в полёте хрустален!
Бьют сквозь грани чернильницы-призмы
семь цветов. И любой - гениален.
Обниму, мой наследник бесценный,
твою ангельски чистую душу.
И пред самою злою изменой
я обета любви не нарушу.
Мир распахнут над морем зелёным,
над Азовом, над выгибом сферы.
И дыханье свежо априори
в первородстве надежды и веры.
Вот ведь день Казантипа горячий
с нами делится спелою вишней.
Знать, над нами, усталый, но зрячий,
нас по имени помнит Всевышний!
2016
А утро жить зовёт бессмертным горном...
* * *
Художнику А.Шеховцову
Пейзаж души поэта светотени,
художника от замысла Господня,
ещё прочтут иные поколенья,
те, что едва проклюнулись сегодня.
Пейзаж души поэта Шеховцова
плывёт в пространство и во время оно,
где белый голубь страсти окольцован
премудрым афоризмом Соломона.
Когда б не взял ты имя Александра,
то и тогда, взглянув в твои зеницы,
пропела бы пророчество Кассандра
о том, что подвиг твой сполна продлится.
Да, всё пройдёт, вернётся, сгинет снова,
но жив пейзаж прообразом бесспорным,
где ночь идёт, как летопись без слова,
а утро жить зовёт бессмертным горном!
2016
Подсолнухи 21-го июля
А.Конькову
А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
Лишь бы снова омыл эти липы сверкающий ливень...
Вырастают деревья и форму пространства меняют,
и уже не узнать обветшавшие за год дома.
И поспешные грозы весёлую грусть проливают
на кирпичные ульи, на каменные терема.
Зеленеют, блистают, густеют блаженные купы.
Как люблю я ветвей простодушную щедрую плоть!
И да буду утешен я мискою серого супа,
лишь бы снова дарил эти майские грозы Господь!
Лишь бы снова омыл эти липы сверкающий ливень.
Вот стихает гроза - словно страсть, опадает вода...
И оттаял под сердцем зимы мастодонтовый бивень,
и почуял я вновь, как по жилам струится звезда.
Жаль, что короток май и не вечны венчальные грозы!
Тает белое время каштановых губ и очей.
И летят лепестки - белизна с алым крапом угрозы -
шелухой опадают - ненужною, тусклой, ничьей...
Но вдоль радуги - выгиб небес, справедливая сила,
что по зоркости глаз и по имени нас нарекла,
что у слабости нашей согласия не попросила
и бессмертье души нам дала - не со зла, не со зла...
* * *
Сирень, пионы. Стихотворец-май.
Намаешься с его хмельной повадкой.
То солнцу, то слезам небес внимай
над в клетку разлинеенной тетрадкой.
Не в шутку, а всерьёз сложилось так -
до слёз светло над рифмой маломальской.
Вот так же честно плакал Пастернак
над женственной распутицей февральской.
Борис ли Леонидыч насвистал,
ожёг ли рот я "горькою от Борьки"? -
Но снова в мой полночный мадригал
цветеньем веток ломятся задворки.
На то и ночь - как песня "Караван",
чтоб во дворе, акацией укрытом,
я смог бы спеться, через океан,
с потомком Баха, Бахуса - с Бахытом,
которому я не соврал: "Люблю!",
а он: "Аналогично!" - сдал мне сдачу...
В шагренях мая до утра не сплю,
не подстелю соломки скрипалю,
лишь лёгкости смычка в ответ - заплачу...
Восьмикрылая дрожь, белокрылая пара...
* * *
В мае гремело, и пахли нарциссы
вслед за грозою и пряно, и резко.
Ветер с тетрадей сдувал биссектрисы,
влажный сквозняк развевал занавески.
Май взбеленялся и веял страстями,
будто бы стеблями – прямо из сада...
что-то цвело в этот месяц над нами,
что называть и грешно, и не надо.
Я и теперь, убоясь суесловья,
неабсолютным, неподлинным звуком
не назову наши взоры любовью,
солнце, и дождь, и фрамуги со стуком...
Не назову твоё давнее имя –
истинней то, что летуче-воздушно.
Ливни стихали, а небо за ними
радужно было и великодушно.
Парты-галеры, зрачок директрисы.
Наши крамольно сплетённые руки...
Белые, в зелени мокрой, нарциссы.
Свежесть грозы над соломой науки.
* * *
Отцветают пионы, и зреет клубника -
их смешавшийся запах и лёгок, и густ.
И склонён над землёю июнь солнцелико,
как над ягодной грядкой пионовый куст.
Отцветают пионы - усыпали землю
лепестками пунцовых и розовых гамм.
Не оглянется лето - торпится, внемля
новым дням молодым, новым юным цветам.
Восьмикрылая дрожь, белокрылая пара.
Кратки, кратки объятья четы мотыльков...
И садовник-старик, молодой от загара,
на ладони ласкает уколы шипов.
* * *
Белый голубь в зелёной траве
средь цветков-лепестков злато-млечных.
Одуванчик - полжизни за две -
хмель и солод маёвок заречных.
Тюкнет клювом и крошку склюёт,
встрепенётся блаженная птичка -
та, что вслух ничего не поёт
и не грезит малиновой лычкой.
Гуля-гуля, бела - не была...
Белизну голубицы-весталки
рады сглазить глазком из стекла, -
с уркаганьими стрижками, - галки...
И форвард, как молния с неба...
Хав прорвался по левому краю,
засветил парашют над штрафной.
До сих пор я свой гол забиваю! -
Сквозь июль, сквозь пылищу и зной,
мяч плывет, словно рыбина, в сетку,
серафимом и сферой парит,
огибая дугой пятилетку
и тотемы стахановских плит.
И за клинья шумеров в ответе,
за всех рун и руин Вавилон,
блещут смуглыми икрами дети,
ибо к насыпям, с южных сторон,
солнце шлёт на холерные травы
цвет и мёд, без фальшивых речей
пустыри оживляя для славы
турбулентных - навылет! - мячей...
Игрища
Увы, окутал дым учителей,
подсыпав соль в усы и перец в баки.
Но звонки зовы сверстников-друзей
сквозь все шумы, ристалища и драки.
Сидячие притворства позабыв,
исполненные протокольных бдений,
и ныне чую гончих ног порыв,
в укусах йода сбитые колени.
О, частый пульс футбольного мяча,
о, игрища, сродни высокой драме!
Вопящий "Мимо!" Коля Каланча,
облитый неподдельными слезами...
О, ног-смычков мажорная возня,
и точностью, и остротою паса
гармонии учившая меня
задолго до октав Торкватто Тассо!
Там был в цене вольнолюбивый нрав,
там малодушье не было в почёте.
А кто был прав и кто чуть меньше прав,
почти бесспорно отражалось в счёте.
Усталые наставники мои!
Ваш синус регулярно повторяя,
душой я там, где вольные бои,–
в вечнозелёном безнадзорном мае!
* * *
То в кофе окрас, то в какао,
то в смуглость вечерней зари:
Тостао, Брандао, Фалькао –
футбольных баталий цари.
А вот и факир Батистута,
ваяя трёхсотый свой гол,
парит невесомо, как Будда
над летним лужком маттиол.
И снова ристалищ и хлеба
взыскуют Милан и Мадрид.
И форвард, как молния с неба,
на грани офсайда искрит.
Чтоб завтра, взлетая над квотой,
и сам ты пробился в финал
и с пылу, и с жару, и с лёту
взметнул к небесам с Тьягу Моттой,
с Фалькао – трофея фиал!
2016
Бог ведь любит сирень...
* * *
Снежноягодник пахнет. Сирень
всю неделю пьянит ароматом.
Как расстаться с тобой, майский день,
как проститься с возлюбленным братом?!
Как суметь пережить эту страсть,
если святость нежнейшего цвета
обречённо готова опасть
на порог торопливого лета?
Так и жизнь-голубица моя, -
за наветом вослед ли, за пулей, -
отлетит, радуг-слёз не тая,
в юном мае ли, в спелом июле...
И прошу я её: "Не спеши
улетать вслед Пасхальной неделе.
Бог ведь любит сирень. Подыши
персианством лилового хмеля!"
2016
Под небом
Необозримые летние дни,
полные воздуха и многоцветья!
Верь. И юдоли своей не кляни,
вновь растворяясь в эпическом лете.
Через огромный шатровый простор
пересечёшь на колёсах равнину,
глядя на встречном пролёте в упор
в хищные лбы живоглотов бензина.
Что же сулят нам орбиты планид
там, где молитва твоя бессловесна,
там, где над гиблым кюветом парит
летнего неба бессмертная бездна?
Месиво вплющенных в трассу собак
жадно клюют и глотают сороки...
В дом свой вернувшись,
сквозь ласковый мрак
чувствуешь в сонных глазах и руках
дрожь и напор беспощадной дороги...
2016
Так и должно быть...
* * *
Идеей безнадёжной и высокой
помечено служение моё.
А тёплый лоб и очи с поволокой
давным-давно склевало вороньё…
Но если иногда бывает чудо,
то – навсегда, не зря и неспроста.
Так чёрною дырою губ Иуда
на фреске Джотто пьёт любовь Христа…
* * *
Резвый котёнок хвостом материнским играет,
сфинксу подобная, мать восседает недвижно.
Май вызревает, каштаны соцветья вздымают,
тысячеруки, как Шива, воздушны, как Кришна.
Два котофея кайфуют на тёплом асфальте,
ближе к ступеням – дворняга сосцами лоснится.
Благость, умиротворённая нота Вивальди,
дядюшки Брэма, с цветною картинкой, страница.
Дышится. Схлынул народ на воскресные дачи.
Город пустынен: деревьев шатры да собаки,
бодрые галки седые – и вряд ли иначе
явят тебе небеса чадолюбия знаки.
Так и должно быть вслед зимней апатии долгой:
щедрая манна, настой тополиной теплыни.
Нимфа к сезону плечо освежила наколкой.
Нежится сфинкс у подъезда. Три дня благостыни.
Бронзино
Бронзино
Бронзино! – Жук великолепной масти!
Лугань, моей Романовны цветник.
Опять настурций огненные страсти
на влажно-чёрной грядке длят дневник.
Перечитаю – и убудет тяжесть
в замыленных сегодняшних глазах.
Ведь снова там, пыльцой цыплячьей мажась,
подросток-одуванчик на часах
навытяжку стоит, как новобранец,
под радужными арками стрекоз.
И мотыльковых эфемеров танец,
и экивоки муравьиных поз –
всё округляет сумму теологий
всё свет бросает свой на статус кво…
Но в центре – живописец, царь убогий,
Бронзино! Рифма сердца моего.
И кто искал бы дружества Эона,
кто звал бы флорентийство наугад,
когда б не первородной леммы лоно,
не зеркальце жука в махре пиона,
не бесконечных отражений ряд?!
Вербное Воскресенье
Вербное Воскресенье
Христос въезжал на фетровом ослёнке
в золотоверхий град Ершалаим,
и пели ветки пальмовые звонко
над ним, тигровооким, молодым.
То дети, веер зелени вздымая,
живили воздух над его челом.
И обмирало сердце, вспоминая:
«Авессалом, Давид, Авессалом...»
И вот прошло две тысячи подлунных
необратимых зим, жестоких лет.
И, что б ни взялся ты сыграть на струнах,
а выстраданней нот в клавире нет,
чем ослик тот, апрельский привкус чуда,
чем запах вербных веток у лица,
и свет тревожный, бьющий отовсюду, –
вселенский взор всевластного Отца...
Palmensonntag
Jesus ritt ein auf seinem Eselfohlen
In die Goldkuppelstadt Erschalaim.
Und Palmen;ste sangen nicht verstohlen
ueber den Tieraugen, ueber ihm.
Mit gruenen Facheln faechelten die Kinder
Luft an der Stirn, zur Zeit Erfrischungslohn.
Man konnte in Erinnerungen finden:
«Avessalom, David, Avessalom».
Zweitausend Jahre wie im Nu verliefen.
Winter und Sommer, hart, unumkehrbar.
Als meine Finger an die Saiten griffen,
So gut wie diese keine Note war.
Wie dieser Esel, Fruehlingswunderzeichen,
Palmengeruch so nah an dem Gesicht.
Auge Gottes kann ans Tiefste reichen.
Allm;chtig und allsehend, Gotteslicht.
* * *
Заплёлся диким виноградом
шестидесятилетний сад.
И я с ним рос все годы рядом.
И тоже сумме дней не рад.
Заплёлся хаосом вторжений
и ненасытностью лиан
свидетель всех моих сражений
и всех, поросших былью, ран.
Вот снова лёгких туч кочевья
летят над маем во хмелю.
И я печальные деревья
лечу – сушняк ветвей пилю.
А солнце так сияет, словно
прогонит всех смертей недуг.
Фиалки вьют гнездо укромно.
И ты целишь меня безмолвно,
мой лекарь-сад, мой знахарь-друг.
* * *
Geflochten von dem wilden Weine
Mein Garten, sechzig Jahre alt.
Ich wuchs hier auf, er ist meiner,
Die Zahl der Tage macht nicht halt.
Das gr;ne Chaos, wilde Wiege,
Lianen ranken sich unsatt.
Der Zeuge aller meiner Siege
Labt meine Wunden lindes Blatt.
Sieh: leichte Wolken wie Nomaden
Im Rausch ziehen durch den Mai
Und ich bekaempfe boese Maden,
Das Duerrholz soll gesaegt doch sein.
Die Sonne scheint als ob sie k;nnte
Den Tod vertreiben ueberall,
Als ob sie jedem Veilchen g;nnte.
Wortlos heilst du, der hochgekr;nte,
Arztgarten, Freund, das liebste Heil.
* * *
Упрёка нету в лицах стариков.
Во взоре их, идущем вновь ab ovo*,
едва заметна зыбь пути земного,
но всё полней незыблемость веков.
Молчат.
Седые души их близки
к тому, что называть мы избегаем.
Их каждый шаг – уже над самым краем
холодной неприветливой реки.
И всё темней ночное их окно,
где нет Стожар, где скомканы Плеяды.
Прощаются.
Любому слову рады.
Скажите им хоть что-то – всё равно...
*ab ovo – от яйца (лат.), от самого начала
* * *
Kein Vorwurf in dem Antlitz, nur die Zeit
In diesen Blicken, die ab ovo gehen, –
Kraeuseln des Lebenswegs kaum zu sehen,
Immer sichtbarer Ruh’ und Ewigkeit.
Sie schweigen.
Ihre Seelen sind so nah
Zu dem, was hier zu nennen wir vermeiden.
Die Schritte schon ueber dem Rande gleiten
Des kalten Stromes, der das Beste nahm.
Die Fenster immer dunkler in der Nacht.
Keine Plejaden scheinen in die Scheiben.
Sie nehmen Abschied.
Worte freundlich bleiben.
Sagen Sie etwas trotz ob es was macht...
Переводы на немецкий -
Алекс Шмидт
В дымно-розовом пьян тамариске....
* * *
Сине–пепельный жук в дымно-розовом пьян тамариске.
И светим, и неярок подёрнутый влагою май.
Акварели мазок, с побережья обрывок записки:
«Приезжай на неделю, у моря лачугу снимай».
Ещё жив старикан, отставной пехотинец и плотник.
И за тыщу-другую вконец измельчавших рублей
по стакану нальёт, про наяд напоёт, греховодник,
и сиреневый сумрак сгустится и станет теплей.
Заколышется воздух, повеет ночною волною.
Хлебосольной брехне и не верю – а и не сужу...
Встанет месяц над морем, над спелою крымской весною
и подарит касанье укрывшему нас шалашу.
А в четыре утра заорёт петушище хохлатый,
срамно гребнем тряся и на сонный взлетев кипарис…
Здесь, на склоне горы, так лучисты рассветные хаты,
и тропа к лукоморью так бодро торопится вниз!
Рапана Томасиана
Пурпура капля, полмира индиго –
моря и раковины интрига.
Полупрозрачна, нежна и желанна,
в донном песке затаилась рапана.
Соли наростов аляповато
скрыли в изнанке полоску заката,
скрыли живые извивы барокко
от водолазова хищного ока...
Лодка - ныряльщикам смуглым страховка.
Тенью подводной, скользящею ловко,
на поводках пузырей серебристых –
горизонтальные аквалангисты.
Я принимаю авоську с рапанами –
в море, назад, мелюзгу и с изъянами!
Верен обычаю, я агрессивнее
к тем, кто огромнее и красивее.
Пальцами рву из спирали моллюска –
небо, какому же Богу молюсь я?
Без интеллекта, зубов и пищалей,
глухонемым защищались пищаньем.
Пурпуром смертным в живот мне стреляли.
Солнце пылало в Эсхилловом зале –
там, где, обрызганный пурпуром дико,
некто качался на волнах индиго...
Дед Андрей
Пудовую шишку атласского кедра
беру за трояк у добытчика-деда.
Хмельным усмехаясь, единственным, глазом,
товар разложил он у белой турбазы.
Как орден небесной атласной подушки,
изысканна тяжесть атласской игрушки.
Да как же ты взял поднебесную кассу,
налетчик замшелый, не трезвый ни разу?
Не делится Нельсон секретами фирмы,
то что-то мурлычет улыбчиво-мирно,
то снова про бабку-отраву бормочет
и смертью клянётся, что нет уже мочи...
Ну что ж, прибралА она деда Андрея,
что сизой щетиной дразнил брадобрея.
Остались парЫ алкоголя и риска,
торговый пятак под свечой кипариса...
И в зимы страна золотистого дыма
приходит ко мне из далёкого Крыма. –
О белая юность! Все пьёт у турбазы -
июль на разлив твой пират одноглазый!
И в белых садах...
Степная весна
Над степью чумацкое небо крутое,
светлы под луною и хата, и воз.
Я дымом полынным взлечу над стрехою
и вижу всю землю свою из-под звёзд.
Как ломит мне грудь ключевое дыханье,
когда, распрямляя крыла по ночам,
к вам, вешние травы, лечу на венчанье
и к вашим, затоки, склоняюсь очам!
И кровь мне, и боль - твоя гордая доля,
седых ковылей и волхвов сторона.
Блеснут, шелохнувшись под пылью и солью,
то русича шлем, то хазар стремена...
Столетья курганная глубь поглотила,
несметное в пепле легло и золе.
Но снова всплеснётся весенняя сила,
бессонной волной проходя по земле.
Так сызнова Днепр в полнолуние светел,
что виден сквозь сон посечённым в бою...
И в белых садах возрождается пепел,
и давнюю думу пою, как свою.
Тёрна брат
Сплетаясь с дикой яблоневой веткой,
шиповник августовский заалел.
Не донесли затерянные предки
до дней моих надел свой и удел.
Не завещали самобранной шашки,
и свитка уплыла в густой пыли.
И сквозь соцветья вышитой рубашки
татарники лихие проросли.
Остался только зов тягучей крови,
ни разу вслух не названный завет,
искристо-золотой сквозняк в полове,
на сваленном кресте разбойный след...
И у холма терновый дым когтистый
да тёрна брат - шиповниковый куст,
алеющий то бусиной мониста,
то каплей крови из казацких уст...
Был миг, как вечность...
Апрель в Брауншвайге
Весенний, белый и лиловый, дым,
цветенья дым, ласкает млеком веки.
Здесь благостно. А потому чужим
ты будешь здесь - и ныне, и вовеки.
И в тишине апрель у древних стен
цветёт ещё нежней, ещё моложе.
И воспалённой жаждой перемен
не режет глаз он и не ранит кожи.
Здесь в воздухе сполна растворены
приметы небесплодности усилий.
И патиной - лазурью седины -
мерцает медь церковных крыш и шпилей.
Старинный город - охраняем львом
из бронзы золотисто-кудреватой.
Внимай ему. Но всё, что о своём
припомнишь, будет слов напрасной тратой...
Памяти
Вольфганга Казака
Сильная и замечательно духовно ищущая
вещь С.Шелкового "Сон". Он узнал, что нельзя
выступить против смерти. Мы должны включить
смерть в нашу жизнь! Но эта задача огромна.
В.Казак
Теперь, когда уже из Кёльна
не жду я от тебя депеш,
ты в выси околопрестольной,
по-прежнему, - надеюсь, - свеж
и крепок в дружеском прочтенье
тех, нам с тобою внятных, строк,
где в некой вспышке озаренья
итог - всего лишь вновь исток:
"Был миг, как вечность: очи сузив,
я ввысь воздел Дамокла меч
и Гордиев рассёк я узел,
и груз Сизифа сбросил с плеч.
Разнёс в щепу Прокруста ложе,
смыл напрочь Авгиеву грязь...
Над смертью меч вознёс! И всё же
рассвет ожёг ознобом кожу,
беззвучно надо мной смеясь..."
2016
О, как пахнет расцветшая слива...
Военная весна
О, как пахнет расцветшая слива!
Как внезапно тревожный апрель
освещён её вспышкой счастливо,
словно ветками райских земель,
словно отсветом сада-эдема...
И над грудами жжёных камней
дышит сызнова философема
молодеющих «Четьих миней»:
«День цветенья придёт, как ни зверствуй,
потерявший себя человек...»
Над воронкою смерти отверстой
лепестков бело-розовый снег
вновь подарит прощенье-молчанье
всем живым и всем тем, кто ушёл
злой зимою от скорбного знанья
за обугленных дней частокол...
И влажны, как сирень, глаза и губы...
* * *
Не ослепись кумиром. - Тёмным срамом
наполнится прозревшая душа.
Мы слеплены изгнанником Адамом.
И, словно Ева, перед майским храмом
цветёт сирень, грешна и хороша.
И влажны, как сирень, глаза и губы
Адамовых бессмертных дочерей.
Одним огнём лжецы и правдолюбы,
заложники Фейсбука и Ютуба,
опалены у нежных алтарей.
2016
Две тёплых ночи в Вене...
Вена – Грац
Две тёплых ночи в Вене ночевали.
Уже к апрелю нежно жался май.
И в Стефана Святого кафедрале
царил ремонта плановый раздрай.
И высь сияла новью. Ведь не в штампе
находит бард опору рычагу,
но дух его, взыграв в чудесной лампе,
вновь брызжет первоцветом на бегу.
Вот пастор, вслед за полнозвучьем «Аве!»,
кладёт кружок облатки на язык.
Глубинна тишина. А шуму славы
не верят слух и ум. Небесный Лик
прильнёт к душе, не зная спама буден,
дыша безмолвьем и свеченьем вод...
Опять по Рингу, пёстр и многолюден,
пульсирует весны круговорот.
Отдав два дня, две ночи царской Вене,
от Первомая ты, уже с утра,
схлопочешь в дар массовку представленья –
сюр кумача с прихлопами «Ура»!
Вопросов нет у красного матроса –
он всё и вслух на век вперёд сказал...
Крутитесь, чемоданные колёса,
в поспешном беге на ж/д вокзал!
Мы, кажется, опять успев на поезд,
попутчик мой и стайер в стиле брасс,
остаток золотых упрятав в пояс,
уже летим в сребролюбивый полис –
в зелёный, горно-потаённый Грац.
Здесь пенится река, славянка-Мура,
что по-штирийски, по-германски – Мур.
А венская ажурная фигура
уже издалека глядит чуть хмуро:
«Пока, майн херц!
До встречи, мон амур!»
2016
В Любляне
Любляну окропляет майский дождь –
на удивленье ласковый и тёплый.
Как только Мост Драконов перейдёшь,
все перепонки крыл и клювов сопла
позеленевшей бронзою взблеснут
в росе полудождя-полутумана.
Ряды цветных фасадов к речке льнут,
с гармонией и плавностью Тосканы.
И ты, в оправу гор заключена,
Словения – от слова, не от славы! –
спокойно дышишь, мирная страна –
с драконом, но без деспота-удава.
Шепни же мне на внятном языке,
что первый Рим тебе всех прочих ближе,
что гостя не прирежешь ты в леске
с ордынскою ухмылкою бесстыжей…
Я сам бы здесь, на речке Любле, жил
в похожей на провинцию столице,
с отвесных башен Града сторожил
багрец средневековой черепицы.
И знал бы, что всегда возможность есть,
отбившись от врага, укрыться в горы,
и не растратив по копейке честь,
уже одну лишь слушать с неба весть –
легчайший шум дождя: «Memento mоre…»
2015
Стихи меня спасали...
Поэты
!.
Памяти в.Свидзинского
и В.Борового
«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...
2.
Борису Чичибабину
Вспоминаю тебя, вспоминаю
первородный пшеничный твой лоб.
До отказа гранчак наливаю
на скрещенье кладбищенских троп.
Два Завета, Матвея и Марка,
разделяет сорочье перо.
Синим пламенем брызгает чарка,
продирая теплынью нутро.
Катит солнце, как прежде, с востока
по дуге великанского дня.
Без упрёка, без звука, без срока
ты, всё тот же, глядишь на меня.
В две щеки, обжигая щетиной,
целовал, словно рифму даря.
Почивал на челе паладина
спело-яблочный свет сентября.
Ты и есть – тот полынный, небесный
рокот, лепет, родной и ничей,
человече, помеченный бездной –
чёрной дыркой меж синих очей.
Князь ромашки, репья и бурьяна,
привечая у стремени гридь,
целованьем, ни поздно, ни рано,
нагадал мне – навзлёт говорить!
Ты и есть – там, у зимнего края,
рать холщовая, пешая знать.
Плеском листьев тебя поминаю:
Божье лето – для птиц благодать...
3.
Памяти А.Передреева
Лил зимний дождь что было сил
за окнами на голь деревьев.
Чуть трезвый Толя Передреев
в тот вечер стих мой оценил.
В тот раз дружок Рубцова пил
с другим, малодостойным, другом
и горько плакал, будто стругом
подбитым в омут уходил.
Земля, где гибнут мужики
от гордости, хоть и по пьяни,
то в Вологде, а то в Рязани
редчайшие родит цветки.
По-детски искривляя рот,
твердил он, со слезой и болью,
что сердце сорвано в застолье,
что сам он вскорости умрёт...
Так подлинно он предрекал
свою погибель в плаче этом!
Он очень русским был поэтом -
безмерен грустью, сроком мал.
Он умер дома и во сне.
От сердца. От родимой водки.
Прости же, милый, пир короткий.
Опохмелись последней соткой.
И оживи, на миг, во мне..
Не бойся, друг, ни чисел Фибоначчи...
* * *
Не бойся, друг, ни чисел Фибоначчи,
ни ямы, ни предсмертной нищеты.
Что прошуршат о ветреной удаче
орешника промёрзлые кусты?
Какие акварели и пастели
цвели, Винцент мой, в воздухе твоём!
И вот уж срок нам – без году неделя,
февральский, серой крови, окоём...
Из всех углов зимы переползают
долги, тревоги, хвори в стылый март.
Но видишь – там, вдали, светясь, взлетают
в пространство птицы с океанских карт.
Теперь дожить бы, брат-певец, до лета.
А там, глядишь, опять «эм цэ квадрат»,
в котором неизменна скорость света,
нас призовёт к достойному ответу –
и зазвучит честнейших чисел ряд!
2016
Остался тем же зов...
* * *
Где улыбалась ты? Где мы встречались
в то загорелое звонкое лето?
Был зоопарк, как усадьбы участок
при небоскрёбе университета.
Там, на задворках учёного зданья,
негородские овражисты чащи,
клики зверей, летунов щебетанья –
млекопитающи, живородящи!
В сонном пруду – лебедей изобилье,
тусклое золото мелочи рыбьей.
Шатким мостком мы овраг проходили,
заполонённый зелёною зыбью…
Ласковоглазое юное лето
птицей мелькнуло, не в силах вернуться.
Только в чащобах смородины где-то
те же пичуги, что раньше, смеются...
Если случится – увижу сквозь будни
тропы, где ты улыбалась когда-то, -
пусто... У синей кондитерской будки –
лишь школяры да в отгуле солдаты.
Вспомню – покажется тоньше и чище
монстр носорожий, свояченник зебры,
в серых, нечищенных век сапожищах,
в лобных натёках воинственной лепры...
* * *
Ты - молода и странно хороша.
Ты вспыхнула мне искрой в Вифлееме.
Но вот уже не стоит ни гроша
звенящих клятв мятущееся время.
Там, на золе уставшего огня,
то ящерицы греются, то змеи...
Наверное, ты не простишь меня.
Но, слава Богу, - я прощать умею!
* * *
А помнишь – в первый раз мы были в Херсонесе?
Не так уж и давно...
Всего-то тридцать лет
скользнули в небеса, сквознули в редколесье,
по зимним желобам скрипя, сошли на нет.
Недавно и давно... Ещё все живы были –
твои отец и мать. Мои.
И все тогда
друг друга, как могли – без пафоса – любили.
И каждый нёс свой фунт подспудного стыда.
Артель "Напрасный труд" благоухала резко
одеколоном "Шипр", копеечной едой.
И длинной речь была про куцые обрезки
под ряженной в кумач прожорливой звездой...
Но помнишь, как тогда над почвой-пеплом мыса
пружинила твоя июльская стопа?
Треть века унеслось, но цвет не изменился –
бела над синевой античная тропа.
Треть века истекло, но звук остался прежним.
Средь греческих руин алеет алыча.
Остался тем же зов – невыдуманно-нежным,
легчайшим, как загар любимого плеча.
И я бродил там в полночь...
* * *
Б.Чичибабину
Доживем до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживем. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. -
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намек:
он - и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счет грехам он забыл, и ничто не идет ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник - прохлада дождя на горячечной ране -
да по небу прочерченный птицей рифмованый след. -
Нас не предал лишь свет безымянный - на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам еще триста лет.
Дотужим до весны - там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зеленом, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
* * *
А ситный и бревенчатый Тамбов,
державинский и нежно-недержавный,
мне стал ценою в семь иных томов
и в семь стихов сердечной рифмы плавной.
Туда забрел я в лютом феврале
и завязал ондатровые уши
своей ушанки, ибо день мелькнувший
сменила ночь на ледяной игле.
И я бродил там в полночь по снегам –
по колко-ломким, вороным и белым.
Патруль румяный с волкодавом смелым –
вот весь народ, что встретился мне там
на улицах. Студеная страна
меня с немой угрозой окружала,
но я той ночи ножевое жало
смягчил глотком пшеничного вина
в гостинице, где беженцы, лишенцы,
шалавы, погорельцы, окруженцы
бродили меж ободранных колонн.
Какой-то вечный погребальный звон,
какой-то запах гибели, эссенций
заполнил все четыре этажа,
ступеней винт с почившим в бозе лифтом.
Чечены оттопырившимся клифтом
мелькнули, не по-здешнему жужжа...
Но сон тот мутной водкой я запил
и вышел на трезвейший зимний воздух
в огромном просветленье. Редкий роздых
в моем самосознании царил.
И в трех шагах от скопища грехов,
по кручам Цны-реки заледенелой,
белела плоть церковных теремов,
беременная верой неумелой.
И были звезды слезно хороши
над храмом Богородицы Казанской.
Мы – волчьей крови, брат тамбовский, брянский...
Но в эту ночь, душа, нежней дыши!
Их , может быть, спасёт...
* * *
Не слякотной зимой! Не грязными штрихами
гриппозной хрипоты, горячечного зла
зачёркивай меня! Всё, сущее меж нами,
продли ещё, прошу, до летнего тепла.
Швыряет Боинг вниз свирепых вихрей сила,
и молит двести душ Тебя, Царя вещей...
Не Хокинг их вернёт, всезнающий жучила,
на звёздном блюдце мозг, компьютер и Кощей.
Их, может быть, спасёт Твоей секунды малость,
Твоих ресниц микрон, подаренный рулю.
Купец-политикан не купится на жалость,
а я в Твой храм вхожу с признанием: «Люблю!»
И мне ли не понять ранимости и боли
всех этих, ледником придавленных, людей,
не смеющих принять ни выбора, ни воли,
пустивших по реке посланья хлеба-соли,
записки-имена своих, Твоих детей?..
2016
Не веришь а жизнь промелькнула...
* * *
Die Sonne scheint hell* – вспоминается через полвека.
Над мятым учебником полдень тевтона сияет.
И солнцеслужение над головой человека,
над жизнью поспешной размеренно циклы считает.
Das Wetter ist schoen** – небеса разгораются ясно,
синеют, искрятся школярского счастья сугробы.
Не веришь – а жизнь промелькнула, напрасна, прекрасна,
и мчится сквозь сон твой – челнок с очертаньями гроба…
Но с тем, что осталось, да будем тверды, как тевтонцы,
крестовые рыцари-псы в ослепительных латах!
Die Sonne scheint hell– всё упорствует зимнее солнце,
и ель, словно кирха, встаёт на молитвенных лапах.
Парит танненбаум германского чёрного леса,
закатный багрец января – всё тревожней, всё ниже.
И школьный мой дойч переводит мне Лютера мессу
и ропот глухой расставания Вагнера с Ницше.
*ярко сияет солнце (немецк.)
**погода прекрасна (немецк.)
2016
Пусть крепчает Крещенский мороз...
* * *
Прилепи поверней, пришпондырь
на конверт ярко-красную марку.
И пропой во всю зимнюю ширь
"В добрый путь!" своему же подарку.
Пусть щедривкою книжка твоя
полетит через снежные горки
к редкой чтице - в те ретро-края,
где читают от корки до корки.
Пусть крепчает Крещенский мороз,
а тебе - да поможет согреться
лёгший в душу навек и всерьёз
снег времён с первоцветами детства.
За окном подзадорят "Живи!"
ренуары малиновой браги,
снегири, колеров соловьи, -
марки алого цвета любви
на снегах белофинской бумаги...
2016
Но сбылось всё по давним законам....
В Вифлееме
Двор, слепивший пирами своими,
знать не мог среди казней и нег,
кто пришёл, чьё послышалось имя,
и зачем вдруг посыпался снег.
Но сбылось всё по давним законам,
что лелеял пророк, словно маг.
И над снежным невиданным лоном
звездочёты замедлили шаг.
Кто пришёл, имя нёс, словно знанье,
улыбалась Мария светло.
И в морозном созвездий мерцанье
агнец спал – в тёплой шёрстке чело.
И волшебною снежною тканью
Рождество над холмами легло.
2016
Диптих полувека
* * *
К. С.
Стихи начинаю строить с крыши -
первая строчка к небу ближе,
последняя - к земле...
Строю истово,
много лет
часовню из розовых сосен,
ясную, словно осень.
Назову избой и пагодой,
поселю там тихо,
чуть дыша,
голубую живую ягоду,
похожую на земной шар.
1973
* * *
К.Савельєву
Ну ось, нарешті, й Водохрещі свято. –
Жорстокий січень сік по головах,
два тижні сік невпинно. І завзято
вбивав в сосну труни святковий цвях.
І ти, з моєї юності поете,
раптово і безжально відлетів.
Ні джину не допив, ні аморетто,
на повній ноті обірвавши спів.
Чи, може, нам Лолобріджида Джина
всміхнеться навздогін із тих часів,
де почалось з Тарзана, джунглів сина,
нашестя безпартійних голосів?
Чи, може, з тих років, коли з Афгану
до рим нарешті вирвалась душа,
із «Чорного тюльпану» невблаганно
наздожене нас мрець із «калаша»?
Плекай же в Царстві Божім, Костянтине,
своїх пісень незраджену любов
до простору, що мовчки в часі гине,
бо справжніх слів не вистачає знов.
І ось, нарешті, Водохрещі свято,
і вже десятий день тебе нема.
У палітурку із картону взята,
біліє книжка віршів. Плаче мати,
і прозою мовчить юрба німа…
2016
Не сомневайся - всё уже бывало...
* * *
От нищих уходи, от богачей – тем паче.
Глядишь – к исходу дней останешься один.
И не стыдись ни слёз невидимого плача,
ни на челе морщин, ни над челом седин.
Что было, не прошло – вросло занозой в душу,
изрыло шкуру-плоть трудами лемехов.
Верёвку затяни на поясе потуже,
пеньку бы на кадык – да всклень и так грехов…
Но были, – вспомни, – сны, и яви тоже были!
Вон там, на берегу, сияет ночи час,
когда, – рука в руке, – мы целый мир любили,
и строгий Взор со звёзд прощал с улыбкой нас...
2016
* * *
Не сомневайся - всё уже бывало,
до нас и до атлантов, много раз.
От вечной смены циклов скис устало.
закатного циклопа мутный глаз.
И всё ясней, что суммой технологий
мир не искупит гулкой пустоты,
Жаль, милый сын, что насмеялись боги
над тем, как ждали счастья я и ты.
Гляжу в зрачки твои не отрываясь,
как будто в них - спасенье для меня.
В кривом пространстве без надежды каюсь
и греюсь у последнего огня...
2016
Два поэта
А те, кого ты перевёл, –
Свидзинский, первоцвет Подолья,
и Маланюк, степняк-орёл, –
звучат в душе заветом воли.
Они, кого ты полюбил
за правду сердца, глаза, слуха,
за Божий дар певучих сил,
и есть оруженосцы Духа.
Для веры не сыскать живых,
но мёртвые мудры и кротки.
И двое призванных из них –
гребцы неторопливой лодки,
плывущие вдоль синевы
Ингула, Тясьмина и Буга,
несущие сквозь шум молвы
сакральную негромкость звука.
И охра глин, и синь небес
в сиянье Духа – двуедины.
Июль душист, как хлеборез,
а отражённый в водах лес –
зеркальный мир Отца и Сына.
2015
* * *
Памяти В.Свидзинского
и В.Борового
«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...
Будет день мудреней...
Под Рождество
Наследье предков – одичавший сад.
Лети, душа, сквозь тьму, вдоль снеговея.
В норе подпольной кормит мышь мышат,
чьи писки тоньше лезвий брадобрея.
Качнулся месяц – пьяный бес схватил
серебряного молодца за пояс,
и Млечный гоголь-моголь в небе взбил
Малевича квадратный мегаполис.
Под Рождество под Киевом дела
в зверинце Пацюка сложились странно:
трёх братцев-львят, – белейших! – родила
рудая львица, узница Иванна…
То - небо снова голосит о том,
что ангелы, – с крылами, но без страсти
бойцовской, – разорили отчий дом,
посеяв грязных грызунов во власти.
То - вновь зовёт своих бесстрашных львов
земля из-под Рождественского снега,
зовёт творян, вершителей трудов,
гравёров острых и прямых углов,
чьё сердце – альфа, а чело – омега…
2016
Шаурма-хауз
Мясную бомбу шаурмы
вращает брат-азер на стержне.
А от сумы и до тюрьмы,
от бардака до кутерьмы -
не дальше, чем при власти прежней.
Шипит, кружится бронтозавр,
и острый ножик под сурдинку
срезает с ароматных жабр -
для дымной шаурмы начинку.
И запах плоти над огнём
щекочет пряно Небу ноздри.
Что Авель? Дар его - при нём,
опасный, обоюдоострый...
Соблазном запаха и я
включён в пищеваренья морок,
в котором улицы змея,
питон длиною метров сорок,
готов без риска заглотнуть
на раз тиранозавра рекса
и сыто на весь год заснуть,
явив всего живого суть,
не ослабевшую ничуть, -
заглот на уровне рефлекса...
2015
Колыбельная
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике - вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках - и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает - про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз - людоед, самодур.
По сараям - чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам - сёла. Промежду сугробов - кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!
Псалом снiгiв...
Удовж Лаби
Пане Дрезден, пані Праго! –
Гострокупольні кремлі,
де і брага, і відвага
між каміння розцвіли.
Замки – панцирна сорочка,
вікна – тиша золота,
нібито під серцем квочка
у вапні жовток гайда.
Спить Флоренція на Ельбі,
і співає струм води,
мов зимовий менестрель би
про Різдвяні холоди.
А як гляне Цахес криво
край саксонського моста –
поруч чеське місто-диво,
мови-панночки вуста.
Удовж Лаби мчить дорога
між засніжених столиць.
Там ридван летить щомога,
залюбки, не силоміць!
Там клавіру зойки ніжні
під смичок волосяний
оживлять у миті сніжній
стародавній шелех вій…
Чорний Дрезден, Злата Прага –
пара крил на вічний строк,
рима Рільке – лету спрага,
із паперу голубок.
Плине удовж Лаби птаха
над вапном примарних гір,
ніби із самого даху
світу планерує зір.
Тож і я, хоч і старію,
із жагою в світ дивлюсь.
Подругу, ідею дії,
до хорея-сніговія
відпускати стережусь.
* * *
Срібло мандрів, золото туги –
все лягає у самотню душу.
Стане хміль журби не до снаги,
на вокзал Південний вкотре зрушу.
Щоб на ліжко, куце та тісне,
зроблене під розмір карли Канта,
знов плацкарта затягла мене,
вигнанця зі студії бельканто.
Не засну, бо чути в тісноті,
як сілаби та незграбні рими
знов в пітьмі лунають на хресті
біля граду Ієрусаліму.
Ні, не сплю, бо тхнуть примари зрад,
юних і у віці Паркінсона,
бо пильнує ворон, Каїн-брат,
родичання патогенну зону.
Молодці – у вишиванках дні,
але ж мить швидка, мов куля-дура.
Тужно грає вітер на струні,
що на ній повісився Стахура…
Срібло сліз і щастя золоте:
сплав електри – еллін славнозвісний.
Все співаєш крадькома про те,
про неопалиме та просте,
що душі наснилось ненавмисне…
2015
Спогад
Я пам’ятаю, пам’ятаю
ті, в ранці березня, сніги,
хмільні від сонця. Водограї
з дахів, дзеркальні ті дахи.
Я бачу й досі: швидконогий,
по злій околиці брудній
біжить хлопчак і сніг з дороги
змітає поглядом з-під вій.
Шляхи розм’якли, небо сяє,
шаліють зграї горобців,
а сірий люд, в сльозах, ховає
лютішого з усіх отців.
Ще й досі вовчу ту тварюку
плекають вівці у душі…
Чому б і не хрипіти круку
на мокрій даховій іржі?
Та я не карк той відчуваю,
а водоспадів спів-блакить,
мажорні горобцеві зграї –
відродження блискучу мить!
Далекий рік п’ятдесят третій –
дарма, що стільки не живуть…
Я, – з Томом Сойером та Бетті, –
упрусь на золотій прикметі:
псалом снігів – надії суть.
2015
* * *
Як личить тобі, друже, вишиванка,
як лине до грудей і до душі!
Тримаймося ж, бо не вщухає п’янка,
родинна бійка – з кров’ю на межі.
Щось брешуть жирні, владні знов у кріслах.
Та правда зла – лютішає війна.
І навпростець, між чистих та нечистих,
врізає хижу борозну вона.
Ось і згадаю давню вишиванку:
сімнадцятий хлопчині, вітер тхне
безмежним щастям. Я стою на ганку,
і липень стиглий крізь кохання ранку
цілує прямо в серденько мене.
2015
* * *
Змирись, пішоходе осінній!
Навіщо тобі те тепло,
той день, золотавий та синій,
те пряне травневе зело?
Люби вже з останньої змоги
все те, що на сконі живе, –
коричневе віття убоге,
поламане, мокре, криве.
Люби в листопадовім Львові
не місце, де раптом з’явивсь,
а, кольору тяжкої крові,
набряклу тривогою вись.
І вічність, що в очі сьогодні
кленовою згубою тхне,
люби, цуценятко Господнє!
Не хочеш? Не вмієш, дурне?
2015
Ніщо
Якби ж це турбувало
сьогодні найгостріше –
балички про дрібниці та дурниці,
віршування ні про що…
Та ні, справи вперто ідуть до того,
що і в риму, і без рими,
і в віршах, і в прозі
чути волання дітей Божих
саме про Ніщо!
Бо Ніщо з’явилося, аби нищити,
бо та гидка і мертвоока,
впевнена у собі Ентропія,
те ненаситне Ніщо
поспішає вже ось-ось
поглинути увесь світ,
аж до щойно народженої
і променистої
дитячої душі…
Власне, той Ірод у термодинаміці
ніколи і не помирав…
2015
* * *
Крізь сутінки, якщо живий, мандруй.
Хоч сам все ближче до своєї ж тіні.
Хоч все, що залишилося, даруй,
тобі сьогодні – сумнів, сум, сумління...
Крізь сутінки опівночі сягнеш
погосту, де заснули батько й мати.
Вже маєш тільки те, що віддаєш.
Все ж інше – воду у руці тримати…
2011
Леопольд у бронзі
Леопольде фон Захер Мазох,
львівський-лембергський пане-земляче!
Краще хутро мені – зелен мох,
а Венеру, – пробач, – вряд чи бачу.
Ти на вулиці Сербській повстав,
де за рогом вже – Староєврейська…
Синій Понт, «Мобі Дік» пароплав. –
Личить панові макова феска!
Попливемо ж від жорстких очей
у той край, де смагляві красуні
в оксамиті босфорських ночей –
незабутньо покірні і юні.
Попливемо, письменник і брат,
що не змовчав у притчах про смуту
у душі українських Карпат,
галіцийського бідного люду.
Попливемо – дві крихти тепла
нам обом не завадять, їй Богу.
Аби ж зірка Венера вела
нас з тобою в південну дорогу…
Та вертайся потому у Львів –
бронзовій там, де вулиця Сербська.
І, прийнявши в дарунок цей спів,
сам вирішуй вже – сердься, не сердься…
2015
Ты глубь времён пропел...
* * *
А.Ш.
Весь день твоей строкой клянётся Шеховцов:
"Когда воюет Савл, теряет голос Павел..."
А Искандер-ата - из редких мудрецов,
художник и земных, и поднебесных правил.
По лабиринту зла гибридный гад скользит
и жалит то в глаза, то в сердце, то в затылок.
Но лилии цветут, и карий взор Лилит -
среди большой зимы неодолимо пылок.
Кто это рассказать умеет на холсте,
тому на снег с высот горячий свет струится...
Ну, а тебе - перо, признанье в простоте,
и любая сестра, послушница-страница.
Невеста и жена, праматерь из пучин,
из чёрно-золотых снов-афродизиаков...
Ты глубь времён пропел, и нет уже причин,
чтоб не отпел тебя по-свойски протодьякон.
Сан Саныч дорогой, давай ещё плеснём!
Наполним гранчаки вином багряно-спелым.
Крестился в Павла Савл, но мы упорны в том,
что на ногах стоим, покуда не умрём,
что средь корней-коряг - пень ясен: "Para bellum..."
2015
* * *
Между пламенем желтым и белым морозом
возникает бубенчатый зов Рождества,
между слабым ответом и вечным вопросом
быть не может и нет никакого родства.
Но и то хорошо, что морозно и снежно
в некрещенной и тысячезвездной ночи.
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно
то ли имя души, то ли пламя свечи.
А когда пеленает Мария младенца,
очи добрых животных лелеют вертеп,
и ягненок, ложась, подгибает коленца,
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,
а Иосиф ладонью потреплет руно,
чтобы агнец тучнел, завитками белея,
ибо взыщет горячего мяса вино.
Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –
ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон,
и назавтра во всем Вифлееме проснутся
чада, камни, смоковницы новых времен.
Между жизнью короткой и правдою долгой
прохудилось до дыр одеяло родства.
Нитка рвется, и палец изранен иголкой...
Но студеная ночь дышит хвойно и колко,
но трепещет в пещере огонь Рождества.
* * *
Притчи Борхеса, Хорхе Луиса,
плошка риса, полчашки маиса.
И чего тебе больше, бедняк?
Разве склянку зелёного зелья?
Так оно ведь давно не к веселью -
то к депрессии, то аж никак.
Притчи Борхеса, мачо слепого,
золотое кастильское слово,
аргентинской травы серебро.
Парацельса целебная роза...
В жилах Цельсия - тридцать мороза
на равнине, сломавшей ребро.
Здесь, в краю беззаконной развязки,
где из лыка и марли повязки
лешаку и лишенцу - к лицу,
ляпну снега на рваную рану,
в серый полдень пальну из нагана
и на лыжах махну по Донцу...
Карки Цахеса, карлика злого,
исклевали сердечное слово.
Ворон рвёт огневую лису.
Что осталось мне? Хлеба ковригу,
стыд в глазах и о будущем книгу
в конуру на ночь глядя несу.
Притчи Борхеса перечитаю. -
Не витийствуя и не витая
в эмпиреях, мудрец повторит,
что Содом - некритический случай,
если выжил в нём некто живучий -
или праведник, или же лучше:
грешник, но не утративший стыд...
Первый снег
В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли - но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.
Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признанье мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.
Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я - мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...
Там, в трёх шагах от Каменного Брода...
Сегодня, 26 декабря,
исполняется 125 лет со дня рождения моего деда
Петра Ивановича Шелкового (1890 - 1967),
человека достойного жизненного пути,
полного неустанных трудов и трагических испытаний.
Его образ не раз возникает в строках моих стихов и прозы.
Вот, например, небольшой отрывок о нём из моей автобиографической прозы "Кровь, молоко" -
"В конце лета сорокового года, в конце же рабочего дня, в заводской директорский кабинет в Луганске, явились к Петру Ивановичу трое мужчин с совершенно каменными, как определял в последствии он сам, лицами. Объявили об аресте и, не задерживаясь ни на час в Луганске, отвезли деда в Москву, в Лубянскую внутреннюю тюрьму НКВД.
Допросы в первые дни, как было принято в чекистско-лубянской системе, проходили почти беспрерывно, едва оставляя час-другой для сна. Собственно, и допросов, как таковых, не было, а были упорные обвинения во вредительстве на заводе, угрозы, сопровождаемые избиениями (в 39-м году вышло сталинское постановление о применении пыток в НКВД), раз за разом повторяемое требование: «Подписывай, бллятть, что нарком Ванников давал вредительские указания!»
«Никакой вины за собой не знаю и ничего подписывать не буду» — этот, ох, какой нелегкий, — чую сердцем, — ответ моего Петра растянулся для него, мученика, нашедшего в себе силы стоять насмерть, на долгие, бесконечные, два года. За что стоял он из последних сил — под ударами, пытками, унижением, клеветой? За прежнего своего «большевистского Бога», коему и военными ранами, и стоическим трудом прослужил верой и правдой почти четверть века? Думаю, что, человек с трезвым, мощно-практическим умом, он уже тогда осознал, что иного выбора, как стоять до смертного конца за Бога, но не большевистского, а человеческого, у него не осталось.
Он и нашел в себе мужество выстоять там, в бесчеловечных лубянских темницах. Сумел устоять и не отрекся от Божественной сути, от собственного человеческого достоинства, пусть и поруганного бесами в их мутном слое. Не отрекся и от той измордованной всечеловеческой и родовой правды, которая имеет обыкновение, помимо всего прочего, передаваться по наследству. Не предал мой Петр своей, а значит, и нашей, фамилии — ни в прошлой ее временной ипостаси, ни, тем более, в ипостаси ее будущего, идущего его стойкости вослед. В наследовании ему, Петру-камню, и сам я вправе присягнуть, добровольно и осознанно,— не перед лубянскими казематными, конечно, нелюдями. Не перед нечистью вчерашней и сегодняшней, у которой куда как живуча своя, воронья и крысиная, традиция наследования.
Из Лубянской тюрьмы Петра Ивановича осенью 41-го года перебросили в тюрьму саратовскую, где соседство по нарам ему составил уголовник. В Москве на Лубянке дед сидел в одной камере с Кириллом Мерецковым, тогда еще генералом, впоследствии маршалом. Отношение к генералу, по воспоминаниям Петра, оставалось и в тюрьме всё-таки особым — кормили узника время от времени даже красной рыбой.
Мерецков, кстати, как и нарком боеприпасов Ванников, которого дед не запачкал своей подписью под чекистскими наветами, похоронен в краснокирпичной кремлевской стене. Там же, у стены, покоится прах еще одного дедова знакомца, комиссара Генриха Звейнека, погибшего в апреле 19-го года на последнем рубеже обороны Луганска, на Острой Могиле.
Все эти злые дни и месяцы, когда Петра брали на измор допросами и пытками на Лубянке, Марфа Романовна отчаянно и бесстрашно, а этих качеств никогда не надо было занимать ее характеру, боролась за мужа. Писала письмо за письмом Клименту Ворошилову, который хорошо знал и ее, и Петра Ивановича как по дореволюционному еще Луганску, так и по Гражданской войне. Отсылала отчаянные восклицания о невиновности Петра и по всем другим возможным московским адресам сначала из Луганска, а потом из города эвакуации — из дальнего азиатского Фрунзе.
Стойкость ли деда, или послания бабушки бывшим красным соратникам — а, вероятно, и то и другое вместе — привели к тому, что летом 42-го года безнадежная ситуация внезапно изменилась. При очередном вызове в кабинет следователя саратовской тюрьмы, тот обратился к деду неожиданно: «Садитесь, товарищ Шелковый!»
«Гражданин я» — поправил следователя Петр Иванович.
«Нет, товарищ! Пришло указание. Ошибка, считайте, получилась. Когда лес рубят, тогда, знаете, щепки летят. Имеется постановление о Вашем освобождении».
«Щепки мы, сынок, выходит, что щепки» — с горечью повторял дед уже в 67-ом, при последней нашей с ним встрече в Луганске, за три месяца до своей смерти, вспоминая внезапно свалившееся на него известие об освобождении — поздний летний вечер в саратовской тюрьме. Время вызова к следователю было уже темным, почти ночным, и пришлось Петру Ивановичу вопреки предложению тюремного начальства освободиться немедленно, испрашивать позволения на последнюю ночевку в тюрьме. Ему просто-напросто некуда было подеваться в незнакомом городе среди ночи.
Свой арест в той же, последней нашей, беседе сам дед связывал с позорными итогами финской войны 1939—1940-го годов, когда на 16 тысяч финских потерь пришлось около двухсот тысяч убитых солдат Красной Армии. Естественно, НКВД бросилось искать виновных, ответчиков за провал финской компании. «Мое твердое убеждение,— говорил Петр Иванович,— что, не будь финского позорища, Гитлер еще десять раз подумал бы, прежде чем напасть на нас в 41-ом году...»
Утром следующего дня, в знойном Саратове 42-го года, дед отправился прямо из тюрьмы на Центральный телеграф, чтобы сделать все возможные звонки, сообщив и родным, и по службе о своем освобождении. Последним был звонок в Москву ко Всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину. В ответ на свои слова: «С Вами говорит ваш бывший депутат Петр Иванович Шелковый...» дед услышал от благостного верховного старца: «Нет, Вы не бывший. Вы были и остаетесь нашим депутатом!» Такой ответ звучал не просто невероятно вослед двум годам нещадных тюремных истязаний. Столь резкое снятие предельного физического и психологического гнета оказалось уже непереносимым — дед лишился сознания и рухнул на пол там же, у телефонного аппарата. Окончательно пришел в себя он только после четырех месяцев больничного лечения в том же Саратове. Войдя в Лубянскую тюрьму здоровым человеком могучего телосложения (на Лубянке в декабре 40-го года довелось Петру встретить свое пятидесятилетие), он вышел из камеры в Саратове абсолютно изможденным — сорока килограммов веса, с кожей, скрученной жгутами по всей поверхности тела.
Что же происходило с душой моего Петра за два тюремных года — о том остается лишь догадываться с великой печалью и болью. Да и не обо всем дано догадаться, не все возможно словом определить. Уже после освобождения, работая, как и прежде, руководителем большого завода в подмосковном Подольске, Петр Иванович однажды в воскресенье при банных сборах вынул из шкафа, из стопки белья, холщовую нательную распашонку, в которой был выпущен из саратовской тюрьмы. По свидетельству моего отца, ставшего тогда, в 43-ом году, московским студентом и нередко гостившего у Петра Ивановича, крохотная распашонка, размером со сложенную вчетверо газету, была серо-желта и украшена жирными прямоугольниками черных тюремных штампов. Петр мой, человек истинный, взяв в руки это химерное, уже годичной давности, свидетельство своих мук, не смог удержаться тогда от рыданий.
И если нужны человеку свои личные, кровные, символы веры,— а они непременно нужны! — то я выбираю эти, за шестьдесят лет не высохшие, слезы сильного мужчины, родного мне и по крови, и по духу. Выбираю соль страдания и преодоления, неиссякшую и доныне в тех — по сути, всенародных — слезах..."
И вот ещё несколько стихотворений в память о моём Петре, любимом и незабываемом,
о мощном и мужественном человеке, труженике и страстотерпце.
Вечера Купалы
Вот подстаканник опять зазвенел -
вьются в металле зубчатые листья
и винограда зернистые кисти
в переплетенье растительных тел.
Это опять тридцать лет над тобой
вдохом и выдохом памяти смыло -
в кронах стокрылое загомонило,
тридцать смертей отметая листвой.
Вот, через сад тёмно-синий идёшь,
внука в махровом несёшь полотенце -
и всё роднее, вплотную, два сердца...
Ярок небесный над яблоней ковш!
В эти, Купалы-Петра, вечера
нет и полмысли ещё о разлуке -
всё ещё в силе могучие руки,
для казака шестьдесят - не пора.
Пахнет от вишен прозрачной смолой,
веет заваркой с веранды огнистой.
Экий ты, деда, большой да плечистый,
щедрый чуть хмурой своей добротой...
Слышишь, осталось от дюжей руки,
от светлякового сада пространства
то сокровенных минут постоянство,
что не рассыпать уже на куски.
Чуешь, не глина в очах, не песок -
тридцать погибелей враз отметаешь,
ломтики яблок в стакан нарезаешь,
в золотобокий крутой кипяток!
Запах
Бормотун, домовик неказистый,
скособоченный временем том...
Эта книга из рук букиниста
пахнет давним чужим табаком.
Нет, былое в потёртой обложке
я недаром сегодня раскрыл.-
Горьковато-пахучие крошки
встрепенули молекулы крыл.
Чей-то взор, настигающий, смелый,
меткой искрою брызнул в меня,
штрих-пунктирною ниткою белой
дёрнул зуб из молочного дня...
В этом сне моя кожа упруга,
там опять наяву я смеюсь,
ни кривого порочного круга,
ни своей прямоты не боюсь.
Та же нитка на шею надета -
с белым кремнем, омытым в реке.
Налегке беспредельное лето,
бесконечная жизнь - налегке!
Свет веранды. И деда приятель
тем же, давним, горчит табаком...
Вишни красные, белая скатерть.
И лимонница под потолком...
* * *
Ладный, высокий, широкоплечий,
с бритою гетманскою головой,
добрый казак да умелый литейщик,
дымный луганский мастеровой.
Будто бы слышу я - бьёт под Царицином
твой, как литейня, горячий, "максим"
в дряхлость эпохи-императрицы
голосом звонким и молодым.
Злыдни тебя и сыпняк не скрутили,
красный директор неласковых лет,
и не разъело невидимой пылью
твой дооктябрьский партийный билет.
Был ты из тех, кто - стального закала,
тех, кто - бестрещинного литья.
Помню я - праздник тебе заменяла
и воскресенья работа твоя.
Помню я строгость бессонной работы -
словно и ныне из детства зовёт
запахом пороха, дымом азота
твой прокопчённый патронный завод.
Ты далеко... Только снова и снова
вспомню - и время умерит свой бег.
Низко тебе поклонюсь, мой суровый,
добрый мой дед - родословной основа,
веры и правды моей человек...
Двое
Как пахла склянка синего стекла –
серебряную крышку открывали
и крошки чая бережно ссыпали...
Какая благость в воздухе плыла!
И льнуло к пальцам старое стекло,
шершавилось узорами травленья...
Всё это и поныне – не виденье,
хотя Бог весть когда уже прошло...
Нет тех, кого любил, и сломан дом.
И десять лет прошло, и трижды десять.
Лишь память не устала прошлым грезить,
июлем плыть над глиной и песком...
И полдень тот всё длится надо мной,
двух верных душ заботу излучая, -
то хрупкою стеклянной синевой,
то пряной ностальгией горстки чая...
* * *
Там, где Лугань, июльскую былую,
сплошь затянули ряска и мазут,
в белёном доме по сей день живу я,
и те, кого любил я, в нём живут.
Там, в трёх шагах от Каменного Брода,
известного бандитского гнезда,
всё лето напролёт – тепла погода,
трава пахуча и вкусна вода.
Ароль, щенок окраса капуччино,
щеку мне лижет, лая вслух пароль.
И льётся с облаков первопричинно
Господний свет на пыльную юдоль.
И две души родные дышат рядом
хранительно. А, в десять яблонь, сад
вздымается бескрайним вертоградом
над той Луганью, сорок лет назад.
Одежда там скромна. Теперь наглее
топорщит перья и хвосты шпана.
Но похвальба лабазника-плебея
едва ли дальше Лопани слышна.
Расшатан мост над сохнущим потоком,
и май горбат, и обескровлен труд...
Но день спасён мой – тем щенячьим оком,
тем солнечным степным юго-востоком,
где в доме белостенном невысоком
меня до самой поздней ночи ждут...
I над снiжним небаченим лоном...
Різдво
Двір, що мав діадеми численні,
зрозуміти не встиг і не зміг,
хто прийшов, і яке йому ймення
і чому це посипався сніг.
Але ж все відбулось за законом,
що плекав його здавна пророк.
І над сніжним небаченим лоном
вівчарі уповільнили крок.
Хто прийшов, відчував своє ймення.
Посміхались Марії вуста.
На плямистому тлі повсякдення
сяяв агнець, свята простота.
І вбиралися в тихо-шалені,
в білі сукні Різдвяні свята.
Хронологія
Дух злітний у трухлявій оболонці –
глузливий посміх фатума в лице.
Північні плями на ранковім сонці,
нестача в м’язах вітаміну С
і А та В – які б ще не назвати,
їх, певна річ, усіх не вистача
в краю, де бачать світ немов крізь грати,
де в зграї вовкулаків собача,
біляве й швидконоге, не сконало
усім камланням іродів на зло,
хоч хижій тій орді завжди замало
жертвоприношень янгольських було.
Та янгол у генетиці химери
на жаль із часом мавпою стає.
А злітний дух кричить в бездушні сфери,
в чужі та мертві, про живе, своє!
Волає дух, безсмертний і пречистий,
і сором оболонки розрива.
І та луна – вже не пташині свисти,
а з книги болю й відчаю слова...
2015
В середине декабря над горизонтом...
22 декабря
Солнце на лето, зима на мороз.
Но несомненно, что солнце - на лето!
Стихотворение давнее это
не записал я ни разу взерьёз.
Может быть, всё-таки стоит подать
сизым пером окрылённую руку? -
Не для того, что витийства науку
едкому скепсису дней преподать,
но лишь затем, чтобы легче спалось
ночью метельной за драною дверью,
чтоб из ребячьего сна-суеверья
ну, хоть бы что-то к сединам сбылось...
Солнце на лето, на стужу зима.
Отче, продли нас до вешнего плеска!
Под штукатуркой Рублёвская фреска -
лепет надежды под спудом ума...
Яжембяк
В середине декабря над горизонтом
еле-еле поднимается светило.
Пару рюмок пропустив опрокидонтом,
понимаешь – будет то же, что и было.
Будет то же, что вчера, но всё же больше,
чем за окнами в полглаза различимо.
Пенькна пани пьёт яжембяк в зимней Польше,
да и здесь рябина демосом любима.
И особо, если спиритус коньячный
растворит в себе её горчащий привкус...
А декабрь стоит заснеженный и смачный,
хоть обычно в это время – накось-выкусь
в смысле праздника сверкающего снега,
в плане шанса полюбить и быть любимым...
В эту полночь года альфа и омега
спят, как ящерицы в грунте, в мире мнимом.
В середине декабря в похмельном небе
мутно солнце, и лицо его багрово.
Мысли гложут – о квитанциях, о хлебе.
Чуть отгонишь – подгребают сбоку снова.
За окном – студёный век, не кватроченто,
время льда и задубевших в тине раков.
Вспоминаю я яжембяк и зачем-то
королевский, на горе шляхетной, Краков.
И понеже суть рябиновки янтарна,
я доверюсь её влаге-оберегу.
Пани – пенькна, а и наша девка – гарна!
Каблуком хрустит по свадебному снегу.
Итак, добираться мне до Феодосии...
* * *
Итак, добираться мне до Феодосии -
лишь ночь, лишь чуток золотистого дня.
Там кровная мысль о двоюродном Осипе
так бодро под рёбра бодает меня!
Там облик египетский брезжит и слышится
непойманный цокот худых башмаков.
Развеяна гневная Максова ижица,
и свеж голубеющий плюш ишаков.
Привольно вдыхается нищее диво
земли загорелой, зелёной воды.
Овечьих холмов травяные наплывы
вдоль моря текут, вдоль солёной слюды.
Лоскутная известняковая Кафа!
Как щедро – всего-то полсуток пути,
чтоб в складках пиратского красного шарфа
листок со взъерошенной рифмой найти!
С щепоткою тмина, с корицею в мокко,
с угаданным клювом средь гущи на дне,
с такой молодою – не знающей срока -
пузырчатой радостью в жёлтом вине,
с рыбацкою лодкой, что, еле белея,
спешит, обгоняя кефаль и макрель, -
в край ладана, смирны, тоски и елея,
туда, где Эллада, Ливан, Галилея -
озёра и смоквы Заветных земель...
Амфора
Округла амфора с зерном,
речной песок белеет в трюме.
Как помогают волны думе,
как слажен парус с кораблём!
Гудит кедровая доска,
прогрета, солнечна, шершава.
Плыви! У мужества есть право -
солёный ветер у виска.
Наполни амфоры уста
оливковой, мускатной влагой.
Да осенит тебя отвагой
твоя моряцкая звезда.
Да станет амфоры сосуд
твоим надёжным талисманом -
в его обводе богоданном
слились гармония и труд.
Магнитна, женственна, светла
огнём обласканная глина,
а гулкой ноты сердцевина
сродняет с ней колокола.
И Одиссеево вино
под глиняной созреет кожей.
Платон – бесценен! Но дороже -
дорога, амфора, зерно!
* * *
Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
Привокзальное радио снова "Славянку" играет,
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
Снова сутки свиданья с портовой фартовою Кафой
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
Каплет в рюмку мою "Пино-гри" виноградников графа -
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.
Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, -
эти минус три четверти века... Со снимка глядят
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, -
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
Не осталось уже никого с августовского фото,
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года -
карусели приморской дрожат золотые жучки.
Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
Александра - вослед Македонцу, Арапу вослед.
Я ведь сам - иноходец Ивана и сын Константина,
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
но которые живы и набраны чётким петитом
в каждой строчке моей, в каждой рифме - один на один...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.
Белым ложится на чёрную землю...
* * *
Сухой ноябрь. Желтеет облепиха
собором спелым каталонской лепки.
И Гауди Антоний дышит тихо
сквозь сизый сон пырея и сурепки.
Куст облепихи празднично и густо
и ягодами полон, и шипами.
Да будет жить, - в царапинах, - искусство,
как раненая нежность между нами.
Да освежит язык мне лёд облатки -
осеннего ковша кружок подмёрзлый,
и нищих туч холщовые заплатки
да светят над зрачком речушки Ворсклы!
Лимонный храм, предтеча каталонца,
колючий арлекин, сорочьи тризны...
Чем ближе стынь, тем кровней проблеск солнца
средь терний, желтизны и укоризны.
* * *
Вновь подступает средь ночи зима,
белым ложится на чёрную землю.
Равною мерой, что будет, приемлю –
посох ли посуху, сумма ль – сума.
В мокрую глину, в ноябрьскую стынь
падают конники и пехотинцы.
Мёртвых венков – ярко-дики гостинцы.
Я бы хотел к изголовью – полынь.
Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну – и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...
Перевод на сербский
язык
* * *
Опет стиже усред ноhи зима
белим леже на црно тле шум.
Равном мером све што буде примам -
кап, штап, канап, ум ил друм ил хум.
Под новембра лед, у глину иду
коньаници и пешаци смели.
Венци мртви - дивльи дар у виду.
Jа бих хтео за узгавлье - пелин.
Молио бих за помен тек жуту
пелинову гранчицу, над ньивом.
Продисаhу - без туге, саньиво.
Ко да навек не изгубих живот,
него заспах, за тренут, на путу...
Перевёл на сербский
Вдадимир Ягличич
 © Все права защищены
© Все права защищены
Маланюк Ars Poetica
Евген Маланюк
Ars Poetica
Юлиану Тувиму
1.
Всё начинается с созвучий,
Сначала – смех, потом – игра,
А вслед – безудержный, летучий
Огонь, чтоб знать: теперь – пора!
Десятилетьями вонзали
В живую жизнь словесный ряд,
Зайдясь в лирическом запале,
Не унимая дрожи в жале,
А ныне – только дым и чад.
О, суть и лють судьбы проклятой,
Что горче, чем кончины миг!
Она – кровавая расплата
За каждый день, за каждый стих.
2.
...Мчатся тучи над мартом весенней отарою туров.
Разом – яркое солнце и влажный летучий норд-вест...
Только вдруг – испытание пыткою литературы.
И слова – каждодневный пожизненный крест.
Целовал, а внутри тебя ритмом звучало: ц е – л у ю.
Расцветали черешни, в е с н а – рифмовал ты – к р а с н а.
Даже боль, даже нервы звенели, как струны, не всуе,
И силлабы цвели на заре и рождались во снах.
Было сладко вначале, а позже – всё горче, без края.
Как порок, как наркоз это: имя назвать и убить.
…Так пейзажи и муки, и время в строку облекая,
Научились мы в звуке эпохою быть и мгновеньем жить…
3.
Вечно сжатый в пружину и хмурый,
В миг улыбки к тревоге готов,
Morituri литературы,
Гладиатор безжалостных слов.
Вечно – чернь и жестокость арены,
Вечно – падая, снова встаю.
И язвят своры взоров надменно
Иссечённую душу мою.
Так горю, ибо неодолимо
Входят в кровь мою через века
Заклинанья кандальников Рима –
И варяга, и казака.
4.
А ты ветхозаветным жаром
Наполнил новые слова,
Чтоб каждый день был – гнев и кара,
Чтоб стих твой пламенем пылал.
И ловишь миг, намёк, секунду,
Чтоб и распять, и пригвоздить.
Поскольку кровь в проклятье бунта
Всё помнит те ещё кресты.
И в горьком тонких губ смеженье,
В библействе мыслящего лба
Мерцают скорбь и пораженье,
Тавро веков, твоя судьба.
5.
Эллады сыны и сыны Иудеи,
Враждой разделённые дети земли
Крестом и железом и ядом идеи
Возводят и рушат все Римы, Кремли.
От греков и римлян, провинций, колоний
Гремели столетья меча и огня,
И к Богу вздымая бессильно ладони,
Молили напрасно великого дня.
И месть не жалела ни крови, ни яда,
И дымом руин упивались ветра.
Два лютых врага – Иудея, Эллада
От Тибра и Рейна и вплоть до Днепра.
И я средь чужих в нестихающей скорби,
И ты (на всём мире – чужбины печать)
Даруем всю боль свою urbi et orbi,
И выси в ответ продолжают молчать.
6.
Мы знаем больше, чем они –
Те, что руками лепят слово.
Вынашиваем плод весны,
И мускулиста наша мова,
Рождённая в багрянце мук,
В живом пыланье лона Музы.
И крик родильный – вечный звук
Нерукотворных наших музык.
1930
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Но я-то помню очи Риги...
Винолюбие
Д.Д.
Отнюдь недаром, Дагна Дрейка,
нам любо красное вино,
ведь наша певчая семейка
им греется давным давно,
поскольку зимние туманы
над Даугавой, над рекой
ворочаются хмуро, пьяно,
как серый бомж на мостовой.
Но я-то помню очи Риги
лет тридцать пять тому назад -
как бы Дануты и Ядвиги
сияющий любовью взгляд.
И дабы встреча не забылась,
я в амнезии стылых зим
багряно-терпкой влаги милость
вздымаю:
не "Чин-чин" - "Сим-сим!"
Я - с Вами вместе, Дагна Дрейка.
А Вы, мне верится, - со мной!
Живи и щебечи, семейка,
где белый шум плывёт от Блейка,
как свет воротника Ван-Дейка,
и где журчит водицей лейка
над грядкою в июльский зной!
2015
* * *
Сентябрь припасает варенье.
кизил багрянеет в тазах.
И горлица стихотворенья
в безоблачных неба глазах
белеет - на взмахе - знакомо
и снова влетает под кров.
Субботнею млеет истомой
теплынь нищеанских дворов.
Курлычет контральто романса
в открытое настежь окно.
А солнечный гривенник шанса
звенит о дворовое дно:
"Верни пятаки побирушке,
себе и вражине прости
охотничью страсть, погремушки
и перья синичьи в горсти!"
Пройдя сентября середину,
главы не сберёг Иоанн.
Но золото, синь, паутину
ещё не завесил туман.
Пируют на лавке ханыги.
А помнишь! - И ты приносил
на пир свой: то строчку из книги,
то каплю бальзама из Риги,
то красный султанский кизил!
На мотив Дагнии Дрейки
(с латышского)
* * *
В фиалках Рига. Молния ветвится
огнём лиловым в островерхих башнях.
Простушка милая, фиалок чаровница
с улыбкой чистой на устах увядших,
хитрюга старая, ты девушкой и феей
проходишь сквозь века. Тебя в разлуке
я снова оживляю, как умею,
и отдаюсь тебе бесстрашно в руки.
И в губы арку Шведскую целую.
Лаская камни, слушая их пенье,
опять в тебя влюбляюсь, молодую,
фиалок фуга, фейерверк цветенья!
13.11.2015
Поляница Здруй
* * *
Не льёт. И тишина чиста - до звона.
Просохла площадь, ливень-водолей
утих. И ветер, хмелем напоённый,
весь мусор выдувает из щелей.
И скомканный листок, как лебедь белый,
над мостовой шурша, готов взлететь.
И девочка куском цветного мела
для "классов" на асфальте чертит сеть.
Не суесловь пред тишиной большою.
Всё продано, что можно и нельзя,
давным давно. И, с грошем за душою,
малютка бес смеётся нам в глаза.
Перевёл с латышского
Сергей Шелковый
Каблуком хрустит по свадебному снегу...
Яжембяк
В середине декабря над горизонтом
еле-еле поднимается светило.
Пару рюмок пропустив опрокидонтом,
понимаешь - будет то же, что и было.
Будет то же, что вчера, но всё же больше,
чем за окнами вполглаза различимо.
Пенькна пани пьёт яжембяк в зимней Польше,
да и здесь рябина демосом любима.
И особо, если спиритус коньячный
растворит в себе её горчащий привкус...
А декабрь стоит заснеженный и смачный,
хоть обычно в это время - накось-выкусь
в смысле праздника сверкающего снега,
в плане шанса полюбить и быть любимым...
В эту полночь года альфа и омега
спят, как ящерицы в грунте, в мире мнимом.
В середине декабря в похмельном небе
мутно солнце, и лицо его багрово.
Мысли гложут - о квитанциях, о хлебе.
Чуть отгонишь - подгребают сбоку снова.
За окном - студёный век, не кватроченто,
время льда и задубевших в тине раков.
Вспоминаю я яжембяк и зачем-то
королевский, на горе шляхетной, Краков.
И понеже суть рябиновки янтарна,
я доверюсь её влаге-оберегу.
Пани - пенькна, а и наша девка - гарна!
Каблуком хрустит по свадебному снегу.
Дворянское гнездо
С.Э.
Яичница – БитлЫ. Томатный сок – Rot Энгельс
и Карла красный рот, язвящий капитал.
Я завтракал в «Струе», и пан СтанИслав Эллис,
приятель давний мой, к себе меня зазвал.
Глазунью я клевал в кафе, в «Струе зеркальной»,
в «Струе» же на Сумской нагой пиит-хорват
плескался и гремел метафорой сакральной
про «Синее вино» - лет сорок пять назад…
Но это к слову, так… Ведь математик Эллис
в имение своё звал целый год меня.
Но чтоб квадрат вписать в овал, окружность, эллипс,
мне лично нужен срок серьёзней, чем полдня.
И потому я год и более решался
откликнуться на зов дворянского гнезда.
Профессор ведь - из тех, в чьих генах бродят шансы
на то, чтоб на груди алмазная звезда,
на ленте голубой иль алой, воссияла.
«Ну что ж, - ответил я, - хоть завтра в три часа…» -
Холодная гора, окрестности вокзала,
плюс старого бойца прицельные глаза.
Стас Эллис вправду был отменный фехтовальщик
в былые времена. Поскольку в стригуне
бурлила предков кровь, миндалеглазый мальчик
калил свой эспадрон на правильном огне.
А как иначе жить наследнику походов –
крестовых, не простых, в количестве трёх штук!
Холодная Гора – скамеек, огородов,
махровых цветников последний тёплый друг…
Не зря я отмыкал затворы паладина,
где к тёмной умбре лиц наследственных холстов
сквозь окна долетал багрянец георгина
и отблеск-переплеск шафрановых плодов.
Не зря я отворял калитку крестоносца
и свежую эмаль награды обмывал.
Приор опять зовёт. Дождусь теперь морозца,
глядишь – и ко двору дворянскому придётся
сей, не придворный мой, но вольный, мадригал!
Рискнём до снегопада петь...
* * *
Никого ни о чём не проси,
за пожухлую быль не цепляйся -
за кривое железо оси
в околесице дробного пляса.
Жаль чего? Разве радужных пчёл
на пиру травяного июня
да сверчка во хмелю маттиол
в голубом молоке полнолунья?
Разве тени ступни на песке,
бесполезно-жемчужного сора,
пряди русой на детском виске
да ничейного нежного взора?..
Вот и всё.. Ни о чём не моли -
обнимись с корешками кривыми,
что грызут в поднебесной пыли
земляное шершавое вымя.
* * *
Допил с причмоком бомж пивной глоток
из выловленной в мусорке бутылки.
Дабы в канаве свой не встретить срок,
копи пятак за пятаком в копилке.
Суммируй кэш в фаянсовой свинье,
приобретённой на Сумском базаре,
теперь, когда в позднеосеннем дне
всё жиже солнца и всё гуще хмари.
Копи, но всё, что в силах ты отдать,
отдай, не сомневаясь ни на йоту!
Воистину, не здешняя забота -
о знаках чисел достоверно знать.
2015
* * *
Приободришься дружбой женской,
войдя в соседний магазин.
В ста метрах - храм Усекновенский,
и кровью вызревших калин
румяна осень молодая.
Сквозь синь и золото Бальмонт,
тональность звуков нагнетая,
уводит день за горизонт.
Но делишься с народом женским,
за бренным овощем зайдя,
строкой - не бродской-вознесенской,
а взятой из глубин бытья:
"Опять, торговые русалки,
подорожала ваша снедь!"
Но осень наземь бросить жалко,
но - восемь на семь, ёлки-палки! -
рискнём до снегопада петь...
2015
Солнце льдистое наискось встало...
Виноградник
Снова в стылом осеннем солнце –
лилипутов игольчатый писк.
В винных ягодах сладко пасётся
череда белощёких синиц.
Винограда подмёрзлые кисти,
в примороженных за ночь листах,
зреют трудно, как поздние мысли,
в опустевших, до гула, садах.
Из садовой лучинной лачуги,
где антоновки дух и бедлам,
вижу радость лукавой пичуги
и по-птичьи радуюсь сам.
Солнце льдистое наискось встало –
бледно, словно в последний раз...
Между стёкол уснул устало
многоцветный павлиний глаз.
Невесомо пыльца облетела
с крыльев ломких и с веток-ресниц.
Вот и вызрела изабелла –
фиолетовый мёд синиц!
* * *
Бледно-лиловые астры в сумраке стылого сада
светят над чёрной землёю после тяжёлых дождей.
Ярко-оранжевым ядом брызжут календул лампады.
Холодно, пусто. Часами – нет ни собак , ни людей
в этих посадках старинных...
Только корявые лики
разнорабочих деревьев – яблонь, черешен и слив –
не покидают усадьбы. Да рассыпаются крики
соек, снующих повсюду в поиске скудных пожив.
Полупрозрачные астры не по-сентябрьски озябли.
Рано повеяло стужей и соловецким вином.
Хлопнем по шкалику, братец, выпьем ещё по три капли
и угловатые грабли в тёплые лапы возьмем.
Вот и ещё одна осень, палой листвы погребенье.
Листья становятся дымом, запахом и забытьём.
А в глубине, за ветвями, - близко-далёкие тени:
словно вчера ещё,
в детстве по листопаду идём..
* * *
Листья уйдут, обнажая избыток пространства.
Воздух запахнет предсмертным намёком на водку.
С трассы увидишь всё там же, как знак постоянства,
олово озера и одинокую лодку -
не доезжая Воронежа, между холмами.
Может, и впрямь о Тоскане тоскуют пейзажи.
Листья уходят, вздыхая о дружбе домами,
о краснояблочной, взятой в рогожу, поклаже.
Над временем, текущим своенравно...
* * *
Бесслёзен Космос над холмом косматым,
над осенью беспамятных могил.
Кобель, грозя из тьмы свирепым матом,
охрип - и, умолкая, заскулил.
И ночь - безмолвна. Универсум чёрный,
искря фантасмагорией миров,
над жухлой почвой, дикой, непокорной,
величественный простирает кров.
И в храме ночи чуется так явно
земной душе присутствие Творца -
над временем, текущим своенравно,
над лампой полуночника-чтеца.
Прощание прощению подобно.
Печаль с мечтой, две кровницы-сестры,
уснули. И полей осенних копны
вздыхают влажно, горьковато-сдобно...
И медленно вращаются миры.
2015
Погоня
Дрожит над степью Зодиак -
звериный, птичий, рыбий Пояс.
И режет грудью влажный мрак
мой гончий зверь - полночный поезд.
Из тьмы меж Курском и Орлом
хрипит вослед ему собака,
но, наклонясь железным лбом,
он мчит вдоль нерва Зодиака.
К бурьянам полная луна
сползает в полудрёме юзом.
Лишь он, стальной кентавр, без сна
частит по рельсам жарким пульсом.
Лишь он несётся по степи
и снова мне сквозь чад вагона
стучит в виски: "Не спи, не спи!
Не спи - бессонницу копи,
погоня звёздная - бессонна..."
Опять наш путь – под пылким Иоанном...
* * *
Борису Чичибабину
1.
То были дни, когда в кафе «Болонья»
входили два ещё живых поэта.
Один из них – давно в нездешнем лоне.
Несут его черниговские кони
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.
То были дни, когда в шинок, на стыке
Студенческой и Пушки, забредали
на пару мы, книголюбиволики,
тревожнооки, бражники-музыки,
на ангелов похожие едва ли.
Он всё глядит, задумчивая птица,
в предзимье том на огневые ветки.
И он – средь тех, кто мне доныне снится,
среди троих... Строга его зеница,
чиста, как подвиг первой пятилетки.
На сердце смуту и целим, и множим
изломом слова, неизломом духа.
В кургузом рабстве пелось о хорошем.
А что споешь сегодняшним, небожьим,
добытчикам – с плечами, но без слуха?
То были дни без алчи, дни иные.
Скользят сквозь осень золотые звери.
Он курит у окна, и у стены я
молчу о том, что мытари земные
пришли за нами. И ломают двери...
2005
2.
То были дни, когда в кафе «Болонья»
мы понимали две коньячных рюмки,
взлетая лишь на миг в их перезвоне
над гулом почвы на холерной зоне,
над зудом великодержавной чумки.
Пропитанный насквозь шматок бисквита
жевал ты и хвалил по-детски: «Мокрый!»
Проросшее в тех далях – не забыто,
зернисто, не просыпано сквозь сито...
И осень та всё светит яркой охрой.
Над обмороком слобожанской почвы,
над занавесом, клёпанным из стали,
взлетали твои птицы прочь от порчи,
скреблись ко мне, в рифмованные ночи,
сквозь двери зим, сквозь ватные печали.
Твои грехи всё поминает Кадя*
в сужденье ироническом и строгом.
Но сам он ныне, в пагубном раскладе,
поёт и пьёт каких скреплений ради?
Под кем скрипит?
А наша скорбь – под Богом!
Опять наш путь – под пылким Иоанном,
под откровеньем подлинным и страшным!
Осенним солнцем, нынешним туманом
позволь прильнуть к твоим горячим ранам -
к таким родным и без конца протяжным...
--------------------------
* Кадя – Аркадий Филатов,
харьковский поэт и сценарист,
давний друг-соперник Бориса Чичибабина
2015
Шиповник, сто сердец дарящий...
* * *
Как поздней осенью в лесу,
в душе - светло и одиноко.
И всё своё с собой несу
без горечи и без упрёка.
Спокоен край небес и пуст
над опустевшей голой чащей.
И в алых каплях колкий куст -
шиповник,
сто сердец дарящий.
Предзимье
Муравейник - у корня смородины,
а не трону я их, пусть живут
муравьи, охранители родины -
чёрный труд, коммунальный уют.
Рву я с веток осенние яблоки.
Рано выстужен воздух хмельной.
Ветер гонит по небу кораблики,
лист несёт над тобой, надо мной.
Царским посохом старец швыряется,
простоокого сына казня. -
И никак этот сглаз не кончается,
долгий сказ про тебя, про меня.
Кровь боярыни - в каине-Павлике,
вновь убитых в санях повезли...
Стыну я. Мы с тобою - лишь зяблики,
щёки в гари и очи в пыли.
Залегли мураши под смородину.
Подморожен, хрустит чернозём.
Стылым маревом мачеху-родину
покрывает отец-окоём.
Стынь в широкой предзимней обители.
Шельмы жители, а не соврут:
"Ой, и вволю мы радости видели -
труд булыжный, соломенный суд..."
Обнимаю деревья осенние.
Жил бы лучше и я, если б мог...
Спит, под землю уйдя во спасение,
муравьиный натруженный бог...
* * *
Старый ялик к осине причален,
на корму осыпает багрец
время терпкой осенней печали,
время плача древесных сердец...
Время ропота лиственной сени,
опадающей к мокрыи корням,
час любви безответной осенней,
обращённой к истаявшим дням.
Снова в лодку - на дно, на скамейку -
еле слышно слетает листва,
будто дальнее пенье жалейки,
затихает вода у моста.
Потухают осинника свечки...
По пустому, в две жерди, мосту
перейду отзвеневшую речку -
то ли год, то ли век перейду...
Как дела твои, Алупка...
Осеннее письмо
Как дела твои, Алупка? Я любил тебя когда-то,
хоть Гурзуфу мимоходом больше виршей посвятил.
Так ли всё живёшь, голубка,- неухожена, примята
сонным модусом вивенди, хаосом случайных сил?
Слышал я, ты всё рифмуешь домотканные куплеты?
Я и сам ценю всё так же пару тёртых чудаков,
двух своих дружбанов сивых, что проводят с ямбом лето
средь твоих дворцов и хижин, средь ларьков твоих, лотков.-
Всё средь харьковских муралов, на затоптанной леваде,
до сих пор не сданный чудом в исторический музей,
водку любит, воду мутит собутыльник мой Аркадий,
а в халупке под Алупкой трезво мыслит Алексей.
Жаль, что ты не помнишь имя той, без рифмы. И не надо -
всё равно уже полвека вечно юные глаза
греют душу мне, смывая муть и копоть лаской взгляда...
Как там твой сентябрь, Алупка, - море, охра, бирюза?
Может быть, ещё приеду. А скорее - издалёка
потреплю по холкам-гривам каменных озябших львов.
Время - зверь холоднокровный, память же - тепло без срока.
Вытирает осень слёзы мехом рыжих рукавов.
2015
Так улыбаются цветы...
Клятвы
Так улыбаются цветы,
в промозглом дне золотопенны!
Но нагло зубы скалят цены -
и так не к месту я и ты.
Кругам своекорыстной лжи,
истории непрямоточной,
какой-то вечности порочной
мир присягнул... Но всё свежи
в осенней хмари хризантемы,
полновоздушны и легки.
И чудится, их лепестки -
скорее клятвенны, чем немы.
2015
Меня тревожит линия простая...
* * *
М.
Меня тревожит линия простая -
окружность, по которой прорастает
из мрака почвы взлётным естеством
неодолимый тополиный ствол.
Меня волнует этот след разрыва,
знак боли и отважного призыва -
сквозь тяжесть глин взойти самим собой,
прорвав небытие над головой...
И ты, мой отрок-стебелёк, доверчив,
восходишь, тем же абрисом очерчен -
воротниковой тихой белизной...
Растёшь - и солнце держишь надо мной.
Перевод
на немецкий язык
* * *
M.
Wie regt mich auf die Linie des Kreises,
Wo wilde Aeste so unbaendig spreizen
Aus dem dunklen Boden, hoch und stark,
Wie in die Hoehe ragt ein Pappelstamm.
Wie regt mich auf diese Spur der Risse,
Des Schmerzes Zeichen, Aufruf des Wissens –
Froh keim’ ich auf durch den schweren Lehm,
Durch Nichtsein mich an hohen Himmel lehn’.
Und du, mein Spross, zutraulich und leise
Keimst auf in demselben lieben Kreise –
Des weissen Kragens labend suesse Zier...
Waechst hoch und haeltst die Sonne ueber mir.
Память
И вот, когда опять июнь настанет,
качнусь на юг, как Дон, Днипро и Волга,
как пёстрая ватага казаков
с варяжскими бунчужными чубами,
с клеймёнными ворожьей сталью лбами,
с пурпурными хвостами бунчуков...
Что кровь моя? - Накоплена по капле
из кринов сладких и лиманов горьких,
из ливней материнских, отчих рек...
И потому, когда июнь приходит,
мне жилы рвёт тугих потоков память -
сама судьба в седло меня бросает,
ремень подпруги жадно затянув.
И сагайдак мне дарит Сагайдачный,
и в грудь вонзает твёрдые глаза.
И вот, скольжу дугой меридиана,
лечу в огромном сне, всё ускоряясь,
по зову рода, по магниту крови -
Чумацким Шляхом, муравой шелкОвой
спешу на юг с тоской неодолимой,
настоянной на соли и меду...
И слышу счастья смертную дуду.
Всё помню, всё. И наяву иду.
Gedaechtnis
Na, so was, wenn der Juni wieder ankommt,
Nach Sueden schwank’ wie Don, Dnipro und Wolga,
Oder vielleicht eine Kosakenschar
Mit wilden Keulenschoepfen der War;ger.
Die Stirnen – feindlicher Markierung Traeger,
Deren Machtkeule ganz aus Purpur war...
Was ist mein Blut? – Diese gesparten Tropfen?
Aus suessen Lilien, bitteren Lymanen,
Mutterplatzregen, vaeterlichen Stroemen...
Deswegen reisst so, wenn der Juni kommt,
Gedaechtnis starker Str;me meine Adern –
Das Schicksal selbst mich in den Sattel wirft,
Den Sattelgurt so gierig festgezogen,
Und einen Koecher schenkt mir Sahaidatschnyj*,
Und meine Brust mit harten Augen sticht.
So gleite ich den Mittagskreis entlang,
Im Schlaf so maechtig flieg’ ich immer schneller
Auf den Sippenruf und Blutmagnet –
Auf der Milchstrasse und auf der Wiesengras
Mit unbaendiger Sehnsucht nach dem Sueden,
Mit Sehnsucht voll von Honig und von Salz...
Ich hoer’ des Gluecks innige Todespfeife.
Hab’ nichts vergessen. Ganz im Wachen gehe.
* Sahaidatschnyj - eine historische Gestalt,
ein bekannter Kosakenheerfuehrer
* * *
Заплёлся диким виноградом
шестидесятилетний сад.
И я с ним рос все годы рядом.
И тоже сумме дней не рад.
Заплёлся хаосом вторжений
и ненасытностью лиан
свидетель всех моих сражений
и всех, поросших былью, ран.
Вот снова лёгких туч кочевья
летят над маем во хмелю.
И я печальные деревья
лечу - сушняк ветвей пилю.
А солнце так сияет, словно
прогонит всех смертей недуг.
Фиалки вьют гнездо укромно.
И ты целИшь меня безмолвно,
мой лекарь-сад, мой знахарь-друг.
* * *
Geflochten von dem wilden Weine
Mein Garten, sechzig Jahre alt.
Ich wuchs hier auf, er ist meiner,
Die Zahl der Tage macht nicht halt.
Das gruene Chaos, wilde Wiege,
Lianen ranken sich unsatt.
Der Zeuge aller meiner Siege
Labt meine Wunden lindes Blatt.
Sieh: leichte Wolken wie Nomaden
Im Rausch ziehen durch den Mai
Und ich bekaempfe boese Maden,
Das D;rrholz soll gesaegt doch sein.
Die Sonne scheint als ob sie koennte
Den Tod vertreiben ueberall,
Als ob sie jedem Veilchen goennte.
Wortlos heilst du, der hochgekroente,
Arztgarten, Freund, das liebste Heil.
* * *
Упрёка нету в лицах стариков.
Во взоре их, идущем вновь ab ovo*,
едва заметна зыбь пути земного,
но всё полней незыблемость веков.
Молчат.
Седые души их близки
к тому, что называть мы избегаем.
Их каждый шаг - уже над самым краем
холодной неприветливой реки.
И всё темней ночное их окно,
где нет Стожар, где скомканы Плеяды.
Прощаются.
Любому слову рады.
Скажите им хоть что-то - всё равно...
*ab ovo - от яйца (лат.), от самого начала
* * *
Kein Vorwurf in dem Antlitz, nur die Zeit
In diesen Blicken, die ab ovo gehen, –
Kraeuseln des Lebenswegs kaum zu sehen,
Immer sichtbarer Ruh’ und Ewigkeit.
Sie schweigen.
Ihre Seelen sind so nah
Zu dem, was hier zu nennen wir vermeiden.
Die Schritte schon ueber dem Rande gleiten
Des kalten Stromes, der das Beste nahm.
Die Fenster immer dunkler in der Nacht.
Keine Plejaden scheinen in die Scheiben.
Sie nehmen Abschied.
Worte freundlich bleiben.
Sagen Sie etwas trotz ob es was macht...
Вербное Воскресенье
Христос въезжал на фетровом ослёнке
в золотоверхий град Ершалаим,
и пели ветки пальмовые звонко
над ним, тигровооким, молодым.
То дети, веер зелени вздымая,
живили воздух над его челом.
И обмирало сердце, вспоминая:
"Авессалом, Давид, Авессалом..."
И вот прошло две тысячи подлунных
необратимых зим, жестоких лет.
И, что б ни взялся ты сыграть на струнах,
а выстраданней нот в клавире нет,
чем ослик тот, апрельский привкус чуда,
чем запах вербных веток у лица,
и свет тревожный, бьющий отовсюду, -
вселенский взор всевластного Отца...
Palmensonntag
Jesus ritt ein auf Filzeselfohlen
In die Goldkuppelstadt Erschalaim.
Und Palmenaeste sangen nicht verstohlen
Ueber den Tieraugen, ueber ihm.
Mit gruenen Facheln faechelten die Kinder
Luft an der Stirn, zur Zeit Erfrischungslohn.
Man konnte in Erinnerungen finden:
„Avessalom, David, Avessalom“.
Zweitausend Jahre wie im Nu verliefen.
Winter und Sommer, hart, unumkehrbar.
Als meine Finger an die Saiten griffen,
So gut wie diese keine Note war.
Wie dieser Esel, Fruehlingswunderzeichen,
Palmengeruch so nah an dem Gesicht.
Auge Gottes kann ans Tiefste reichen.
Allm;chtig und allsehend, Gotteslicht.
Uebersetzt von Alex Schmidt
Перевод на немецкий -
Алекс Шмидт
Но мне представить бы хотелось...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Умрут и небо, и земля,
Замолкнут голоса природы,
Ни берега, ни корабля
Уже не тронут плеском воды.
Всё, что растёт, сияет, пахнет,
Безмолвный холод вмиг пожрёт,
И злоба без людей зачахнет,
И без добычи смерть умрёт.
Но мне представить бы хотелось,
Что над погибелью земной
Твои продлятся жизнь и смелость,
О буйный ветер мой степной!
Твоё не смолкнет трепетанье
И ты во мраке средь руин
Как эхо давнего дерзанья
Всё будешь повторять один
Слова поэтов прозорливых,
Отважных странников земных,
Мольбы их песен незлобливых
И плачи, и проклятья их.
17.X.1940
* * *
Когда дни серели мёртво,
Как сухие прошлогодние стебли,
Я таил ласковый огонёк
В аметистовом дымке.
И казалось мне,
Что никто им не владеет,
Только я, только я.
А теперь он всюду, куда ни гляну:
У шмеля на брюшке,
В цвете верб и на лещине,
На стогах вечеров
И на поясе рассвета –
Тут и там, тут и там!
А зато во мне самом
Аметистовый дымок
Не сияет, в окнах темно,
Среди блеска мёртвого
Ослабел мой огонь,
Как исчезает шум листка
В саду, в гаю.
1934
* * *
Как плещет твой плащ химерный
Из ветра, тьмы и огня!
Прошла ты – и больше в мире
Нет ничего для меня.
Как очи твои бездонны! –
Заря и ночной звездопад.
И там, в темноте их карей,
Ветвится мой песенный сад.
Как нежно остры твои груди,
Едва лишь притронусь к ним,
Теряю и волю, и память!
И счастьем тревожусь своим.
Как тонко узки ладони,
Что, словно во сне, наяву
На лоб мне кладёшь ты, и снова
Тобою одной я живу.
Как плещет твой плащ химерный!
Как ясен очей огонь!
Как нежно остры твои груди!
Как тонко узка ладонь!
* * *
Брожу весь день то лугом, то в гаю,
Как дерево, вдыхаю запах лета,
В низине ключевую воду пью,
И глажу колос, полный зёрен света.
И так живу, как придолинный цвет.
Без замыслов, без дум и непокоя.
А что потом? Ночь властною рукою
Мне заслоняет осиянный свет.
Тогда иду я вдоль речной излуки.
Там чёрной стужей льнёт ко мне роса,
И тянутся невидимые руки
К моей руке, и из Большой разлуки
Звучат давно немые голоса.
4.9.1939
* * *
Обновляется древо мысли моей;
Будто старый ствол лежит, упав,
А новая поросль на подзоле –
Как стройные свечи на свят-престоле.
Выйду в поле, встану на взгорке,
Поведу рукою над головой.
А за рукою тянется солнце,
Как цвет кувшинок за взмахом вёсел.
Убитая голубка! Твоя одежда,
К которой лицом прижимаюсь,
Истлела во мне, погасла во мне,
Не расцветает от слёз печалью.
И что сказать? Сама ты знаешь:
Пусть соберёт кто весь цвет опавший,
Собрав, бросит на склоны неба,
Звезды не сотворить вечерней.
А быстрые ночи так дико пахнут,
А ветер брызжет дождём в лица,
Жадным громом обносит слух мой:
– Погрузись в пламень рай-молнии.
1934
* * *
Не грезит иволга о пенье
В садах кораллов под водою,
А золотистый луг укропа
Не станет епанчою солнца.
Не вправе осень средь дубравы
Завидовать цветам черёмух,
И не мечтаю я, что снова
Вернёшься ты ко мне когда-то.
3.V.1933
* * *
Ты мне единственный просвет
Во тьме печальных вечеров.
Померк твой взор, твой златоглав,
А я всё нежу, всё люблю
Красу разъятую твою.
Когда я возвращусь в сады,
Где был мой день как звёздный мак,
На древе солнца, на коре,
Там имя выпишу твоё,
Там, перволюбая моя.
21.III.1933
* * *
Волны вечерней жду над морем Чёрным,
Или чтоб месяц, вызревший в тепле,
С обрывком лёгкой тучи на челе,
Узор свой расплескал в саду нагорном.
Но милое вдали осталось море.
Нагорные сады не тешат глаз,
И не приходит тихой ночи час,
Где волны нежный блеск вливают в морок.
И в миг,
когда над маревом далёким
Впадает в ночь зари последний ток,
Среди камней, в мечтанье одинок,
Лишь города я слышу чёрствый клёкот.
11.X.1936
* * *
Одинок, лежу я,
А вокруг до неба
Тьма стоит высоко,
Как бурьян, шумит.
Чую, ходит смута
Вкруг моей постели,
Как тарантул серый
Вкруг своей норы.
И всё ближе, ближе
Шагом сучковатым,
Петли завивает,
Вяжет злы-узлы.
Месяц мой, косарь мой,
Выйди на туманы
И над тьмой, бурьяном
Лезвием взмахни.
Вижу – надо мною
Водоросль до неба.
Вижу – ходит рыбка
В зелен-высоте.
И всё ниже, ниже
Перьями колышет,
Петли завивает,
Вяжет злы-узлы.
Подплыла и стала.
Вкруг очей обводка,
А в очах янтарный
Застывает сон.
7.XI.1928
* * *
Вот и ночи полны покоя,
Юной нежности и тепла;
И лишь смеркнется, под водою
Дужка месяца ляжет, светла.
Ой лежит она, не уплывает,
Только изредка вздрогнет, вздыхает,
Когда куст лещины, что клонит
Пару веток с нависшей кручи,
На неё чуть слышно уронит
Цвет серёжки своей пахучей.
1939
* * *
Над городом ночь и сон;
Тишь стоит среди белых колонн.
Возвышаются немо дома,
И вплывает в их очи тьма.
Внизу, возле светлых витрин,
Бродит сторож ночной один
С короткой берданкой в руке.
Шапка – в изморозь-молоке…
Люблю я витрины в ночи –
В красных винах изломы-лучи,
И посуды синий хрусталь,
И румяной куклы печаль,
И над вышивкой рукавов
Волчья пасть с оскалом зубов.
Автобус промчался, пуст,
И луч его, будто бы ус,
Будто длинный ус золотой,
Упал на асфальт ночной.
Я тихо домой иду,
Мою думу с собой веду,
Одинокую думу, как тень,
И любо мне в темноте.
Как будто я счастья жду,
Как будто я в дивном саду.
2.III.1939
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Настоящее! Словно домик карточный...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
И ароматом вечер веет,
И поле влажно зеленеет.
В озёрцах последождевых
Румянец светится летучий
Трёх облаков, забытых тучей,
И плёс синеет среди них.
О час небесного покоя!
Твоею лёгкой красотою
Как жадно упиваюсь я.
Как в тонкое твоё свеченье,
В твоё знакомое цветенье
Вливается душа моя.
Поезд
Как ударит гудком из-за леса,
Вздрогнут ветки, качнётся земля.
Сотня кованых лап из железа
Под себя подминает поля.
Но над содранной шкурой оброка,
Над песками, над шрамами зла
Поднимаются зеленооко
Дети отчей степи без числа.
Разнотравья чудесны обличья.
Мягко светит Петров батог,
И вцепились в хвосты лисичьи
Черевички с кукушкиных ног.
Паутина вздымает несмело
Лёгких кубков молочный хрусталь.
Здесь все те, чей покой одолела
Сила плуга и заступа сталь.
А хозяин, что с чад вольнополья
И сдирал, и сдирает оброк,
Награждает их скромною ролью
Соглядатаев гордых дорог.
16.7.1928
* * *
Настоящее! Словно домик карточный,
Ты падаешь от веяния вздоха,
От движения уст – и всегда нерушимо.
Настоящее! Золотогранная свечка,
Что каждый миг сгорает безвозвратно
На солнечном престоле, а при этом
Стоит на нём от века и до века!
Моё «сейчас»! Ты ведь и тогда было,
Когда я целовал любимое тело,
И ныне есть, когда в земле глубокой
К нему смерть устами припадает.
Ты – день и ночь, начало и конец,
Стрела и цель, весна и увяданье.
В тебе искал я и в тебе нахожу,
В тебе был юным и в тебе старею.
О чудный миг! Словно сквозь коралл намиста,
Сквозь тебя нитка времени проходит,
То золотая, то чёрная, то бесцветная.
Ничего не существует, кроме тебя.
Но и тебя нет. Уста не успеют
Тебя назвать, как исчезаешь ты.
Вот я и веду о тебе эту песню:
Ещё звук не умер, а ты уже навеки
Отделилась от рождения его,
Уже ты отдалилась от слова,
Только что произнесённого. Будущее
Тобою стало и отступило в прошлое.
26.10. 1937
* * *
Уже смеркалось. И туманно багрянела
Вода под камышом, когда я в лодку села.
А на челне был дед. Пожухла борода.
Во взгляде грусть-печаль, как мыльная вода.
Клоками седина свалялась, пожелтела,
И теплилась в нём жизнь так слабо и несмело,
Как палый и к земле приплюснутый листок
Вздохнёт, когда под ним проклюнется жучок.
Да мне-то что с того. Я девка молодая.
Грести не трудно мне, я много песен знаю,
И в радость говорить мне с ветром полевым,
И пением своим перекликаться с ним.
Так долго плыли мы. Когда гляжу, о горе,
Наш маленький поток преобразился в море.
И странно – ни травы вокруг и ни кустов,
Ни леса не видать, ни даже берегов.
А на воде кругом змеиные сплетенья –
Встревоженных ветвей мятущиеся тени.
Но звучен шелест, ранний день безбрежен,
И веют запахи черёмух и черешен.
* * *
Резьбой побегов молодых
Сад оживает по весне.
Наплыло облако. Пчела
Тебе упала на рукав,
И рад ты, будто бы дитя,
Её глазам, пушку её,
Малиновой её перге.
Душисты полдни молодым,
Душисты, солнечны уста.
За невесомой тёплой мглой
Пророкотал весёлый гром.
Пчела взлетела. Блеск и тень.
Душисты, солнечны уста,
Ласкают вёсны молодых.
21.ІІІ.1933
Непогода
Из-за старого сарая
Смутно дождик повела,
На орех, орех волошский
Влажной мутью налегла,
Опечалила долину,
Притуманила лесок
И в ведерко зажурчала,
Словно в дудку пастушок.
И уже искала места,
Чтоб, свернувшись, на сухом
В тишине предаться дрёме
Под жасминовым кустом,
Как тут солнце из-за гая
Прикатилося назад,
Будто бы ручным ягнёнком,
Просияв, вбежало в сад.
23.IX.1934 – 1939
* * *
В ярком круге электрическом
Снег вечерний ровно падает,
Убеляет шубку девушки,
Что читает объявление.
А вокруг, по тёмным улицам,
Сани быстро мчатся с дребезгом.
Пролетел снежок напористо
И разбился под штакетником.
Я иду, смотрю и слушаю,
Сколько лет свидетель миру я,
А волнует меня молодость,
Снег и над оврагом будочка.
Добрый вечер, древо тихое!
Знаешь ли о том, что снег идёт,
Что земля лежит белым-бела,
Вся полотнами застелена?
Дерево молчит, не думает,
Даже дребезга не слушает.
Вновь перед афишей девушка
В ярком круге электрическом.
То ль я сбился и назад пришёл,
То ли место заколдовано,
Как на карусельном конике,
Незаметно обернулося?
1935
* * *
Где ни глянь, всё твоей бороздой
Разукрашены тропки в лесу.
Славно свил ты песчаный узор,
Рукодельник, чертёнок песка.
Густо лунок вокруг навертел –
Разгадай-ка твои пути.
И в какой из ямок засел
Ты, жучок, никак не найти.
Горе только, что враг глазаст.
Зыркнет искоса с верхних ветвей –
И царапают лёгкий след
Десять жадных его когтей.
Бедный чёртик! Одна печаль –
Твоей премудрости плод!
Умрёшь – и завеют ветра
Твой запутанный ход.
14.V.1929
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Так плывём мы от Пантикапея...
К Юрзуфу
Восемь метров культурного слоя -
чернолаков, мозаик, костей.
Над Боспором, над пеплом-золою
Митридат окликает гостей.
Миф о городе полнит легенда,
будто некогда в нём ночевал
юный Пушкин, ключом кватроченто
подпружинивая мадригал.
Обещавший жениться влюблённый
не оставит о Керчи замет,
по волне ярко-сине-зелёной
поспешив на гурзуфский обед.
Но все почвы речистого слоя
и все взмахи волошских ветвей
мне нашепчут про юность героя
и про игры таврийских кровей.
Я и сам до античного зелья,
до багряного хмеля охоч.
Сам отдам молодому веселью
под аттическим парусом ночь.
Так плывём мы от Пантикапея,
Александр, на одном корабле.
до Юрзуфа. И Кассиопея
чертит в небе, что стужам борея
не гулять по счастливой земле.
2015
Так я меж вами живу...
Сегодня, 8 октября, исполняется 130 лет со дня рождения
украинского поэта Владимира Свидзинского.
Публикую здесь отрывок из предисловия к книге моих переводов его стихов на русский язык и несколько стихотворений В.Свидзинского разных лет.
О поэте Владимире Свидзинском
Над тенетами жизни моя душа,
огненная птица, летящая в бесконечности…
Шри Чинмой
Владимир Свидзинский - редкостный поэт. Лучше сказать, уникальный. Поэт, который воистину «засветился сам от себя.» И это ощутит каждый человек, способный чувствовать поэзию, прочитав его стихи, казалось бы, навсегда потерянные после жестокого уничтожения автора, стихи не приходившие к читателям более шестидесяти долгих лет.
Родился Владимир Свидзинский в семье священника, в священническом на протяжении ряда поколений роду на Подолье в 1885 году. Закончил духовную семинарию, в дальнейшем получил ещё два высших образования - в Киевском коммерческом институте и в Каменец-Подольском университете на историко-филологическом факультете. В 1916-1918 был на фронтах Первой мировой. При новом режиме работал архивариусом и вел научную работу, обучаясь в аспирантуре, публикуя научные статьи, там же в Каменце-Подольском вплоть до 1925 года.
С 1925-го и вплоть до трагической гибели в 1941 году местом его обитания, средой и антисредой его творчества, его трудов ради скудного хлеба насущного на непрерывно сменяющихся редакторских должностях был столичный тогда Харьков.
При жизни поэт издал три книги стихотворений: «Лирические стихи» (1922, Каменец-Подольский), «Вересень»(1927, Харьков), «Стихи»(1940, Львов). Эти сборники, разумеется, сразу же были объявлены официозной критикой совершенно не нужными пролетариату и чуждыми по всем признакам стране великих строек. Вневременная интонация лирики Свидзинского совершенно не вписывалась в барабанный треск почти всего, что выходило тогда из-под пера верноподданных литераторов. По определению профессора Юрия Лавриненко, составителя антологии «Расстрелянное возрождение», если годы до 27-го были для Свидзинского годами относительного молчания, то время после 27-го стало уже временем абсолютного молчания. Хотя именно в последние годы жизни внутренняя творческая работа поэта была особенно интенсивной.
Много и продуктивно переводил Свидзинский на украинский классику мировой поэзии с древнегреческого, латинского, древнерусского (Аристофан, Овидий, Гесиод, «Слово о полку Игореве»), переводил с французского, испанского, польского, грузинского и армянского языков.
Осенью 1941 года, когда немецкие войска приближались к Харькову, НКВД судорожно бросало в свои тюремные подвалы ещё не эвакуированных жителей города, и в первую очередь, людей из среды украинской интеллигенции. Дочь Свидзинского Мирослава, которую он растил один после смерти жены от тифа в дни Голодомора в 1933 году, всячески оттягивала отъезд из Харькова. Причина была серьёзной - Мирослава, влюбленная в местного учителя, никак не хотела с ним расставаться. У отца уже был эвакуационный талон в Актюбинск, а дочь такую бумагу всё ещё не получила. В конце сентября 1941 поэт Владимир Свидзинский был арестован – «чёрный ворон» чекистов среди бела дня увёз его из съёмного домишки на улице Лютовской на окраинной Новосёловке.
Вместе с другими обречёнными арестантами конвой погнал его 15 ноября на восток от Харькова. Скорее всего, ещё при выходе из города конвоирам от властных упырей НКВД поступила команда всех «ликвидироват»ь. Знающие люди говорили мне, что это называлось в те дни эвакуацией «по первой категории». Официально тогда, объявили о угрозе окружения немцами. В селе Непокрытое Волчанского района под Харьковом, неподалёку от известного исторического раскопа Салтов, четыре сотни арестованных затолкали в заброшенный деревянный коровник, заперли двери и, облив стены бензином, подожгли с четырёх сторон. Всех запертых в строении людей заживо сожгли.
То был день 18 октября 1941 года - страшный, но такой обыкновенный в своей подлости и жестокости, на фоне всего происходившего в последние десятилетия на Украине. Вся страна тогда была одной сплошной улицей Лютовской, или точнее, одной бесчеловечной Лютовской державой. И каждый без исключения из миллионов украинцев подлежал, рано или поздно, так или иначе, обработке «по первой категории».
Казалось, что большая часть неопубликованных стихотворений Свидзинского, подготовленных им в виде двух больших рукописей перед самой войной, навсегда утрачены. Однако небольшой круг людей, ясно видевших во Владимире Свидзинском поэта мирового масштаба (М.Свидзинская, А.Чернышов, Э.Соловей, О.Веретенченко, Я.Славутич), сумели сохранить и вернуть читателям его поэзию.
В 2004 году, вслед за рядом локальных изданий 61-го, 75-го, 86-го годов, в Киеве, в издательстве «Критика», вышел большой двухтомник Владимира Свидзинского «Твори»(«Произведения»), подготовленный Элеонорой Соловей. Это издание позволяет сегодня по достоинству оценить творческий масштаб поэта, неповторимую индивидуальность и светоносность его лирического мира.
В своё время к более пристальному прочтению Владимира Свидзинского меня подтолкнули две строки его стихотворения «У гробі сонце. Дерево замовкло…», подсказанные цитатой из статьи о нём другого страстотерпца, харьковчанина Васыля Борового.
Хорошо зная поэта и катаржанина, человека редкого мужества, Васыля Борового и лишь немного разминувшись во времени с Владимиром Свидзинским, я держу их сегодня обоих возле самого сердца и с искренней благодарностью обращаюсь к ним в строках своей книги «Свет безымянный»:
* * *
Памяти В.Свидзинского
и В.Борового
«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...
Воистину, как произнесено было когда-то о Гёльдерлине, и о поэте Владимире Свидзинском можно сказать, что его «породили испытания и поцеловала речь». И в контексте длящейся ещё и по сей день беспощадной истории его родины, его Украины, эти испытания наполняются и отсвечивают особым трагизмом. А этот «поцелуй речи» в стихах подолянского Орфея и слобожанского великомученника ощущается сегодня особенно солнечным и животворным.
Сергей Шелковый
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Усталый, спелый, на холмы склонившись,
День спал и спал.
Казалось, никогда
Не проплывут глубины голубые
Над нивами. Ленивый, беззаботный,
И я прилёг, отдавшись власти сна.
Проснулся – день мой полноцветный, где ты?
Мгла тонкая с востока протянулась.
Двумя крылами обнимая поле.
В могиле солнце. Дерево замолкло,
И, пойманные в чашечках тюльпанов
Холодной мглою, занемели пчёлы,
Что славили так звонко дня рожденье.
1929
* * *
Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.
Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.
И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.
Вот добежала – ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.
* * *
Как хочется уйти мне от себя,
От всех воспоминаний и желаний...
На берегу морском находят дети
Сияющие камешки – вдруг я
Найду себе другой характер где-то
И стану новым – беззаботным, властным,
Вальяжным и уверенным в себе.
Или купаться буду – и к ноге
Щербатая горошинка прибьётся.
Я проглочу её и стану враз
В посёлке южном рыбаком. И буду
Грести на лодке, невода плести
И часто ночевать на тёплом море.
И плыть домой, как только в гривы туч
Вплетутся розовеющие пряди.
Потом на кухне, у стола присев,
Смотреть, как мать умело чистит рыбу,
Как чешуя, вспорхнув из-под ножа,
Ей к пальчикам шершавым прилипает.
Угольщик
Распродал чёрный уголь, сам весь чёрный,
Поужинал, купив вина и хлеба,
Да и на воз дощатый свой склонился.
А конь его, неспешно оглядевшись,
Бурьян пожухлый стал щипать губами
Поедет в полночь. Не близка дорога.
Низины и в тумане камыши,
А вслед – холмов бело-песчаных рёбра.
Сквозь даль молочный запах конопли.
И ночь, и одиночество – протяжны.
К рассвету переедет через дамбу
И всколыхнёт под ветками проулка
Стоячее и душное тепло.
И тихо фыркнет конь, засовы грюкнут,
И вспыхнет от порога: «Это ты?»
1928
* * *
Марийкою и Стефцею их звали,
Как островок горошка голубого
На поле жита, так они цвели,
Свои девичьи овевая дни
Красой печальных песен Украины.
И вот я вновь в своём родном селе.
Село моё, что сделалось с тобою?
Померкло ты, завяло, потемнело.
Лежишь у яра, и осенний лист
Тебя, как гриб забытый, засыпает.
Марийки нету. Синева очей
И нежность её юного чела
Затенены косынкою простою,
И быстрота упругих крепких рук –
Погасло всё, засыпалось землёю.
А Стефцю видел я. Совсем бледна,
Бессильно у груди дитя держала
И говорила: «Гляньте на него -
Оно краснеет, будто та калина.
Неужто так ему Господь даёт?
Ведь это ж, послезавтра будет месяц,
Как в доме нет и малой корки хлеба».
Заплакала, к ребёнку наклоняясь.
* * *
Снилось мне –
Сердце моё стало,
Пришли люди –
Душистым дымом окурили,
золотой сеткой оплели.
А потом прилетел быстрый чернокрыл,
Тело моё взял
И в своё жилище унёс,
А его жилище острые горы,
Глубокие провалы, тёмные пороги.
Там-то он сел –
Закричал:
«Хоть какой ты ни был
Пылкий и отважный –
Всему миру под стать!
А теперь ты мой.
Могучие руки поотрываю,
Охотничьи очи повыпиваю,
Ибо мой же ты, мой!»
И отозвались горы – твой!
Глубокие провалы – твой!
Тёмные пороги – твой!
1926
* * *
Спало всё. И месяц-свет погас.
Лишь мерцала тихо звёзд канва.
Снились мне в таинственный тот час
Непорочной ясности слова.
Пахло слово, как трава бурьян,
А второе – яблоком в саду.
И одно звучало, как орган,
А второе кликало дуду.
И от удивленья я затих,
Как легко приходит радость слов.
Был бы в поле я средь колосков,
Дал бы имя каждому из них.
1937
* * *
Был я и в южном краю, где шумит эвкалипт серебристый,
Плеск виноцветного моря меня обнимал,
Мрак полуночных лесов наполнял меня сладкою грустью,
Видел я в синей дали абрисы снежных вершин,
Но не нашёл я милей, чем отечество, края:
Небо моей Украины – радость нетленным очам.
В школу
Плоское и тёмное в туман
Поплыло неспешно по реке.
Замерли и стены на песке.
И корявых улиц вражий стан.
Кони сонно хрупают овёс,
Змей зарю на взлёте пересёк.
Мать в испуге: «Жив ли, не замёрз,
Мой сынок?»
Будет грустно. Будут дни длинны.
Тёмный змей, да ты смешон чуток:
Где-то, посреди чужой страны,
Сказочный твой теремок
Тёмная
Старая, старенькая,
Босые, потресканные ноги,
В одной руке клюка.
В другой лукошко.
Прислонилась лицом к церковной стене
И словно замерла.
Тёмная. Ни синего неба,
Ни свежей листвы не видит.
Обняв её прохладною тенью,
Шепчет над ней душистая липа.
Жара. Полдень гомонит, щебечет, поёт...
В саду над верхушками деревьев
Пронзительно каркают вороны.
Сладко пахнут акации белые.
Пошла...
Я знаю её бедное жилище:
Длинное, узкое подворье.
Развалюха-дом в глубине,
А с краю дома – её мазанка.
крыша прогнила, погнулись стены,
Скоро повалится совсем...
Как пахнут акации белые!.
* * *
Настанет день мой печальный -
Отлечу, оторвусь от живого костра,
Что так высоко взметнул,
Так расцветил чудесно
Свой певчий, порывистый огонь.
И погаснешь для меня
Ты, страстный мир,
Ненаглядный мир,
Бурливый, пьянящий.
Не буду как лист древесный,
Ни как травинка, лишённая слова,
А буду как сонный гранит
Над гомоном вод неуёмных.
Замкнусь в молчании тяжком,
Сольюсь с невыразимой мыслью
В огромном всём...
Буду как сонный гранит.
* * *
О. С-кому
Мы в ночь вошли. Заря не светит нам.
Наш день умолк. И, двери отворя,
Склоняется над нами смерть. А там,
С востока, снова светится заря.
Пусть те рассветы молодым горят,
Как прежде нам. А мы – добыча тьмы.
И вспомним на прощание, мой брат,
Как золотились мы.
* * *
Ещё цветок огнистый, осень
качает сломанным стеблем,
Ещё не разорвало ветром
Влажного тепла.
И руки у тебя ещё теплы,
Когда мы сходимся под вечер
И шершавый осокорь
Ржаво над нами скрипит.
1928
* * *
Уже ни словом, ни песней, ни блеском глаз не увлеку
Юного сердца. Но есть у меня доня, мой росток нежный,
Будет любить меня и вечернего. Буду ей милым
Даже тогда, когда затихну под глыбами смертной ночи.
1932
* * *
Так я меж вами живу, одинок в своих тайных раздумьях.
Словно тот клён, что на торжище вырос случайно.
Почками ль снова обмётан, листву ли роняет кроваво,
В шуме толпы хлопотливой никто его не замечает.
1924
* * *
Где-то дождь идёт –
Не смолкают голоса кукушек.
Снова ли мальчик я?
Так хочу дотянуться рукой до гнезда.
Где молния лежит,
Словно укутанная шерстью змея.
Где-то дождь идёт.
* * *
– Грустно, тоскливо. Во мне всё завяло, как эта вот ветка –
Так ты сказала и к мёртвой листве прикоснулась рукою.
Месяцы, годы пройдут. Но останется мне до кончины
Каждый засохший листок твоим колким укором.
* * *
Пух золотистой вербы, как снег, разлетелся по свету.
Брызнуло буйным дождём – и стало тепло прибывать.
Высох у берега ил, острова затянулись травою,
Следом неспешных перловиц донный расчерчен песок.
Входит рыбак босиком в речку, чтоб невод забросить.
С криками мальчики шустро роятся у дамбы весь день,
Голые, в воду въезжают верхом – и фыркают кони,
Морды наверх задирая и воздух ноздрями ловя.
Хмелем повеяло с юга, издали громы пугают…
Пух золотистой вербы, как снег, разлетелся по свету.
* * *
Беспечно под луной мы спелый май вдыхаем,
Поём, и голос твой в ночи волнует сад.
А может, в этот час под диким Чёрным гаем
Ворожьи скакуны копытами стучат.
И завтра на заре, под хмурых туч грядою,
Разбудишь криком ты пустынные поля.
И буду я лежать, растоптанный ордою,
И на золе руин застынет кровь моя.
* * *
Тени протяжно легли, но вверху, на ветвях, – ещё солнце.
Жёлтые гривы тай-зелья ясней выделяются в травах.
Ясени тихо стоят, и на пасеке мёдом запахло.
Реет черлян-мотылёк. То присядет на цвет бузиновый,
Крылья расправив, то, цокнув на взмахе, взлетает.
Мир возле дома, покой, воркованье доносится с крыши.
Тени протяжно легли, но всё держатся ветки за солнце.
1928
* * *
В пламени был первородно,
И в пламя вернусь я снова….
И, как тот уголь в горне
Исчезает в бурном горенье,
Так разомчат, разметают
Солнечные вихри блестящими прядями
Сожженное тело моё.
И там, неведающий, неведомый,
Мириадами бездумных частиц
Встречусь снова с тобою,
Когда-то – подобно мне – живою.
Мириадами бездумных частиц
С рассыпанной пылью пылинки земной.
И не поведает нам, не скажет ничто,
Как во времени бездонном,
В мире пропавшем,
Два листка на одном дереве,
Мы сблизились когда-то,
И зачарованным взором узрели
Цвет огневой цвет над собою,
И расцвели в его свете ласковом,
И невольники воли его
Так безумно, так ьрепетно
Порывалсь сердцем к сердцу.
Не поведает нам, не скажет ничто
* * *
Весь день в июльской сини лоно
Гляжу я, распахнув окно, –
Там над горячей кроной клёна
Туч серебрится полотно.
И мотылёк, хмельной от зноя,
Летит над тыном на поля,
И кажется мне, что земля –
Дитя, покинутое мною.
* * *
Рано проснусь и на солнечный полдень окно отворяю.
Улицу сонную тени домов покрывают. За нею
Солнце на насыпи жёлтой уже осветило репей.
В комнате тихо. Читаю один и пишу у стола.
Время идёт незаметно. Вот дочка моя пробудилась,
Лепетом милым наполнила дом и во двор выбегает.
Вновь возвращается, в лёгких кудряшках приносит
Запахи раннего ветра и отблески раннего солнца.
Нет, то задумался я. Моя девочка в городе дальнем.
В комнате тихо моей – и никто меня не окликает.
1930
* * *
Тёмную осеннюю фиалку дала ты мне на прощанье.
В книге засохла она. Только запах остался.
Чтобы в разлуке с тобой вспоминал я в слякотный вечер
Смех беззаботный ребёнка и слёзы твои без упрёка.
* * *
Запах мёда и горький дым
Над садом вечерним.
Паровозы криком тормошат тишину.
Пианино печаль свою
Кладёт слоями на травы, на ветки.
Я сижу, сторонясь закатного золота,
Я вспоминаю о тебе, как дерево о юге,
Мне хочется концом луча
Написать возле себя на песке:
«Люблю без мечты».
1932
* * *
Мы уже почти дошли до дома,
Когда вдруг сказал мне на ходу ты:
«Мне здесь рядом кладбище знакомо,
Так давай зайдём на две минуты».
Я кивнул. И мы вошли в ворота,
Там дерев раскидистых когорта
Сонно нам кивала. И, в печали,
Нас ряды надгробий привечали.
Сели рядом мы за поворотом.
Ты курил, молчал, дышал надсадно.
Было тихо. Лишь пунктирным кодом
Бил кузнечик – сухо, остро, складно.
Ты сказал: «А хорошо здесь всё же,
По дороге от вокзала к дому
Я люблю бывать здесь. И похоже,
Душно нынче. Жди под вечер грома».
Солнце село. Вея неизвестным,
Надвигались тучи тяжко, криво.
Поднялись мы. Рядом с этим местом
Ты лежишь теперь под тенью ивы.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Я лишь окликну Джотто, Тосканино...
Джотто мио
Меж сыром Лимбурга и ломтем камамбера
бутылка "Кьянти", башнею Пизанской
чуть наклонясь, являет совершенство
пропорций, линий, облико морале
и тонкости зелёного стекла.
С усов матроса капелька стекла -
соратника по дальним перегонам...
Что тут скрывать? Уже давно влюблённо
и верно припадаем мы к багряным
кровям Тосканы или же Абруццо -
к бастардам италийского бельканто,
рождённым от сиятельного солнца
и глупо-доброй плоти сельских лоз...
Вот так в лице, чей грубо сломан нос,
в жестоко-дерзком фейсе калабрийском,
сквозь чернь и синь разбойничьих щетин,
вдруг вспыхивает признак благородства,
почти нездешний ракурс-озаренье:
то крепким подбородком Сан-Франческо,
то Цезаря надбровною дугой -
обводом, увенчавшим все проёмы
романские - в базиликах и арках,
в подобных Апеннинам виадуках,
в глазницах замков на верхушках скал...
Чего же ты в Этрурии искал,
что стала почвой двух тысячелетий?
В сегодняшней Тоскане золотой!
Удачливы ль узорчатые сети?
Постой, молчи, не надо слов! Постой! -
Я лишь окликну Джотто, Тосканино, -
кого ещё скликать на именнины,
увы, не приложу пока ума...
Светлей мосты и вдоль реки дома -
бон джорно, Джотто мио, Божье сердце!
Взгляни, о Соле: на холсте Фьоренцы
с индиго смешан золотистый цвет...
И как залог того, что смерти нет,
живородящий Брунеллески купол
сияет терракотовым яйцом.
И время - нет, не падальщик, не жупел,
но - воин с человеческим лицом,
свиданья стерегущий под часами...
Рассвет твой, Джотто, тёплыми глазами
вливается в воронки мёртвых глаз,
и вот я,- Лазарь, - оживу сейчас,
дабы позвать тебя на день рожденья...
И ты придёшь - без тени снисхожденья -
понеже целят в яблоко одно
два взора, два собрата-паладина,
и два Господних сердца - воедино! -
струят вдоль жил фамильное вино.
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я -
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся стотысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, - волею высшею, -
что ни март – колокольни стройней!
Над охрой глин агава голубая...
1. Мать-Луна
Над охрой глин агава голубая
с гирляндой колокольчатых цветков. -
От сочной плоти шкуру отдирая,
ацтек-целитель круглый год готов
из мякоти агав намять текилы
и терпкий обжигающий нектар
впустить в истосковавшиеся жилы
и в душу взять как Тоацины дар.
О, Мать-Луна, священная лягушка,
сглотнувшая из оксидана нож!
Плесни и мне текилы четверть кружки
и на четыре сна меня умножь!
Где базилика Гваделупской Девы
стоит на месте храма Тоацин,
там пьёт корнями каменное древо
подземную руду моих седин.
О, сны Луны, видения без края!
Мы пьём, и с нами третий - дон Хуан.
И в темноте свирепого раздрая
сияет с неба, жертву выбирая,
беременной богини оксидан.
2. Язык
Цветком ацтека, жарким чернобривцем,
с клинка кровищу стёр Эрнан Кортес.
Огонь и дым вздымались до небес,
и кто убит был сталью, стал счастливцем,
поскольку всех оставшихся до тла,
горячечной заразой инфлюенцы,
в мученьях умертвили силы зла,
одетые в кирасы ополченцы -
шестёрки длинномордых королей,
вмурованных в дворцовый мрак Мадрида...
Когда соврёт их рот змеиный "vida",
что значит "жизнь", названьям кораблей -
не доверяй! Но псы бродячей смерти,
прикрытые обманкою креста,
в насилье утвердились неспроста:
cквозь Монтесумы мёртвые уста
язык торчит испанский... Еrgo, верьте -
богам угодна звука чистота.
От земли до небес...
Ореховый год
Абрикосами тешил июль. А теперь - и каштанов,
и орехов немерено, в тёплом конце сентября.
Дунет северный ветер, предвестник осенних буянов,
и посыплются грецкие цацки, пожива зверья.
Острозубый грызун золотую пропилит скорлупку,
и крикливая сойка с добычею в клюве вспорхнёт.
И синеет вино призового сентябрьского кубка,
и пирует весь месяц мышиный и птичий народ.
В одичавшем саду самосевом, то бишь самосадом,
эти кроны волошского дара взошли, поднялись.
Дань в корзину кладу я, и чадо моё дышит рядом,
и спокойна и ласкова Отчего замысла высь.
Абрикосовый ливень ореховым хрустом продлится,
и пространство наполнится запахом пряной листвы.
Белка низом мелькнёт, а верхами - цветастая птица,
и лимонные кроны вздохнут, словно сонные львы.
Будет длиться сентябрь, так сиянием солнца пронизан,
что покажется жизнь бесконечной и полной чудес.
И ореховый год будет веять летучим анисом
от земли до небес.
О Международной Славянской Поэтической Премии
О Международной Славянской
Поэтической Премии
(предисловие к итоговому сборнику МСПП-2014)
Первый конкурс Международной Славянской Поэтической (МСПП-2013) премии не прошёл незамеченным и получил позитивный общественный отклик – литературные сетевые порталы Украины и России, Болгарии и Сербии поместили на своих страницах как информацию о конкурсе и его лауреатах, так и отклики на выход в свет итогового поэтического сборника МСПП-2013.
Ярко-синяя обложка сборника с красно-белыми узорами традиционной славянской вышивки засветилась и на софийском сайте «Литературен свят» и на белградском ресурсе «Заветине». Заинтересованно откликнулся на ход конкурса и целый ряд украинских и российских сайтов.
Одной из основных задач конкурса является, конечно, моральная и материальная поддержка молодых одарённых литераторов различных славянских языков. Хороший пример реализации этой поддержки показал, в частности, лауреат второй премии МСПП-2013 россиянин Максим Бессонов, использовав полученную премиальную сумму по прямому назначению и издав на эти средства свой второй поэтический сборник. Так что его восклицание при вручении премии «О, как вовремя, как раз кстати для новой книги!» не осталось только лишь минутным выплеском эмоций, но озвучило по сути реальный творческий план.
Вышел новый поэтический сборник «Абрикоси Донбасу» и у первого призёра МСПП-2013 Любови Якимчук, вышла книга её украинских стихов, изданная львовским издательством «Видавництво Старого Лева». В ней – стихи о родной автору украинской донбасской земле, о жестоких человеческих испытаниях последних двух лет, о горьком привкусе сегодняшних плодов шахтёрского края.
Что же касается моральной поддержки, общественного признания творчества молодых, то это признание поднималось порой в русле нашего конкурса на весьма высокий уровень. Вручая третий приз МСПП-2013 в Софии молодой болгарской поэтессе, я стал свидетелем того, как перед заполненным праздничной публикой концертным залом Центра Культуры на улице Шипки было зачитано приветственное письмо министра культуры Болгарии нашему призёру Лоре Динковой, имениннице этого творческого вечера.
И в целом литературное действо этого тёплого софийского вечера 10 июня 2014 года удалось во всех отношениях. Слушатели в зале, коллеги Лоры Динковой по университету, поэты и филологи, художники и музыканты, радушно принимали каждое выступление, независимо от того, звучало ли оно по-болгарски, по-украински или по-русски.
На трёх окликающих друг друга языках читали читали стихи и юный лауреат конкурса, и члены жюри МСПП – болгарский поэт Красимир Георгиев в перекличке с автором этих строк. Приветственные спитчи ещё нескольких литераторов и филологов из Софии перемежались пассажами фортепианной классики. Атмосфера вечера, без всяких преувеличений, установилась живительной и дружественной, воистину вдохновенной.
Щедрый софийский вечер за окнами дышал нагретыми за день акациями и платанами. Было немного жаль, что и эта добрая встреча завершилась, и слегка досадно, что уже завтра ждал меня обратный путь из Софии – через Велико Тырново и Пловдив в Созополь и в аэропорт Бургаса. Но и то – слава Богу: новые стихи о Тырново и Пловдиве, о Софии и Созополе появятся уже в том же июне – как дань признательности гостеприимной Болгарии – стране полной южного солнечного колорита и говорящей на таком узнаваемом, воистину братском, языке.
Во втором конкурсе МСПП-2014 приняли участие молодые поэты из Украины, России, Казахстана, Латвии, Молдовы. Международное жюри конкурса, расширившее свой прошлогодний состав, – Виктр Бойко, Игорь Лосиевский, Константин Савельев, глава жюри Сергей Шелковый (все – Украина), Олег Комков (РФ), Красимир Георгиев (Болгария), Казимеж Бурнат (Польша), Владимир Ягличич (Сербия), – присудило первое и второе места молодым украинским поэтам Антонине Тимченко и Анастасии Перевозник.
Третьим лауреатом стал пишущий на русском языке поэт из Молдовы, кишинёвец Леонид Поторак, получающий ныне образование в Пражском университете в Чехии. Так же, кстати, как и участница МСПП-2013 харьковчанка Светлана Фёдорова, которая завершает сейчас своё обучение в аспирантуре университета старинного чешско-моравского города Брно.
Немалые новые возможности предоставляет молодёжи то обстоятельство, что нынешние границы государств в Европе, да и во всём мире, становятся всё прозрачнее. Человеческие отношения всё уверенней и плодотворней работают в режиме взаимодействия, интеллектуального взаимообогащения. И по замыслу организаторов нашего творческого конкурса Международной Славянской Поэтической премии этот проект призван следовать тому же вектору.
Вслед за тремя лауреатами конкурса дипломантами МСПП-2014 по решению Международного жюри стали Кирилл Алейников (РФ), Татьяна Иванова, Олег Коцарев, Юлия Максимейко, Наталья Пасичник, Алексей Юрин (Украина). Все они награждаются дипломами и публикациями их произведений в итоговом поэтическом сборнике МСПП-2014.
Подобно тому, как проницательный мистер Холмс по одной случайно обронённой реснице неизменно разгадывал все замыслы профессора Мориарти, истинный читатель поэзии может угадать и по немногим поэтическим строкам важные достоинства человека пишущего, скажем смелее – мыслепоющего. Дадим же здесь краткое слова каждому из трёх наших новых поэтов-лауреатов.
Вот, например, философские раздумья Антонины Тимченко о времени, об истории, глубинные и щедро-образные:
Уривки слів про тіні у степу,
про сутінки, що наставати сміють,
про саламандру, наче Соломію,
гнучку. Про силу споришевих пут.
Застуджений цвіркун. Камінний сон.
Кармічний шлях. Кармінний подих тиші.
Оторопіння на землі і вище.
Швидкої смерті степове ласо. ..
А вот и нежный лирический голос Анастасии Перевозник, в котором едва ли не основная интонация – ощущение того, что «дорога та зветься любов…»:
Ти слідами моїми не йди. То дорога не та.
То дорога у гори, в ліси, ув озера глибокі.
Пересохли вуста
у розп’ятого вчора Христа.
Зазирає у душу тривога всевидящим оком.
Ти слідами моїми не йди. Я й сама не дійду –
манівцями блудитиму в звивистих лініях долі.
Так, уламки минулого важко звести до ладу,
як сльозу не спинити, що котиться вниз мимоволі…
И наконец, несколько строк совсем ещё юного поэта, пражского студента из Кишинёва Анатолия Поторака, лишённых по молодёжной джинсовой моде каких-либо знаков препинания, но сохраняющих верность главному – первородной музыкальной основе поэзии:
Ах какие струны звучат низами
Как легко скрипач отдает поклон
Если кто когда и придет за нами
Хорошо бы он…
Надеюсь, что пока что за всеми нами, и молодыми участниками конкурса, и его организаторами, придёт Третий конкурс МСПП-2015. Впрочем, придёт он, если мы общими усилиями сумеем вывести его на свет Божий. В сегодняшних сложнейших политических и экономических условиях на Украине организация подобного конкурса требует немалых усилий.
И вот сейчас, слава Богу, выходит в свет этот новый поэтический сборник по итогам Второго конкурса. Появляются в нём новые поэтические имена, звучит на его страницах украинская и русская, болгарская, польская и сербская речь. Конкретное дело, несущее человеческий и общекультурный позитив, не стоит на месте.
И потому скажем друг другу снова, уже на третьем витке нашего творческого замысла о поэзии без границ: «До встречи в декабре, в день рождения странника, поэта и философа Григория Сковороды, на празднике поэзии, на вечере чествования новых молодых лауреатов Международной Славянской Поэтической Премии».
2015
------
Напоминаем также, что продолжается приём рукописей
для участия в 3-м конкурсе МСПП-2015
* * *
ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ АВТОРОВ - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТРЕТЬЕМ КОНКУРСЕ "МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ"
П О Л О Ж Е Н И Е
о «Международной Славянской Поэтической премии»
1. « Международная Славянская Поэтическая премия» учреждается Харьковской Областной Организацией Национального Союза Писателей Украины, ХОО Национального Фонда Культуры Украины, Государственной Научной Библиотекой им. В.Г. Короленко и объединением предприятий «Корпорация Гидроэлекс» для поддержки и поощрения литературного творчества молодых поэтов, в возрасте до 35 лет.
2. Творческим девизом и критериями оценки «Международной Славянской литературной премии» являются:
гуманизм, духовность, гармония:
интеллектуальный и эстетический поиск в поэзии;
взаимодействие и взаимное обогащение культурных пространств.
3. Жюри Премии принимает для рассмотрения конкурсные поэтические подборки из 5 стихотворений от авторов поэтических книг или объёмных публикаций в журналах, альманахах, сборниках, опубликованных в течение последних трех лет. Конкурсные подборки могут быть написаны на одном из славянских языков:
белорусском, болгарском, боснийском, македонском, польском, русском, сербском, словацком, словенском, украинском, хорватском, черногорском, чешском. При этом возраст претендентов на премию на момент предоставления конкурсной подборки не должен превышать 35 лет. Страна проживания конкурсанта может быть любой.
4. Стихотворения претендентов на «Международную Славянскую Поэтическую премию» присылаются в жюри Премии в электронном виде по адресу slavicprize@mail.ru с приложением PDF-файла, подтверждающего ІSBN и общий вид поэтического сборника, журнала или альманаха с публикациями конкурсанта. Прилагаются также основные сведения о конкурсанте.
5. 5 стихотворений подборки, представленной на соискание Премии, должны сопровождаться подстрочниками на русском или украинском языках, если они не написаны по-русски или по-украински.
6. Приём материалов на соискание Премии начинается 6 июня и завершается 15 ноября. Объявление результатов – 3 декабря,в день рождения выдающегося украинского философа и поэта Г.С. Сковороды.
7.Лауреаты Третьего Конкурса «Международной Славянской поэтической премии» награждаются:
1-е место – публикация в сборнике лауреатов МСПП до 40 произведений, вручение 40 экз. книги.
2-е место – публикация в сборнике лауреатов МСПП до 30 произведений, вручение 30 экз. книги.
3-е место – публикация в сборнике лауреатов МСПП до 20 произведений, вручение 20 экз. книги
8. Предусмотрено также определение, помимо лауреатов, и дипломантов конкурса «Международной Славянской Поэтической премии».
9. В жюри конкурса «Международной Славянской Поэтической премии» входят:
Шелковый Сергей (Украина) – поэт, прозаик, критик, лауреат литературных премий, председатель жюри.
Бойко Виктор (Украина) – поэт, лауреат литературных премий.
Бурнат Казимеж (Польша) – поэт, переводчик, лауреат литературных премий.
Георгиев Красимир (Болгария) - поэт, прозаик, переводчик, лауреат литературных премий.
Комков Олег (Российская Федерация) – поэт, переводчик, критик, доцент МГУ.
Лосиевский Игорь (Украина) – поэт, критик, лауреат литературных премий, доктор филологии.
Савельев Константин (Украина) – поэт, заслуженный работник промышленности Украины.
Ягличич Владимир (Сербия) – поэт, прозаик, переводчик, критик, лауреат литературных премий.
Золотистый мой ретривер...
Приплод
Потроха крошит на ливер
Ванька Каин, кат и вор.
Золотистый мой ретривер,
кареглазый лабрадор!
Снова весь в грязи правитель -
власть взыскует подлецов.
Спит в ночном снегу обитель,
скит смиренников-отцов.
Ирод хмель глотает жарко,
тащит гущу черпаком.
Сядем рядышком, овчарка,
Лада с чёрным чепраком!
Сядем в закуте родильном,
где зрачки твоих щенят
выплеском любвеобильным
души нам разбередят…
Снова люд секут на ливер
вседержавные ножи,
чистит Ванька царский кивер –
весь в крови, во рже, во лжи.
Чёрное не станет белым,
как ни плюй на кобеля…
Засыпает под прицелом
Божьим - грешная земля.
Любит Бог простых и чистых
чад. А умников – не злых.
На губах его не высох
детства влажно-млечный стих.
И, приплоду как подарку
радуясь, ведёт Он в дом
золотистую овчарку
с полнозрелым животом.
2015
Щедрый дар - ни о чём не жалеть...
1.
Щедрый дар - ни о чём не жалеть,
доживая последнюю треть.
И, светясь сквозь былое едва,
зажигать, словно свечки, слова.
Вспоминать, как когда-то была
дочь, малиновка-птичка, мала,
как сияли навстречу глаза -
образа, небеса, чудеса...
Золотой одуванчик-цветок,
белый, средь сизарей, голубок.
Невесомое счастья в руках,
тень улыбки Отца в облаках.
Поздний дар - истончение чар.
Имя - нежность, ребёнка загар.
Невесомости не прекословь:
время - позднее, слово - любовь...
2.
Мой львёнок, цвет золотогривый,
дыханье августовских дней,
где полдни спелы, словно сливы,
где щедрость мира всё ясней!
Мой первенец, глядящий зыбко,
одетый в сонные шелка,
повитый отчею улыбкой
и женским счастьем молока!
Ты слышишь - в полночь кружит небо
зверей огнистых карусель,
раскачивая с львиной негой
судьбу, планету, колыбель?..
3.
Сизифов зимний день втащу под крышу,
всё той же вечной лестницей взойдя. –
Но не ропщу, ведь я за дверью слышу
твой голос, ясноглазое дитя!
Войду – и мне в прихожей улыбнутся
два сброшенных, два красных сапожка.
И милосердно губ моих коснутся –
судьбы дыханье и твоя рука...
Ветер полночи, веющий с моря...
* * *
Ветер полночи, веющий с моря,
ласков, словно в фате Фатима.
Чёрно-звёздный простор априори
входит в сердце и сводит с ума.
Нежит бриз опьянённую сушу,
камни, пристани, лозы любя.
И в глаза, и в бессмертную душу
бесконечность целует тебя.
Вдоль дрожащих огней побережий
льётся музыки дальней тоска.
И, моряк ли ты, путник ли пеший,
ту же коду услышь у виска,
ту же страсть: "Ни за что не избуду
эти вещие росчерки звёзд,
эти ночи, причастные чуду,
этой Млечности взмах-амплитуду -
по-над вечностью выгнутый мост..."
Коктебельская
бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной! -
Темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи - роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись - прощаться рано.
Кто слышит Зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна -
до римских львов, до львиных пирамид!
И вот храню фамильную икону...
Икона
Восьмое августа, день Моисея Угра,
святого Киево-Печерской Лавры.
Ей Богу, мне вовек не перечесть
всех здешних неустанных богомольцев,
не счесть их жёлтых черепов усохших,
костей берцовых, что томятся в нишах,
в пещерах-норах
мощных глин днепровских -
в глубинах-толщах поднебесных круч.
Нет, преподобных всех я не упомню,
но Моисей-чернец мне кровно ближе,
чем сто фигур в угрюмых балахонах,
чем рать печерских иноков-отцов.
Ведь сорок лет икона страстотерпца,
что вывез я из прадедова дома,
из Краматорска,
с пыльной Красной Пушки, -
так улица звалась вблизи базара, -
на книжной полке у меня стоит.
В футляре деревянном застеклённом
пятифигурный образ всё мерцает
непотускневшей двухсотлетней краской:
Спаситель наш
в одеждах белоснежных,
в тревожно-алом Николай Угодник
и рядом с ним Григорий Богослов.
А в паре с Иоанном Златоустом,
по левую от Иисуса руку –
подвижник Моисей Угрин, одетый
в скудельную хламиду чернеца.
И вот храню фамильную икону,
свидетельство двух яростных столетий,
безмолвное послание от предков,
где различимо имя – Моисей.
Прапрадед мой был Моисеем назван,
а прадед Иоанном был, и сына
крестил в Иваны – деда моего,
того, что, окликая нежно «Ванчик»,
любил живым я и теперь люблю...
В стране Иванов, о родстве забывших,
как выжить? Но своих я верно помню -
Василия, Петра и Константина.
А память о библейском Моисее,
что вывел из египетского плена
народ свой через долгую пустыню,
мне душу всё острее бередит!
Ведь ныне нам так нестерпимо нужен
вождь, осенённый мудростью и силой,
теперь, когда над первородной Русью
сгустилась смертоносная беда!
Где ты, великий сердцем? И когда
взметённые по-над челом скрижали
о жертвенник дороги разобьёшь?
Не сорок сроков-сороков печали,
не сорок лет – четыре века ждёшь...
Над озёрной тишиной былинной...
Осенние эскизы
1.
ПахнУло льдом. В осенних листьях -
плодов казнимых голоса.
Хозяйка для кадушек чистых
крошит капусты телеса.
Сквозь тучи драгоценно-кратко
пробьётся свет на полчаса...
В медовом падалиц остатке -
заледеневшая оса.
2.
Сельский двор,
полный солнечных бликов!
Твои колеры так лихи -
красногривы средь жёлтых тыкв
тёмно-рыжие петухи.
3.
За осененье, Милосердец,
спасибо, и за осень в срок!
За то, что однодневный месяц,
повизгивает, как щенок,
в холодном небе - накануне
посеребренья ноября,
за то, что луж фольга не втуне
хрустит, литой каблук бодря!
4.
Листья уйдут, обнажая избыток пространства.
Воздух запахнет предсмертным намёком на водку.
С трассы увидишь всё там же, как знак постоянства,
олово озера и одинокую лодку -
не доезжая Воронежа, между холмами.
Может, и впрямь о Тоскане тоскуют пейзажи.
Листья уходят, вздыхая о дружбе домами,
о краснояблочной, взятой в рогожу, поклаже.
5.
Над водой закатной, густо-чайной,
над озёрной тишиной былинной -
чайка, уронившая случайно
крика серебристую пылинку...
Кликнет ветер попутною песней...
Вослед
Жизнь твоя - всё запутанней, всё интересней:
сорок рек переплыв, сорок строк ты обетом связал.
Поезд тронется в путь, кликнет ветер попутною песней,
если, мимо базара, успеешь с утра на вокзал.
Вот он снова, Гезлёв, - караимы, татарские хаты,
минареты мечети, кенассы в узорной резьбе.
Ноты моря легки. Тяжелы откровения брата,
а тем паче, что тень его льнёт неустанно к тебе.
Ты простишь ему всё, ибо вскоре любовница-водка
уведёт его спешно в пределы легчайших миров,
где на чёрной воде багрянеет Харонова лодка,
где на стон, как на чих, отвечает гребец: "Будь здоров!"
"Будь здоров, звуколюб, стихотворец, собой упоённый! -
говоришь ты вослед - Что разлука? Она - лишь на миг..."
И сгущается вечер, дурманный, насквозь беззаконный,
и дробится над чёрной волной полнолуния блик...
2015
Пусть дышат три цветка...
Львовские встречи
1. Каменотёс
Лычаковский погост,
вельможный Львов.
Средь разогретой зелени июля
белеет известняк резных надгробий.
И над плитой Франко
каменотёс
вознёс над головой тяжёлый молот
и, напрягая мускулистый торс,
навек фигурно замер…
И доныне
не расколол скалу он, что нависла
над прошлым,
что над будущим довлеет, -
пока её в себе мы затаили,
довлеет надо всем…
2. Три цветка
На Городоцкой улице во Львове
в строенье 50, в квартире тётки,
вмиг промелькнула Игоря-Богдана
Антоныча рифмованная жизнь.
И в двадцать семь Господь забрал на небо
волшебного певца, Орфея-лемка,
от пагубы ордынского погрома
отцовской грудью чадо защитив –
как раз в канун второй нешадной бойни
подлейшего, похоже, из веков…
На Городоцкой улице, ведущей
из Львова в Городок, когда-то Градец,
вдоль стреловидной готики Эльжбеты,
вдоль линии трамвая на вокзал…
В том Городке я знал ещё когда-то
поэта, поцелованного Богом,
который мог лишь постоянством боли,
лишь ежедневным окликаньем смерти
ответить небу…
Так же, в двадцать семь,
остановилась жизнь Георга Тракля,
что в моцартовом Зальцбурге родился,
что разом чеха, венгра и германца
в речь и отраву киновари-крови
вместил,
что умер в санитарной роте
от кокаина, белого, как ангел,
от чёрных гроздей трупов пехотинцев –
в четырнадцатом гнилостном году…
В том самом Городке, к самоубийству
он и пришёл.
Вороньим карком Краков
встречал его, дабы уже постфактум
внести в реестр осенних мертвецов.
Не дрогнул над могилою лицом
безглазый вяз, задубеневший в лубе…
О трижды трижды три, о, тройка в кубе,
с фатальной подоплёкою число!
Оно ведь и Лермонта повело
в печёринскую вздорную минуту
с приятелем Мартыновым стреляться
в погибельной тени горы Машук.
А здесь, где палисад на Городоцкой,
целует розу изумрудный жук.
Любуюсь этим существом нездешним –
а он, смарагд-пришлец, ещё и рвётся
в июльское тепло небес лететь.
Смотрю и ощущаю без сомненья,
что есть ещё на свете чудеса.
И вот три свежесрезанные розы
в холодную живительную воду
в стекло поставлю – три пунцовых солнца,
тревожные, как образы у Тракля,
и нежные, как Игоря печаль…
Пусть дышат три цветка, три совершенства,
три невесомых и нездешних сердца
ещё день, два – самих себя живей…
Достигнут ли гармонии сложений ...
Романс
Всего лишь натюрморт - из луковки инжира
и книжицы стихов в тисненье золотом:
на столике кафе, посередине мира, -
чета простых вещей. Спасибо и на том!
Спасибо за узор прижмуренного солнца,
за полчаса пешком по склону сентября,
за то, что из окна гитары и червонцы
звенят и ворожат: "Сарэ, сарэ патря..."
Как будто - длится день, когда ты тоже пела
романс "Сарэ патря", и колоколец твой
вплетался в магнетизм сияющего тела...
Был ангел смугло-юн, был Амадей живой.
Лиловой смоквы плод подброшу на ладони,
а книжку дочитать не каждому дано.
По воздуху плывёт, в осеннем камертоне,
кленовый самогон, правдивое вино...
* * *
Не Яблочный, пока ещё Медовый,
день Маковея, Спаса на воде
окликну я с утра считалкой новой,
и свистнет дрозд "Семь сорок" в резеде.
Опять пою и вряд ли уповаю.
Но всё ж услышь меня, по крови брат, -
несущий вдоль по лету, вдоль по раю
плоды и грозди, августовский сад!
Достигнут ли гармонии сложений
три скинии медовобоких груш,
пять маков Кастанедовых видений,
семь ароматов лепестковых душ?
"Есть "всяких", золотой, и "всяких" надо!" -
твердила, трижды десять лет назад,
цыганка Рада, жинка конокрада,
сияя ядом чернослива-взгляда...
И от меня не отводила взгляд.
Монгольфьеры, свежи и доподлинны,...
* * *
1.
Пёс - твой восторженный бред бери,
школьник, влюбившийся в Брэдбери!
Ночи твои, словно конники,
сквозь "Марсианские хроники"
мчат по магическим россказням...
А спозаранку - хоть поползнем -
сызнова в школу. И вот оно -
будни, набычившись вкопанно,
целят в зрачки марсианские,
дабы мечты твои царские
бились реально, без роздыха
за привилегию воздуха!
Бились, чтоб в зелени, в темпере
из одуванчиков Брэдбери
бражка пилась бы счастливая
под слобожанскою ивою...
Вызреют синие венчики,
скрипку настроят кузнечики -
памяти долгой хранители,
инопланетные жители.
Брэдбери с летом венчается,
мёд горьковатый качается.
Реет над звёздными сотами
Рэй, не летун самолётами...
2.
Полдень. Дрожащие веерно крылья.
Горизонтальный сапфировый хвост.
Над первобытным лугов изобильем,
словно гипноз, – трепетанье стрекоз.
Плавность пришельца в летательном жесте.
Вот, к лепесткам наклоняясь едва,
в зное стеклянном застыли на месте
внегалактические существа.
Кто-то у линз Андромеды туманной,
губы кусая, завидует мне. –
Пенью лесной приозёрной поляны,
лепету летних малиновых дней…
3.
Оттолкнувшись от места и времени,
поднимается ввысь монгольфьер -
без обиды, вины и без бремени
мнимых чисел и звуков-химер.
Приближается к облаку белому
полный крепкого воздуха шар.
И тебе, загорелому, смелому,
машет снизу рукой Буссенар.
И выходит, что лётчику-отроку
с капитаном Сорви-головой -
он оставил по свежему оклику
над колючей склерозной травой.
Чтоб пробиться с оранжевым знаменем
сквозь барханы и зыби песков,
чтоб прижучить винчестера пламенем
чуингамы полков-чужаков...
Справедливость отваги и странствия,
амперметром искрящийся Верн -
вот все признаки Божия царствия,
где не нужен у власти экстерн.
Монгольфьеры, свежи и доподлинны,
прорастут над монголом земли. -
Лётным шаром, смородиной родины,
золотистой корзиной рули!
Печалиться ли о закате лета?..
Над морем
Печалиться ли о закате лета?
Благодарить ли за рассвет его?
В стрекозах, лепестках, прожилках света,
он ушло, – не живо, не мертво, –
и увело в нездешние пределы
все южного уклона поезда...
А так стрижи звенели в небе смело!
Так нежили касатки провода,
нарисовавшись музыкальной фразой
на нотных строчках в летней синеве!
А мы с тобой июньской ранней трассой
по штрих-пунктиру, по кайме-канве
в «Рено» наёмном от Бургаса мчали
туда, где, словно день – не год! – назад,
нас парусники ждали на причале,
где цвёл у виллы «Рози» лилий сад.
Созвездия над морем – «всюду те же...»
Полна огней созопольская ночь,
и бриз понтийский, праздничный и свежий,
тоску предсмертья выдувает прочь
из трудно зимовавшего сознанья...
Вот склянки с красным в полночи опять
звенят над мысом в молодильной пране,
мерцает вечность в радужном стакане...
И плыть дано, не озираясь вспять.
2015
У кришталеве скло, в холодну воду...
Лвівські зустрічі
1.Три квітки
На Городоцькій вулиці
у Львові,
в будинку 50, гніздечку тітки,
вмить проминуло Ігора-Богдана
Антонича римоване життя.
У двадцять сім Господь узяв до себе
зненацька того лемка чарівного,
співочого карпатського Орфея,
немов від кулі близького ординця
дитину прикриваючи грудьми, –
напередодні другої вже бійні
найзлішого, здається, зі століть…
На Городоцькій вулиці,
що з Львова
до міста Городок веде повз башти
помпезного святилища Ельжбети
та повз вокзал, високий, мов вокал…
У тому ж Городку іще одного
поета, – поцілованого Богом,
мов у хвилину відчаю та болю, –
я знав колись.
Також у двадцять сім
скінчилося життя Георга Тракля, –
що з моцартова Зальцбургу походив,
вмістивши чеха, німця та мадьяра
у кіновар отруєної крові, –
скінчилося при санітарній роті
від білого, мов янгол, кокаїну
та трупів чотирнадцятого року
у найчорнішім, певне, зі століть…
Отут, у Городку, на себе руки
він і наклав, і карком круку Краків
його зустрів потім, щоб вже постфактум
чорнилами вписати у мерці.
Ні осінь не змінилася в лиці,
ні копачі могили, змерзлі й грубі…
О, тричі й тричі трійка, три у кубі! –
Як мовлять зараз, знакове число.
Воно колись й Лермонта повело
з’ясовувать з Мартиновим стосунки,
ще за часів царя-панька Миколи,
попід горою синьою Машук…
А тут, де палісад на Городоцькій,
вино з троянди п’є яскравий жук,
тут, де плекає літо свої квіти.
Дивлюсь на незбагнене це створіння
а він, смарагд-прибулець, ще й злітає
в липневе і таке безкрає небо!
Дивлюсь і відчуваю, що напевне
живуть іще дива на цій землі.
Отож три свіжозрізані троянди
у кришталеве скло, в холодну воду
поставлю я сьогодні – три червоні,
тривожні, мов метафори у Тракля,
три запашні, як Ігора пісні.
Хай дихають три досконалі квітки,
три невагомих потойбічних серця
ще день чи два – приречені й живі…
2.Каменяр
Личаківський
ясновельможний цвинтар,
Львів.
Під теплим віттям
у блакиті липня
біліють саркофагів вапняки.
Тож тут за спину каменяр Франка
заніс свій молот і напружив м’язи
та і завмер фігурно… –
Ще і досі
не гупнув по тій скелі, що тяжіє,
допоки мі її в собі втаїли,
тяжіє над усім…
И осени яснейшая осанна...
* * *
Так выдумано правильно и странно:
прохладой выпит за ночь летний зной.
И осени яснейшая осанна
витает над скудельностью земной
беззвучно. Ибо сущность - бессловесна.
Живущий - Сетью.ру не уловим.
Ещё светла небесной сини бездна,
пока спешит сквозь осень пилигрим
к усыпанному листьями порогу,
к жилью, где в окна плещет окоём,
к родным, уже глядящим в очи Богу,
спешит, спешит - и солон в горле ком...
Перед осенью
Витает хмель плодов падучих
меж яблонь в воздухе садов,
и тащит сеть линей дремучих
из сонных вызревших прудов.
Средь осоки, в прибрежной жиже,
рыбацкий чавкает сапог,
у самых ног в испуге дышит
зеркальный тяжеленный бок.
И одноглазый, как Кутузов,
мужик, кирпичный, словно мавр,
легко швыряет рыбин в кузов,
хватая их под щёки жабр.
А грузовик, по брови пыльный,
кляня колдобины дорог,
увозит на горбу обильный,
пропахший озером, оброк.
И едешь, стоя у кабины,
заросшей просекой лесной,
листву орешин и крушины
чуть задевая головой.
И, выехав из тени к свету,
на спелые холмы глядишь
и чуешь: тёплый лепет лета
уже таит раздумья тишь...
И буерака зелень-просинь
ещё свежа, но за холмом,
вдали, уже взмахнула осень
атласным лисьим рукавом!
Чумацьким Шляхом...
Пам’ять
І ось, коли ізнов настане червень.
гойднусь на південь, мов Дніпро та Волга,
немов стрімка ватага козаків
із буйними бунчужними чубами,
із битими шаблюкою чолами,
з пурпурним майорінням бунчуків…
Що кров моя? – Зібрав її по краплі
з джерел солодких та гірких лиманів,
із батьківських освячених річок…
І ось тому, коли приходить червень,
гуде у спраглих жилах струмом пам’ять –
і доля на коня мене штовхає,
підпруги ремінь затягнувши вщерть.
І шаблю мені дарить Сагайдачний,
що поглядом, мов списом, в груди б’є.
І ось уздовж дуги меридіану,
у величезнім сні, все швидше й швидше,
лечу на магнетичний поклик крові –
Чумацьким Шляхом, зіллям шовковистим
на південь поспішаю із тугою,
п’янкою, що на солі та меду.
Крізь щастя-червень
та крізь смерть руду
все пам’ятаю, все.
І справді йду.
Строки
Довідники я в захваті гортаю –
фісташка та болотний кипарис
шість тисяч років справно зеленіють.
Здається, шлях мій по землі – коротший.
Коли ж втомлюся нарікать дарма,
коли змирюсь,
поставте наді мною
фісташку, тонкошкіру і тендітну
та мовчазний плечистий кипарис. –
Щоб міг я в двох знайомих іпостасях,
в двох кронах, гомінких на сході сонця,
хоч шість тисячоліть іще прожити,
з-під віття зазіхаючи на танок
лимонниці,
що ледь шість днів живе…
* * *
Горлицю, страчену січнем,
підняв зі снігу:
легка,
пір’ясто-невагома –
наче і не жила,
або ж і досі летить.
* * *
Іду вздовж моря.
Невагома тінь чайки
безшумною прохолодою
торкає плече. –
У порожнім розпеченім просторі
швидкоплинна лепта
спів-участі.
* * *
Все, що Господь послав мені,
сприймаю
як справедливість.
Все здобуто чесно –
солоним потом, думою гіркою
та вірою,
терпкою, як вино…
Все, що пізнав я,
названо давно –
коли іще й не прокидалось Слово…
А тільки ледь розплющив очі Час,
дитячі та здивовано щасливі,
на глинянім чолі…
Лада
Як добре посміхається собака,
моя вівчарка східноєвропейська!
Хоч раса ця найбільше схожа з вовком,
і морди їх – немов одне лице.
Як чесно посміхається собака,
Завжди привітна, незрадлива Лада
із чорним чепраком-сідлом на спині,
на золотавих та струнких ногах.
І як розумно дивиться собака
з рожевим язиком між білих ікол!
Довір’ям сяють бурштинові очі,
що здатні геть про все розповісти.
І свідчить погляд цей: «Я розумію
Не тільки «фас, апорт, вперед та поруч» ,
а ще багато іншого я знаю.
Та головне – я щиро вас люблю!
І знаю я, що час – жорстоко-плинний.
Триває років з десять вік собачий.
А хвору та приречену тварину
в квартирі не стерпіти хазяям.
І ось тому похмурий лікар прийде,
щоб у «зеленім вороні» казеннім
смердючу від хвороби животину
увезти - усипляти назавжди.
Як мудро те, що в школі будуть діти,
до котрих я за десять років звикла.
І ваш укол гуманний, по науці, –
звичайна річ…
Я дуже вас люблю!»
* * *
Злива липнева пройшла. –
Міцно в старому саду
лісом запахло грибним.
Мабуть, годинник живий
в вітті по зливі вмикнувсь:
падають краплі секунд
з листя, немов з жолобків.
Чути, як у чорнозем
вчавилось яблуко –
час.
И в изюмины глаз Спасу молится Стрый...
Утро Преображениия, Стрый.
Стебник, Гай на холме, а за ними и Стрый.-
Наконец-то и вызрела в мареве мрий
в городке галицийском, прогретом насквозь,
лозоходца лоза, Спаса-праздника гроздь.
Крупноплодный, дворы осветил виноград.
Что ни ягода в грозди - сестрица да брат.
Поцелуем ласкает причастья вино,
время терпкое в крепость глотка сгущено,
и губам "изабеллы" по вкусу сродни
забродившего августа-солода дни.
И когда на заре, в восемь тридцать утра,
мне язык умягчит "изабеллы" пора,
я признаюсь ещё раз себе самому,
что и сам я вот-вот провожу по уму
всё своё, что пронёс,- mecum porto,- с собой
через милость сестёр и собратьев разбой...
Но пока что, свежее, чем с грядки укроп,
греко-римский молебен мне веет на лоб.
Свята мята вплетается в мову мою,
и у белой хоругви поют, как в раю.
В разноцветных фруктовых корзинках народ
к августовскому храму надежды несёт.
Пламенеет Тарас, стынет навзничь Андрий,
и в изюмины глаз Спасу молится Стрый...
* * *
Вот и астры дед принёс с базара –
белые, лиловые цветы.
Вот и время редкостного дара –
раненной под сердце красоты.
Вот и отблеск раннего ущерба,
верный знак, что август обречён.
Затаённо стынущего нерва
еле-еле уловимый звон.
Стали мы на лето смертней за ночь,
летний воздух вытек из горсти...
Тихий деда мой, Иван Иваныч,
не грусти, мой милый, не грусти!
И не мни в руках лозу корзинки...
Разве ж новость – этот скорый суд?
Завтра снова сходим, деда, к рынку –
там сверкают склянки, миски, крынки,
там июльский шпажник продают!
Но кажется, что время ещё есть...
В Прикарпатье
"Живым" торгуют пивом в полный рост.
Хотя июль карпатский пахнет "Асти".
И бубликом вздымает бодро хвост
приветливая шавка пёстрой масти.
"Живое пиво" - самозванства муть.
А сам ты зелью рифм и тёмным винам
готов, как синей колбе, присягнуть,
заполненной золотопенным джином.
Черники дух доносится с Карпат.
То краткий зной, то проливней прохлада.
Июль искрит, но не даётся клад,
и мучит мысль, что и не надо клада.
Стихи слетают как хотят с небес -
вне зла с добром, вне подлости зарплаты.
Вздувает цены вездесущий бес,
и ты безбожно урезаешь траты.
Но кажется, что время ещё есть -
и в тишине, на музыку похожей,
и в полнозвучье, где благая весть
не топчется, как нищенка, в прихожей...
2015
Поживём чуть подольше, потерпим...
Годовщина
Хорошо, что я солнце, как тата и неню, люблю.
Обнимаю, как пращура и как златую праматерь.
Раскудрявились в августе шишки на буйном хмелю,
и парит жарко-синих небес самобранная скатерть.
И пасутся на ней жеребята, цветут облака,
и плодятся сады - то шафраном, то снежным наливом.
Хорошо, что я жив, моё солнце, доднесь. И пока
не стенаю над жизнью пустой, над собою ленивым.
"Хорошо, а не плохо!" - так Мао с небес щебетал
языком императорским, птичьим и смертолюбивым...
Снова залиты солнцем Благбаз и Пивденный вокзал,
и стригун из игривого мая становится сивым
мускулистым конём. А мускатного августа пот
пахнет пахотой тяжкой и радостью кратко-обманной.
Хорошо, цезарь мой, что надменного времени ход
над минутой любовной не властен - счастливой и странной.
Чем и вымою душу, как не искромётным дождём,
чем и высушу слёзы, как не благодатью Ярилы!
"Поживём чуть подольше,
потерпим, сынок, подождём." -
голос нени всё нежен из той, августовской, могилы...
август 2015
Тот же прежний - отрок с песней...
* * *
«Мы идём по Уругваю - пели пионеры хором
в лагере завода «Поршень» - ночь, хоть выколи глаза!»
А в пропащем Парагвае - врали «Правда» со спецкорром -
злой диктатор, карлик Стресснер по ночам рубил леса,
ром лакал, гнобил народы, ел сограждан доброй воли,
день за днём все соки-воды лил на мельницы врагов...
«Мы идём по Уругваю!» - сладко пить текилу с солью,
в поезде ползя чумазом вдоль мазутных берегов.
Здесь, в краю, где сверхсекретный ядерный бомбардировщик,
прикрывая серп и молот, серый морок бороздит,
где наряды по рубль сорок пишет хмурый нормировщик,
и закат пунктиром режет огнедышащий болид,
здесь - вовек не мытый поезд и не будут мыть, похоже.
Но вдоль радуг Уругвая держит путь мой паровоз.
В нём плыву я вдоль по сельве, по отчизне краснокожей,
тот же прежний - отрок с песней, терминатор майских гроз...
Жуки-олени
Пионерского рапорта лжегосударственный пыл.
Активистов румяных напыщенная вереница.
С кумачовою грудью плеяда наставниц-кобыл:
ноги в кедах китайских, распахнуторотые лица.
Сколь несносен я им и себе самому незнаком,
сколь убогой сумятице верных шагов непокорен!
Вскормлен жижей компотной, перловым жлобом-черпаком,
карбонарием мечен и смутою порчен под корень…
И когда нас под флаг барабанное утро ведёт,
в черепахе приблудной отрядной сгущается ужас –
под фанерною тумбочкой синей страдалица яйца кладёт,
и морщинистой шеей, и битумным панцирем тужась.
Размягчает мозги лазаретно-карболовый быт,
серебрянкой замазаны шрамы цементных горнистов.
-Оторвусь! – чем сильней их казённое тело свербит,
-Улечу! – тем натужнее взор их бараний неистов.
Убегу – за шершавым забором, в лесу, я уже не один.
Там дубовую кровь пьют жуки, рогоносцы-олени.
Атакующих лбов напряжён густо-красный хитин,
что бодает ладонь и прохладою входит в колени.
Улечу и на лагерный час, и на целую жизнь убегу –
как хмельны эти соки в кленовых и вязовых жилах!
Бык вишнёвый молчит, опьянев, - ни шу-шу, ни гу-гу…
Только я-то всё знаю о взлётных подпочвенных силах.
В стамбульском отеле за шведским столом...
Утро в Стамбуле
В стамбульском отеле за шведским столом
присядем, дружище, с тобою вдвоём -
два сивых бродяги, два тёртых бойца,
два слева направо нездешних чтеца.
Отчаянный чаячий крик поутру
нас поднял. "И жизнь всё красней на миру!" -
клянётся светило Корана в упор,
врываясь в окно через каменный двор.
Мартыны, горланя заветы отцов,
выводят на крышах горгулий-птенцов.
Распахнуты клювы голодных химер...
Вперёд, мой попутчик! Ахмед и Энвер,
свершив на румяном рассвете намаз,
Босфора сапфир и Софии алмаз
уже под лучами июня зажгли.
Вперёд, пешеход! По античной пыли,
по мраморной крошке Царьградских руин -
туда, где колдует Стамбул-Алладин.
В полёт! Я ведь помню, мой старый матрос:
в анкету твою залетев, альбатрос
оранжевым клювом стучит по корме...
Пускай торгаши и менялы к зиме
жиреют. Я лиры с Кемалем верну
базару, лишь лиру Орфея одну
себе оставляя - июньский завет,
белейший налив, амулет, пересвет,
чтоб лютня и саз и четыре струны
бузуки остались мне столь же верны,
как ветру морей с незапамятных дней
верны мореходы Улисс и Эней...
Холмами Стамбула владеют века,
и вечность, распахнута и широка,
пространству равна. Поспешим же, мой брат,
вписаться в гармонию координат!
И чашкою кофе за ранним столом
мы словно бы с чистой страницы начнём
всё то, чему сбыться и не миновать,
всё то, чему любо два сердца отдать,
чем манят Босфора и Понта ветра.
Пора, альбатрос, в поднебесье, пора!
4.08.2015
Под круглое стекло попали неба слёзы...
Илья, 2015
Под стёклышко часов забрался ливень летний,
китайский мой "Брегет" притормозил свой ход.
И время потекло, без стрелок, незаметней,
и обречённей стал стрекоз искристый лёт.
Обидно, но уже вослед июлю август
пришёл. До боли жаль мне кровный мой июль!
Темнеет ночь Ильи, и словно ранки лакмус,
заря воспалена. И держит шаг патруль.
Под круглое стекло попали неба слёзы,
шанхайский "Роллекс" враз заглох - и насовсем.
О, август, что ни год, твои метаморфозы
вращаются в кругу бездушных теорем.
Жестокосердье льва - в натуре августовской.
Зной жертвенный плывёт на минные поля.
Пятнистый камуфляж не станет чмокать соской.
И побожившись вслух Христом да светлокоской,
до осени дойдёт полвзвода Василя...
За валом вал – движенье...
Заметки из библиотеки
1.
О, стеллажи из книг вдоль стен квартиры,
заполонённой холодом пространства,
огромной, перешедшей по наследству
к точильщику пера и летописцу
от пассажиров коммунальной лодки,
заложников казённого ночлега –
от прежних обитателей ковчега,
ушедших друг за другом в лучший мир, –
от душ, неусмирённых и доныне,
витающих туманом по углам…
За храм бумажный я немного дам,
за хлам, великозвучный и блаженный,
хоть и потратил на него полжизни,
а то и больше – это, как считать…
Дурная бесконечность книжных полок. –
Кто в с ё читал! Как можно в с ё читать?
Вот, верно, посмеялся бы Конфуций,
сконфузившись во весь огромный рост.
Но мой стеллаж, как ни был бы он прост,
по факту – мудреца Кун Цзы повыше.
Три метра вертикали ДСП,
оклеенной охристо-светлой плёнкой –
с намёком на орех или на клён,
с аллюзией на древесину бука…
Любовь слепа, опять глядит: а, ну-ка,
что там на сотне скопидомских полок?
Верней – не ошибёшься! – во двухстах
заветных нишах церкви катакомбной,
пропаще-бескорыстной, гибло-честной,
навеки чуждой – модам и тусне?..
Что изнутри нас держит, что извне?
По-прежнему ли в лампах фолиантов
шуршат намёки-мотыльки Вселенной?
Что под вуалью пыли суверенной
хранит фигурок-амулетов спам?
Полвека отдал я, и вновь отдам
за то, что вряд ли буквами опишешь… –
2.
Фарфоровый медведь, с московских игрищ
на память привезённый Миша-Вася,
сплошь олимпийской – в ДУлево! – глазурью
облит – от толстых пяток до ушей,
и пятикратно окольцован прытким
месье бароном Пьером Кубертеном,
чтоб золотистый сувенирный пояс
на чреве, добродушном и всеядном,
защёлкнулся на звонких пять колец…
Медведь-Иван – дурак, ан молодец!
И что за имя славное мелькнуло
на дне – цена: четыре рэ – медвежьем!
ДулЁво или ДУлево – неважно,
не в ударенье плавающем дело,
но в кукише священном – шишкин шиш! –
но в том, что явным признаком фамильным,
родным припевом „ДУлево-ДулЁво”,
сыны великодульского народа,
давно по праву мы назвать должны
свою одну шестую пайку суши,
помноженную на чумные сны
и на холерой сгубленные души…
3.
А если в отпеванье мало толку,
об этом знает, страж соседней полки,
другой фольклорный родич, братец-волк –
уральской тонко-каслинской отливки…
Молчит, лишь пьёт зрачками спелый диск
луны, зависшей над пейзажем снежным
простецкой трёхкопеечной открытки…
Картинку, впрочем, лихо пересёк
доподлинный автограф космонавта,
размашистый, вдоль всей диагонали,
что в оны годы авиатор Волков
мне раздобыл проездом через Звёздный
как редкий, но небескорыстный, дар –
в ответ на щедрость пересадки мозга
от моего стола к столу майора,
искателя полковничьих погон…
О, времена защиты диссертаций
в трескуче-ледяном пространстве войн!
А вот и фотоснимок из журнала,
где астронавты-янки в лунном море
на „ровере” печатают узоры,
мешая спать пришельцам с Андромеды
и Келдышам всех ящиков секретных…
Но вы, служаки истуканов медных,
сержанты караула – левой, правой! –
как смели загубить вы Королёва,
заклеить марлей твёрдо-властный рот?!
Ведь он, из гиблых вырвавшись мерзлот,
смел разбудить божественного плетью
ваш окаянный обречённый быт!
Он камень сдвинул, что весь век лежит
на пыльной восьмиклинке перекрёстка…
А вы его, прогульщики-подростки,
целители со ржавыми серпами,
латали – пятьдесят на пятьдесят…
4.
Однако, не пристало ли, медбрат,
сменить мне „вы” на „мы” в последней фразе?
И я ведь на болоте, в профсоюзе,
болиголовом цвёл и тину пил,
и лепту земноводную платил,
помпейского призыва комсомолец…
Что и спасло? – Кураж сквозных околиц
и неэвклидова генома честь.
В любом раскладе хромосома есть,
свой икс иль игрек, некой искры малость,
способная влиять на суть большого…
Вот здесь, над золоченьем Льва Толстого,
виниловый, в конверте жухлом, диск
стальной иглы, как дозы, ожидает,
чтоб, с белой грудью и во фрачной паре,
опять взыграл своеутробным басом
чалдон могучий, Штоколов Бориска, –
да так, как будто на вокальном горле
сжимает пальцы пресловутый рок,
который, дело ясное, жесток,
особо же – в очерченных широтах…
Во временнЫх волнах, в круговоротах
бельканто все стираются, старея,
быть может, кроме альта Амадея.
Добавить ли Карузо в этот ряд,
Орфея и Лучано из Модены?
Как ставленникам неба, а не сцены,
двум итальянцам я – признаюсь – рад!
Орфея же – не слышал, врать не буду.
5.
О хлама храм, сей сонник, взятый в ссуду!
Стихов простенок, словарей стена,
бумажный мост меж небылью и былью,
листы, тетрадки, сшивки, письмена…
Устали бронхи кашлять книжной пылью,
и здешней молью съедено пальто
вслед рыжему треуху из ондатры. –
Но этот всхлип нервический – ничто!
А сорока веков псалмы и мантры
и прислонённый к Ясперсу Платон –
вот неба переплеск и перезвон
над вязкою, косноязычной почвой!
Я в этой школе музыки – заочно,
мякинный переросток Филиппок,
за что мне будет белка и свисток,
а на орехи – так уж это точно!
Ещё – на россыпь милой чепухи,
ещё разок взгляну: за всякой дверцей,
попутчики скитальческого сердца,
вблизи подножий книжных переплётов,
чуть вздрагивают символы предметов,
добытые за тридевять земель:
то щепка судна, севшего на мель,
то раковина, то фрагмент сосуда –
ещё глоток Эона, капля чуда –
то голубень кораллов филиппинских,
а то обломка бронзы дребедень…
Встаёт большой и полноцветный день!
И эти снимки лиц, родных и присных,
парят в таких же разноцветных снах –
свидетельства о лучших временах,
оконца дней, молитвы в обрамленье…
Есть право – выжить в кораблекрушенье!
„И впрямь за всем, за этим, дышит план,
невнятный и простой, как океан:
за вдохом вдох, за валом вал – движенье.”
Ночной его прилет по лучшей из парабол...
18 июля,
день Сергия
Под вечер зной утих. Ласкающей прохладой
повеял Сергий-дух в открытое окно.
И снова повторю: мне лишнего не надо.
Спасибо за все то, что день за днем дано.
Спасибо за слова, которые бессильны,
но кажется, вот-вот прозреньем зазвучат.
Всесильем тишины во тьме любвеобильной
был этот звучный мир без лишних слов зачат.
Влетает жук в окно и шлепается на пол,
ударившись о лоб лампады золотой.
Ночной его прилет по лучшей из парабол
так щедро вдохновлен падучею звездой.
Спасибо же за дар - дыханья год за годом,
за святость тишины, за страсти звукоряд!
Пройдет Варфоломей ночным бездонным бродом.
И отрока глаза - огромный звездный сад...
За радугу предметного письма...
Подсолнухи 21-го июля
А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
* * *
Не угасай, моя певчая странность!
Муторно было бы жить без тебя.
В жилах Бату – властолюбия данность,
мне же – мой свет, полыханье репья.
Мне – моя ересь, из полночи зовы,
шорохи веток на все голоса,
сёстры монашьи – еловые совы,
с чёрно-зелёною кровью леса…
Тени деревьев, бездетные звери
связаны тёмной порукой конца,
а человеку даётся, по вере,
вещая потусторонность лица.
Ты ведь и стеблю примятому рада,
певчая мудрость, распевная дурь…
Не угасай же, не минет награда –
глины ломоть да в полмира лазурь…
И я по зыбкому лучу...
* * *
Пока мы дышим, смерти нет.
И вслед за ней - мы живы снова
в иных слоях. Не счесть примет
мерцаний мира неземного.
И я по зыбкому лучу
вернусь к тебе, мой сын, оттуда,
зане одно сказать хочу:
"Любил, люблю и снова буду
хранить тебя, мой книгочей,
мой хрупкий, грустноокий отрок!"
Все сорок сороков свечей
зажгу я, отгоняя морок,
чтоб высветлить твои пути,
жестокосердые дороги...
До встречи, милый, не грусти,
ведь в хитро вытканной сети
и мы - бессмертны, словно боги.
Единорог
на мотив
Красимира Георгиева (Болгария)
Единорог, белоснежное диво,
встретился мне средь зелёного луга.
Ветер трепал его яркую гриву.
"Ищешь ли всё ещё верного друга?" -
строго спросил он, в глаза мои глядя,
трижды сверкнув многоточьем копытца...
Так вот, мечты и реальности ради,
братство меж нами - рифмуется, длится.
Обрушились сады Семирамиды...
* * *
Обрушились сады Семирамиды,
и рухнул наземь Родоса колосс.
Лишь вы, бессмертной Гизы пирамиды,
стоите раскалённо, в полный рост.
Сакральней и Сократа, и Айнштайна
секретный код-геном известняков.
И полную жестокосердья тайну
хранит ваш храм все 45 веков.
Давно разбит землетрясеньем в щебень
Александрийской гавани маяк.
И златокудрой Лорелеи гребень
зажал в руке, на дне реки, рыбак.
Любовь и страх, гордыня и коварство
и гиблый хаос самовластных числ
возносят ввысь и снова рушат царства,
в порочный круг поймав наивный смысл.
И будто мутно-жёлтый взор Чингиза,
поднявшего полмира на ножи,
полны угрозы жертвенники Гизы,
погосты без креста и кипариса,
пристанища субстанций без души...
* * *
Демон полдня движением страстным
отторгает скудение: «Брэк!»
Августовским оливковым маслом
протирает смарагд-оберег.
И стакан наполняя до края
неопознанным местным вином,
пьёт не в меру, не слыша, не зная
поучений – ни духом, ни сном.
Жарко-глиняный бражник зенита,
василиск, гуманоид, циклоп!
Голова твоя, Хронос, обрита
и широк вулканический лоб,
чтоб и клинопись, и пиктограммы
на упрямом вместились челе,
чтоб заветы отца Авраама
со стихом о змее и орле –
породнились с Волошинским гимном,
с ворожбой Мандельштамовых строф…
Демон зноя в язычестве дивном
воздымает излишества штоф,
чтоб опять сквозь стеклянные грани
приласкала в пространстве рука:
опасенья, снованья, гаданья
чада, зяблика и мотылька.
Цел летун-махаон! Не застрелен,
не изловлен хватательным ртом.
И лимонниц, и парусниц-фрейлин
сберегут воздуся на потом…
Что нам стоит – остаться живыми?
Надо просто с утра захотеть!
Демон Хронос – жестокое имя,
но нежна его ловчая сеть.
Вот мы, дети заветной земли...
Красимир Георгиев
(1948)
Из поэмы
"Последний болгарин"
О, Болгария - горы в лесах, кипень рек, белых хаток соцветия.
Груз руин над добром и над злом. В язвах - Книга спасения.
Рвусь всей жизнью к тебе, но дороги - длинней, чем столетия.
Половина души нашей - свет, а вторая - и грех, и смятение.
Вот мы, дети заветной земли, а над нами - мутанты-правители,
круг стервятников в жажде пожив. И всё щерятся
бесы прошлого в очи грядущему. Лику Спасителя
об Отчизне молюсь я. И знаю - по вере отмерится...
Война
Империи живут насильем и войной.
Когда воюет Савл, теряет голос Павел.
Над теми, кто убит, над паствою земной
провозглашает власть самодержавный дьявол.
Пегасом в рифму ржёт, бахвалится война
то ядерным грибом, то атомною розой.
Но поэтичных слов для смерти нет - она
написана всегда неумолимой прозой.
Над бездною войны мосты, дрожа, висят.
А власть-блудница бьёт нечистому поклоны.
И, если устремлён к погибели твой взгляд,
тебе навстречу смерть откроет взор бездонный,
и вновь пойдёт огнём на хрупкое жильё,
и в ненависть, и в месть ввергая мир без срока.
И героизма нет в костлявой - суть её
в любые времена нелепа и жестока.
Венки укроют всё - бесстрашие и страх,
фанфары прозвучат, благоговейно кратки,
над павшим и над тем, кто на семи ветрах
мешает свет и тьму в немыслимой загадке.
По ту сторону реки
Приготовься к короткому плаванью
в безмятежность, в забвения край.
На челне над космической гаванью
понесётся душа твоя в рай.
Спор со смертью - занятье пустое,
да, похоже, и времени нет.
Ни забот, ни кредитки с собою
не бери в измеренье иное,
лишь гребцу - пару медных монет.
Удары сердца
В раскалённом знойном полдне бьётся сердце, мысль вскипает.
Настигают сновиденья как предвестники беды.
И не спит ни мига совесть, и с тревогой ум взирает
На парадоксальность истин, на скудельных лет труды.
И глядим с надеждой в небо: высь – крылу земному друг ли?
Всё трудней удары сердца, строже путь день ото дня.
Но с отвагой нестинарской вновь ступаем мы на угли,
Полнясь первородной силой от золы и от огня.
Единорог
Единорог, белоснежное диво,
встретился мне средь зелёного луга.
Ветер трепал его яркую гриву.
"Ищешь ли всё ещё верного друга?" -
строго спросил он, в глаза мои глядя,
трижды сверкнув многоточьем копытца...
Так вот, мечты и реальности ради,
братство меж нами - рифмуется, длится.
Перевёл с болгарского
Сергей Шелковый
Блик солнца, как слава мирская...
* * *
Есть час, когда город просторен
в воскресные летние дни.
Июнь – это воздух «лавстори»,
Рембрандт на предплечье в тени.
На миг сквозь листву проникая,
понежась на женской руке,
блик солнца, как слава мирская,
спешит в никуда налегке…
Чтоб сквозь ледовитые зимы,
сквозь скрип задубевшей петли
смогли мы дышать. Чтоб могли мы…
Да что? – Да, хоть что-то могли!
песня на эти стихи -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/quot_est_chas_kogda_gorod_prostoren_quot/8-1-0-416
* * *
А если до июня доживал ты,
то каждым днём июньским дорожил
и чувствовал, влюбляясь, – ветер с Мальты,
акаций запах, хлопанье ветрил.
И если добредал ты до июня,
то возвращался от избытка сил
в гортанно-белый город Ла-Корунья,
где ты полдня, во сне, проездом был.
Но пуще всех – таврический посёлок,
где зреет густо-красное вино,
в тебе, июньском, ярок был и колок,
был на все сто – с тобою заодно.
Там брызги – на сандалиях подножья
вулканов и шиповниковых гор,
там просветлённый привкус Царства Божья
хранит тёмно-рубиновый кагор.
В ночь уплывала ласковая лгунья,
чуть серебрясь и «чао» говоря...
Но ты, коль добирался до июня,
уже готов был плыть до сентября.
И время - то качнётся, то замрёт...
На родине Орфея
Я снова здесь. Болгария-сестрица
сияет чернобровой красотой.
И обод водной мельницы искрится,
вращая вертел с тушей золотой.
Зенит горяч. Но тень черницы-дуды*
свивается в узорчатость шатра.
"Ни арфы, ни Орфея не избуду!" -
над бухтой эхо слышится с утра.
О, Фракия! Вслед пресным дням разлуки.
опять шипит, румянится баран
над углями, и музыка бузуки
звучит в харчевне той, где я не пьян
багряным виноградом Карнобата,
но опьянён влюблённостью в твой мир,
пространство Демокрита! Веет мята,
и пахнет вечной юностью инжир,
вдоль трещин прорастая неустанно,
вдоль жёлтых глыб известняков твоих.
Над синью волн витает первозданно
свет омофора и Орфея стих...
Мне только жаль, что раньше я уеду,
чем нагуляют смоквы спелый мёд...
А ночь свежа. Красна фланелька пледа.
И волны катят с Крита рокот: "Кредо!"
И время - то качнётся, то замрёт.
5. 07. 2015
--------
*черница, дуда - шелковица (болгарск.)
Звенели молодо трамваи...
* * *
Июль ничем не омрачая,
шли дни, прозрачны и длинны,
и снились краткими ночами
огромные цветные сны.
Звенели молодо трамваи,
и в небе окна чердаков
дробились солнцем, повторяя
спектральные обводы снов.
И липы город овевали
улыбкой непорочных уст,
и яркий рынок был завален
шарами хрусткими капуст.
Но зыбкой тенью сожаленья -
неслышно, словно тайный тать,
скользил навстречу день рожденья...
Который? И не сосчитать...
Песня на эти стихи -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/den_rozhdenija/8-1-0-419
* * *
Вплетайся, лыко, в праздничную ткань!
Не пропадать ведь жизни понапрасну...
Манит волной, дарит Тмутаракань
напутствие рыбачьему соблазну.
Хрустя ракушкой жаркой, на Азов
прийти и с леской стать на край бетона.
И в отроческий незабвенный лов
вернуться вновь, запальчиво-влюблённо.
Туда, туда, где увалень-бычок,
лобастый, как Сократ, сакральный предок,
хватает жадной пастью твой крючок,
наживку нежно-розовых креветок.
Туда, где, обожжён, как ирокез,
спешишь с куканом грузною походкой,
где спёк тебя на солнцепёке бес,
а мать гремит чугунной сковородкой
и в постном масле жарит свежину -
на тесной кухне в съёмной халабуде...
О, крошку плавника бы, хоть одну -
да снова на язык! Нет, не усну -
и соль волны, и мёд стряпни вдохну,
и весь тот день, свидетельство о чуде!
* * *
Июнь хлебать серебряною ложкой,
черпать июль - червонно-золотою.
И август пропивать не понарошку
порфирой, под завязку налитою.
О, смутного столетия отрава,
смешенье и циана, и муската!
Налево - амба, и хана - направо,
но, присягнув солнцестоянью, надо
держать удар в упор. И дню в награду,
с напором фосфорической кометы,
Рудольф Нуриев выпорхнет из сада,
где розы смяты, Рафаэли лета.
Подобно махаону, неустанно,
порхает мускул над опорной точкой.
Ласкай и ты воздушность сарафана -
лилейный хлОпок с синей оторочкой!
Где вечен дом наш, Млечен окоём...
На Босфоре
Стамбул, Стамбул! Неистребимый дух
Леванта и "великого кочевья".
Июнь горяч. Но влажен, но не сух
босфорский бриз, дыханье предвечерья.
Над бухтой загорается закат,
над Золотым пурпуроцветным Рогом.
Уходит день - никто не виноват
что трудно думать о большом, о многом.
И опустив небес багряный флаг,
Аллах уводит в Забосфорье тучи.
Да будет ночь. Да длится время так,
как выверил в Коране слог текучий.
А на рассвете муэдзина зов
от минарета Лалели-мечети
да полетит над Понтом за Азов,
туда, где мы, Мария, снова дети -
всё те же, что и много лет назад,
тропинкой между речкою и стогом
вбегающие в первородный сад
и вторящие счастью - слог за слогом.
Мы - здесь и там. И ныне, и всегда
по светлякам тропу отыщем к дому,
дабы, прочтя двойное "нет" как "да",
опять уйти к чужому окоёму.
К чужому ли? Ведь звёзды всюду - те ж,
как век назад анатолийцем спето.
И я, пока мне не прогрызли плешь,
останусь всюду преданным рассвету.
И в гуле Истанбула, видит Бог,
я чувствую себя под маком фески -
под кайфом: жив и сам я между строк,
и пережили всё Софии фрески.
Брат именам: Мария, Мириам,
сапфир-Босфор и изумруд Корана,
вновь присягну не черепкам-словам,
но амфорам, поющим первозданно.
И в Мармару столетий погрузясь,
над жёлтым камнем задержав дыханье,
прочту багрянородных смыслов вязь -
любовь, преодоление страданья.
Царь городов ли, город ли царей -
слоится образ древнего Византа.
Константинополь, в чёрном иерей,
не в силах защитить своей константы.
И вот сияет солнцем султанат,
чей ятаган алмазный столь бесстрашен,
что всё ясней: никто не виноват
в проломах стен и в обрушеньях башен...
Смиряет Смирну Мустафа Кемаль,
и чайки над Тюльпанною мечетью
кричат. И знать не знают про печаль
глазастые коричневые дети...
Брожу - и всё искрит шайтан-базар,
бессмертная религия Стамбула.
А сад-розарий свой струит нектар:
Хюррем-ханым, Мария, Мариула.
Отдать ли за босфорские глаза
Кара-Дениз и Геллеспонт впридачу?
Кальян курится - грёза-бирюза
за каждым вдохом светит всё иначе...
Но согласись, Мария: день за днём -
наплывы волн, арпеджо струн на арфе,
а вдоль Босфора мы туда плывём,
где вечен дом наш, Млечен окоём,
к смиреннице, склонённой над огнём,
к сестре с инстинктом материнским -
к Марфе...
июнь 2015
По наводке Робинзона Крузо...
* * *
Полон воздух лилий нежно-рыжих,
выплесков июльских лепестков.
Снова эта лёгкость - отсвет книжек,
отголоски белок и свистков.
По завету капитана Немо
розою ветров душа пьяна.
Млечно спеют на полях Эдема
маки, молочай и белена.
По наводке Робинзона Крузо
Пятница зовёт на уик-энд -
к солнцу Ланца, к берегу Карузо,
к белому бельканто синих лент.
Радуга над необъятным летом
альфой и омегою парит.
И наполнен воздух рыжим светом,
обольщеньем лилии-Лилит.
Нам ли, Осип, слёз живых стесняться -
радостных, отважно молодых?
Наяву, перемежаясь, снятся,
норовя местами поменяться,
селфи грешных, лики пресвятых...
Июнь ещё в цвету, в надежде...
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея, то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака. –
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, –
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но снившееся! Где ты, где ты?
* * *
Пушкин, Библия, Данте в тисненье,
Шекспир, Достоевский –
вот весь скарб, что возила с собою
Ахматова Анна.
Как по-бабьи бы ни причитала,
по-царски, по-детски –
в целом молвлено о шестикрылии
духа и сана.
Отразятся в стекле,
уходя по английскому чину:
Гумилёв, Мандельштам и опять
Гумилёв – каторжанин:
И родня по-над Горенко сгорбится –
горе, кручина,
как склонялся над звонким арапом
охрипший Державин.
К ним из списков расстрельных,
кто ряда не выдал живого:
«Пушкин, Библия, Данте…» и далее –
там же, по тексту,
вдоль того же пунктира
блаженное тянется слово –
гробовой поцелуй Магдалины,
Господней невесты…
Речь идёт о бессмертии света.
Ведь непокаянно
зверем-цезарем взыскан
кровящий доныне динарий.
Пушкин, Данте,
всея бездорожия русского Анна,
Гумилёв убиенный и Лев,
рудников пассьонарий...
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/quot_pushkin_biblija_dante_v_tisnene_quot/8-1-0-423
- песня на эти стихи
Созопольская синь-волна прозрачна...
Созополь через год
Чета щеглов, два братца Мандельштама,
звенят с утра, колышут провода.
Над вечной глиной грешника Адама
восходит дня святая простота.
Созопольская синь-волна прозрачна
и виноцветен Одиссея Понт.
Лишь издали чадит руиной мрачной,
ощерившись вдоль терриконов, фронт.
То зверь войны ползёт по Украине,
вгрызается ордынство в Перворусь.
И, взяв лишь на зубок понтийской сини,
я вновь домой к родным тревогам рвусь.
А два щегла, два Осиповых братца,
"Прощай!" мне с тех же проводов свистят,
где были рады ласточки смеяться
в созопольском июне год назад.
К Босфору ли касатки улетели,
над Мармарой ли блещет их крыло?
А я всё помню нежные их трели,
цветущего Созополя тепло.
И слышу вновь: без фальши и без спама
щебечут мне про тонкие слои,
про подоплёку многослойной драмы -
подельники напевов Мандельштама,
щеглы, солнцепоклонники мои.
17.06.15
И о наряженном в белую майку горнисте...
* * *
Бабочка, дрянь с бриллиантовой пылью на крыльях,
с годной на корм воробью лишь козявкой брюшка!
Сколько, однако ж, воспеших тебя! – Словно быль их
легче – с травою мешка...
Нежная лярва, никчемный клочок совершенства,
над броненосцем утоплым порхающий флаг...
Средь конопли озоруя, ты делишь блаженство
с парой угарных бродяг.
Всё же не вправе и я от тебя откреститься –
утро ли прежнее чту в иероглифах крыл?
День ли предчувствую тот, где полковник Синица
вместе нас пустит в распыл?
Ведь генерал Горобец, к картотеке склоняясь,
на килотоннах отчёта фиксируя взгляд,
тяжесть в груди ощущает, секретную зависть
к лёгкости малых зверят.
Лёгкость – большая метафора. От Антиоха
рифмам смеялось вослед махаона крыло.
Всё же, что врали с чугунными лицами, плохо
веку на совесть легло.
Лёгкость – последнее в этих камнях бескорыстье:
четырёхкрылый, подобный строфе, мотылёк,
крылья смежая-рифмуя, садится на листья
и о наряженном в белую майку горнисте
всё безнадёжней и, кажется, всё золотистей
вновь повторяет урок...
Перевод на болгарский
* * *
Хвъркащо нещо с брилянтни крилца – пеперуда,
с меко коремче – храна за врабци е това!
Как те възпяват! А можеш по-лесно да бъдеш
само торбичка с трева...
Призрак ефирен, ненужно парче съвършенство,
над броненосец потънал развяващ се флаг...
Посред конопа лудуваш, споделяш блаженство
с двойка бродяги в овраг.
Все пак не мога към теб да съм тягостен – мигар
утро предишно в крила-йероглифи съм взел?
Сякаш предчувствам, че скоро полковник Синигер
ще ни реди за разстрел!
Щом генералът Врабец, картотека оправил,
поглед отправя към тез килотонни лета,
тежест в гърдите усеща – секретната завист –
как се лети с лекота.
Тя, лекотата – метафора. От Антиох е
римата смях пеперуден, крилато кръжи.
Лъжат чугунени мутри, но времето после
на съвестта им тежи.
Тя, лекотата – безкористен камък на риска:
четирикрила, подобна на строфа дъга,
мята-римува крила над последните листи
и за тръбача, докарал се с тениска чиста,
по-безнадеждна изглежда и все по-златиста –
пак на урок е сега.
Перевел на болгарский
Красимир Георгиев
Звенят привольные стрижи...
* * *
Зелёной Троицы венок,
чуть вязкий привкус травной сказки.
Подковы, цокот конских ног
и чётко-бодрый стук коляски. -
Осанистая, словно лорд,
детей катает в фаэтоне
кобыла - яблоки апорт,
ранет на крутозадом фоне.
Звенят привольные стрижи,
и с каждым маем всё любимей
их ярких крыльев виражи -
ребяческие и во Имя...
Каштанов свечки отцвели,
но, кажется, слабеет жалость,
когда и флот твой на мели
и слово в междометье сжалось.
Но вновь у самых окон - гроздь
акации, невесты лета!
И значит, многое сбылось
без соучастия куплета.
Тепло. И Троицы венок
сплетается к исконным срокам.
Стрижиных крыл звенит клинок!
Бодрит стаккато конских ног,
искрит кобыла карим оком.
Перевод
на сербский язык
* * *
Зелене Тројке венчић опор
и свео укус травне сказке.
Поткове, коњских ногу топот,
куцањ кочије бодре, гласне.
Отмена као лорд, без муке
децу љуља у фаетону
кобила - носи ко јабуке
округлине на стражњем фону.
Циче обесно мале ласте,
са сваким мајем вољеније,
мајсторство јарких крила расте -
у Име - чије? У дечије...
Цваст кестена већ свећа спржи,
мање је туге, овог пута,
што плићак твоју флоту држи
и реч се стисну прекинута.
Јер опет грозд је крај прозора
акације, те диве лета!
Дакле, много се тога мора
развити и без мог куплета.
Топло је. Венац Тројке оде
ка искони, од свих путева.
Ластиних крила звецка бодеж!
Ритмови коњске ноге воде,
кобила смеђим оком сева.
Перевёл на сербский
Владимир Ягличич
И слава, и воля...
"И слава, и воля..."
(предисловие к новой книге поэтических переводов)
Книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский «Дванадесять», вышедшая в свет в 2014 году, получила, на мой взгляд, определённый читательский резонанс. Она и физически, взмахнув белобумажными крыльями, объявилась и была прочтена в Украине и России, в Болгарии и Сербии, в Польше, Молдове и Бельгии, и обрела виртуальное бытие на ряде активно работающих литературных ресурсов. Так её ярко-синяя обложка с золотистым фрагментом из Мирославова Евангелия ХII века высветилась и на софийском сайте «Литературен свят», и на белградском писательском ресурсе «Заветине», и на нескольких поэтических сайтах Украины и РФ.
Пожалуй, этот довольно активный общественный отклик на выход моей книги лишь утвердил меня в желании продолжить свою переводческую и, полагаю, не будет преувеличением сказать, культурно-просветительскую работу. И позитивные отклики читателей на мой первый сборник поэтических переводов, вышедший вослед за двумя десятками книг моих оригинальных стихотворений, только подчеркнули для меня весомность и значительность того внутреннего морального обязательства, которое не могло не возникнуть во мне при непосредственном знакомстве с трагическим, но и вдохновляющим, феноменом «Расстрелянного возрождения» украинской поэзии двадцатых-тридцатых годов минувшего века.
Для книги «Дванадесять» я перевёл с украинского языка стихотворения уничтоженных людоедским режимом: Миколы Зерова, Павла Филиповича, Евгена Плужника, Михайля Семенко, Михайла Драй-Хмары, Владимира Свидзинского, Василя Симоненко. Перевёл так же строки прошедших ад ледяных лагерей ГУЛАГа поэтов Василя Мысыка и Василя Борового. Каждый из этих людей был талантлив и значителен по-своему, каждый обозначен своим собственным неповторимым сиянием. И донести этот свет безвременно погашенных, но не сломленных, душ до новых читателей, до поколения нынешнего дня – я полагаю для себя святым и неизбежным, - и в конечном итоге почётным и радостным, - долгом.
Теперь, после ещё одного года истовой работы, нынешнее новое издание книги поэтических переводов, вдвое расширенное, я назвал в общем-то синонимично «Дванадесяти» – «Апостольское число». В этом издании к двадцати двум украинским поэтам из «Дванадесяти» я добавляю переводы стихов ещё более двадцати их соотечественников и современников – не просто единомышленников по литературному цеху, но собратьев по духу, по судьбе – судьбе подвижнической и драматической.
Здесь снова – выхваченные из жизни во цвете лет и безжалостно погубленные молохом химерной сверхидеи Олекса Влызько и Марко Вороной, Майк Йогансен и Яков Савченко, Олег Ольжич и Олена Телига, снова узники советских тюрем и лагерей Василь Боровой, Иван Вырган, Василь Мысык, Максим Рыльский, снова те, кто спасался от физической и духовной гибели в эмиграции, – Олександр Олесь, Евген Маланюк, Юрий Клён, Яр Славутич, Игорь Качуровский...
Каждый из названных здесь поэтов достоин благодарной памяти, достоин вдумчивого и проникновенного прочтения. О неповторимой судьбе каждого из них, по-Божьи, – по-хорошему и по-настощему, – должна быть написана в свой час, книга признания и признательности. Скажу здесь только несколько слов о некоторых из них.
Ну вот, в частности, неотступно возвращается ко мне во внутреннее поле зрения совершенно необычная, – одновременно и не от мира сего, и исполненнная кипения молодых жизненных сил, – фигура Олексы Влызько. Он – поэт из плеяды «Расстрелянного возрождения» украинской литературы двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Он – неутомимый романтик – и футурист, и символист, и классик одновременно, удивляющий неиссякаемой молодой энергией в своих поисках и обретениях разных поэтических пластик.
Человек, потерявший слух и речь в тринадцатилетнем возрасте после заболевания скарлатиной, но сохранивший и умноживший в своих стихах неукротимую творческую энергию, яркий и горячий порыв к новым сущностям и глубинам, к иным берегам и высотам.
Начиная с 1927 года, он успел выпустить несколько поэтических книг, горячо встреченных читателями и критикой. Его незаурядный и своеобразный дар поэта, искателя и духоброца обещал мощное развитие уже в ближайшем будущем. Но, в возрасте 26 лет, Олекса Влызько был расстрелян вместе с другими двадцатью семью украинскими писателями по ложному обвинению бесноватой бесчеловечной властью тех, «кто был ничем, а стал всем».
И предстаёт этот навсегда юный поэт в долгом ряду невинно убиенных человеческих душ не первым и далеко не последним – в скором будущем после его расстрела сатанинским сталинизмом и его верными холуями-опричниками будут погублены ещё тысячи и тысячи представителей украинской интеллигенции.
Проникновенно-правдиво писал об Олексе Влызько известный профессор-филолог Юрий Лавриненко: «В глухонемом юноше с большими круглыми глазами (он напоминал его современникам «степного ястреба», восседающего на холме с тесно сжатыми крыльями, – изолированном от звуков жизни – кипело духовное бетховенское море. Он и программное своё стихотворение назвал «Девятая симфония», открывая в нём, подобно Бетховену, человека Вселенной, универсальное сердце жизни. Поднявшись из недр украинской угнетённой провинции на эту вершину, он поднял на неё и освободительную идею своего народа – категорический императив свободы:
Но несчастней всех стран на земле – это родина, в рабстве, моя –
Пусть издохнет властитель её – никогда не склонюсь ему я.
Эти слова у Влызько произносит магометанин, возвратясь из паломничества в Мекку. Физически глухой и немой Влызько не слышал ни слов судьи, читавшего приговор, ни выстрела в свой затылок. Но он был заранее готов, предрекая свой преждевременный конец и утверждая своё «последнее решение»:
Сердце бросив в штормы и штили,
Мы в лицо плюём сатане...»
Не могу не сказать отдельно о поэте Владимире Свидзинском, несколько десятков переводов из которого я помещаю в этой книге. Всего мной переведено, – не много, не мало, – сто его стихотворений, и отдельная книга переводов В.Свидзинского на русский язык, очень надеюсь, дождётся своего часа.
Владимир Свидзинский – редкостный поэт. Лучше сказать, уникальный. Творец, который воистину «засветился сам от себя». И эту светимость ощутит каждый человек, способный чувствовать поэзию, прочитав его стихи, казалось бы, навсегда потерянные после жестокого уничтожения автора, стихи не приходившие к читателям более шестидесяти долгих лет. Вот, к примеру, несколько его поэтических строк, полных негасимого света:
Усталый, спелый, на холмы склонившись,
День спал и спал.
Казалось, никогда
Не проплывут глубины голубые
Над нивами. Ленивый, беззаботный,
И я прилёг, отдавшись власти сна.
Проснулся – день мой полноцветный, где ты?
Мгла тонкая с востока протянулась.
Двумя крылами обнимая поле.
В могиле солнце. Дерево замолкло,
И, пойманные в чашечках тюльпанов
Холодной мглою, занемели пчёлы,
Что славили так звонко дня рожденье.
Родился Владимир Свидзинский в семье священника, в священническом на протяжении ряда поколений роду на Подолье в 1885 году. Закончил духовную семинарию, в дальнейшем получил ещё два высших образования – в Киевском коммерческом институте и в Каменец-Подольском университете на историко-филологическом факультете. В 1916-1918 был на фронтах Первой мировой. При новом режиме работал архивариусом и вел научную работу, обучаясь в аспирантуре, публикуя научные статьи, там же в Каменце-Подольском до 1925 года. Начиная с 1925 и вплоть до трагической гибели в 1941 году местом его обитания, средой и антисредой его творчества, его трудов ради скудного хлеба насущного на непрерывно сменяющихся редакторских должностях был столичный тогда Харьков.
При жизни Владимир Свидзинский издал три книги стихотворений: «Лирические стихи» (1922, Каменец-Подольский), «Вересень» (1927, Харьков), «Стихи» (1940, Львов). Эти сборники, разумеется, сразу же были объявлены официозной критикой совершенно не нужными пролетариату и чуждыми по всем признакам стране великих строек. Вневременная интонация лирики Свидзинского совершенно не вписывалась в барабанный треск почти всего, что выходило тогда из-под перьев и карандашей верноподданных литераторов
В сентябре 1941 года война приближались к Харькову, и НКВД судорожно бросало в свои тюремные подвалы ещё не эвакуированных жителей города, в первую очередь, людей из среды украинской интеллигенции. Дочь Свидзинского Мирослава, которую он растил один после смерти жены от тифа в 1933 году, оттягивала, по личным романтическим причинам, отъезд из города, хотя её отцу уже был выдан эвакуационный талон в Актюбинск, обязующий его по сути выехать из Харькова.
Это затяжка с выездом и стала поводом для ареста поэта. В конце сентября 1941 года Владимир Свидзинский был схвачен смертельной хваткой «багрового мордора» – то бишь, увезён «чёрным вороном» чекистов среди бела дня из съёмного домишки на улице Лютовской на окраинной Новосёловке в погибельное, невозвратное никуда...
Вместе с другими обречёнными арестантами конвой погнал его 15 ноября на восток от Харькова. Скорее всего, ещё при выходе из города конвоирам от властных упырей НКВД поступила команда всех «ликвидировать». Знающие люди говорили мне, что это называлось в те дни эвакуацией «по первой категории». Официально тогда, объявили об угрозе окружения немцами.
В селе Непокрытое Волчанского района под Харьковом, неподалёку от известного исторического раскопа Салтов, четыре сотни арестованых затолкали в заброшенный деревянный коровник, заперли двери и, облив стены бензином, подожгли с четырёх сторон. Всех запертых в строении людей заживо сожгли. То был день 18 октября 1941 года – страшный, но такой обыкновенный в своей подлости и жестокости, на фоне всего происходившего в последние десятилетия на Украине. Вся страна тогда была одной сплошной улицей Лютовской, или точнее, одной бесчеловечной Лютовской державой. И каждый без исключения из миллионов украинцев подлежал, рано или поздно, так или иначе, обработке «по первой категории».
Казалось, что большая часть неопубликованных стихотворений Свидзинского, подготовленных им в виде двух больших рукописей перед самой войной, навсегда утрачена. Однако небольшой круг людей, ясно видевших во Владимире Свидзинском поэта мирового масштаба (М.Свидзинская, А.Чернышов, Э.Соловей, О.Веретенченко, Я.Славутич), сумели сохранить и вернуть читателям его поэзию. В 2004 году, вслед за рядом локальных изданий 61-го, 75-го, 86-го годов, в Киеве, в издательстве «Критика», вышел большой двухтомник Владимира Свидзинского «Твори» («Произведения»), подготовленный Элеонорой Соловей. Это издание позволяет сегодня по достоинству оценить творческий масштаб поэта, неповторимую индивидуальность и светоносность его лирического мира.
Хотел бы ещё раз обратиться с благодарностью к памяти поэта Василя Борового, чья проницательно выбранная цитата из Свидзинского, вовремя попавшая в моё поле зрения, раскрыла мне глаза на феноменальное творчество этого своеобразного, утончённого и обладающего магическим обаянием поэта. А слова девяностооднолетнего Василя Борового о том, что именно поэзия спасала его в течение десяти лет в ледяной преисподней имперской каторги, навсегда запали мне в душу. Эти его слова – всем правдам правда. Приведу здесь как дань признательности двум моим братьям по духу несколько своих стихотворных строк, посвящённых и Владимиру Свидзинскому, и Василю Боровому:
«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...
Воистину, как произнесено было когда-то о Гёльдерлине, и о поэте Владимире Свидзинском можно сказать, что его «породили испытания и поцеловала речь». И в контексте длящейся ещё и сегодня истории беспощадных испытаний его родины, его Украины, этот данный свыше «поцелуй речи» предстаёт ныне особенно солнечным и жизнеутверждающим, особенно смыслоносным символом.
Хочу надеяться, что внутренняя сила поэзии Владимира Свидзинского, вобравшая в себя тысячелетний духовный опыт своего талантливого народа, станет ещё одним свидетельством той самой первородной духовности и гармоничности, той богоданной мягкости и нежности и одновременно той жертвенной стойкости, которые в историческом итоге одолеют всю злобу внешних враждебных насилий, все дурные хвори внутренних измен и предательств.
Что касается современных украинских поэтов, чьё творчество тоже представлено в переводах «Апостольского числа», то скажу кратко. Почти все они являются для меня не только собеседниками на расстоянии, во взвешенных пространствах гармонических рядов. Очень важны для меня и личные, обогащённые непостредственным человеческим общением встречи с ними. Д.Павлычко и В.Затулывитер, П.Мовчан и Л.Голота, В.Моруга и В.Базилевский, П.Осадчук и И.Рымарук, Г.Литневский и В.Боровой, Я.Славутич и И.Качуровский – все они, и те, кто ушёл в лучший мир, и те, кто, слава Богу, жив и сегодня, –вспоминаются мне с тёплым чувством по рукопожатиям и дружественным беседам в Киеве, Берлине и Харькове, в Ирпене и Коктебеле.
Замечу только в завершение, что с поэтом Игорем Качуровским у меня приключилась совсем особая встреча – короткая, но имевшая разветвлённые и неожиданные продолжения. Я с ним виделся десять минут, только один раз в жизни, когда он приезжал в гости из Мюнхена в Харьков к другу своей курской юности Михаилу Ивановичу Берлову, оказавшемуся по совпадению директором моей Харьковской средней школы №9, педагогом, преподававшим мне в старших классах русский язык и литературу. Надо признаться, что тех давних дней берловской науки и архисурового директорского воспитания я по сути никогда не забывал и даже откликался на них в почти ностальгических стихах, написанных в середине восьмидесятых годов:
То были дни, когда плащи «болонья»
сверкали ослепительно престижно,
когда на школьном многотрудном троне
царил М.И., властительный булыжно.
То дни, где ботанички глаз сощурен,
и зычный голос возвещает пылко,
как чествует генетику Мичурин
отечественной грушей по затылку.
И там на полутёмной перемене
над прахом вейсманизма-морганизма
сияют чудно девичьи колени –
нежнее разложенья света призмой.
Там химией пахнёт из кабинета,
потресканным фаянсом старой ступы,
и там в подвале хлебные котлеты
по ценам удивительно доступны.
Там наши ежедневные богатства –
директорские дьявольские брови,
драчливые соперничества-братства,
престранные ревнивые любови...
И что-то зреет в отроке угрюмом –
глубинней самолюбия и блажи,
как будто лёгким рифмам, трудным думам
нагадан путь – в стокрылом экипаже.
И вот я встретил их обоих, и Качуровского, и Берлова, совершенно неожиданно в старинном особняке Харьковского отделения Союза писателей на Чернышевской улице в самом начале девяностых годов, когда я уже по двум первым поэтическим книжкам был принят в ряды этой благословенной организации. Помнится, в тот летний день на втором этаже писательского особняка М.И.Берлов, которого я уже не видел к тому времени более четверти века, окончив школу в 1965-ом году, представил меня своему другу Игорю Качуровскому, произнеся с заметной, хотя и сдержанно-неторопливой гордостью: «Это, Игорь, мой ученик Сергей Шелковый. Член Союза Писателей...»
Мы обменялись тогда с Качуровским книжками, и он подписал мне свой сборник «Свічада вічності» («Зеркала вечности»), изданный в Мюнхене в 90-ом году, который я, увы, с тех пор не могу раскопать среди тысяч печатных ценностей собственной библиотеки.
И я расстался в тот день с ними обоими ещё на 25 лет, успев даже забыть к прошлой осени точное произнесение фамилии И.Качуровского - ведь за четверть века со мной, как и со всем нашим грешным миром, чего только не произошло...
Но в сентябре прошлого 2014-го, военного и полного тревоги, года, разыскивая в книжных магазинах Харькова, - на тот момент прифронтового, без всяких преувеличений, города, - книги Владимира Свидзинского, этого несравненного украинского Рильке, сожжённого заживо нелюдями-чекистами в 1941-ом году, я наткнулся на прекрасно изданный четырёхсотстраничный том И.Качуровского «Лирика». Полистав книгу тут же, у книжных полок, и прочитав пару романтических сонетов, я и вспомнил ту нашу десятиминутную встречу четверть века назад, и с радостью понял, что передо мною стихи поэта со своей собственной темой, с неповторимым жизненным опытом, с интересным и богатым поэтическим языком.
И прийдя домой, теперь уже точно зная имя своего давнего мимолетного знакомца, я тут же прочёл в Википедии, что за десятки лет своих житейских и литературных трудов Игорь Качуровский неустанно колесил и летал по большому и разноликому миру, издавал книги поэзии и прозы и в Австрии, и в Германии, и в Аргентине, гражданином которой был более полувека, и в Украине - в самое последнее время.
Поэт, прозаик, профессор филологии, он писал стихи преимущественно на родном украинском, но и порою по-русски и по-испански. Переводил с десятков разных языков и сам был переведён на многие наречия. Прожил богатую творческую жизнь длиной в 95 лет, жизнь труженика и мыслителя, художника и романтика, странника и скитальца, и умер совсем недавно в 2013-ом году, на полтора года пережив друга своей юности Михаила Берлова.
И вот, не правда ли, высвечиваются воистину достойные наследники жизнестойкости последнего кошевого Запорожской Сечи Петра Калнышевского, брошенного царицей Екатериной в ледяную соловецкую яму и дожившего в своём узлище несдавшимся и непокорённым до 113 лет? Подобно ему не сдавались в своих трудах-борениях вплоть до почти столетнего возраста, начиная на чужбине с тяжких работ в каменоломнях и портах и неустанно в течение всей жизни создавая свои книги украинские поэты-изгнанники: Игорь Качуровский - в Аргентине и Германии, Яр Славутич - в США, Дмитро Нитченко-Чуб - в Австралии.
Да, поэт Игорь Качуровский неожиданно оказался совсем не чужим мне человеком - начав подробно читать его книгу «Лирика» я натолкнулся сначала на стихи, посвящённые памяти моего строгого школьного учителя и воспитателя, а затем и на довольно подробные воспоминания о совместной курской юности И.Качуровского и М.Берлова.
Причём мой директор школы, перед суровым норовом и пронизывающим взором которого, помнится, трепетали ученики всех классов, предстал теперь передо мной в совершенно ином, шестнадцатилетнем, облике, в своём юношеском увлечении поэзией ( их-то и было по сути на весь тогдашний Курск двое молодых, охваченных любовью к поэзии, друга...)
Да и столь колоритные воспоминания, как описания могучего боевого удара крюком снизу моего будущего школьного директора - удара от которого на вечерних курских улицах противник взлетал по диагонали чуть ли не на полметра и отлетал после этого на несколько шагов, захватили меня не только новизной и неожиданностью фактов, поднятых словно бы из глубин и моей собственной биографии, но и впечатлили чем-то близким к откровению.
Впечатлили, наверное, неподдельным удивлением перед тем, как непредсказуемо в своих поворотах и виражах время, и как легко вдруг можно вернуться из 2014-го военного года в 1940-ый предвоенный год, в юность этих двух людей, с одним из которых я был прекрасно знаком целых девять школьных лет, а со вторым, встретившись лишь однажды, продолжаю знакомство и сейчас, читая его книги, глядя его глазами на далёкие континенты и переводя его чеканные полноцветные сонеты.
И вот теперь, произнеся несколько слов лишь о трёх украинских поэтах из четырёх десятков, представленных в этой книге переводов, можно бросить некий обобщающий взгляд на их триединство. Без сомнения, взятые из трагически-оптимистического мартиролога почти наугад, они по достоинству предстают тремя символическими константами национального самосознания украинства – Влизько, Свидзинский, Качуровский. Они и сегодня, вопреки всем бесчетным историческим утратам, продолжают своё духовное бытие, свидетелствуя «и славу, и волю» своей родины – пресветлой и глубиннозвучной Руси-Украины, ещё вернее - Перворуси-Украины.
Во второй части книги «Апостольское число» наряду с прежними переводами с двенадцати славянских языков
представлены также новые переводы с белорусского языка (Марьян Дукса), с болгарского (Георгий Белев, Красимир Георгиев, Борислав Геронтиев), с македонского (Ацо Шопов), с польского (Казимеж Бурнат, Изабелла Филипяк), с сербского (Момчило Джеркович, Десанка Максимович, Владимир Ягличич), с чешского (Ярослав Сейферт).
Думаю, что будет уместно и справедливо привести здесь пару строф из стихотворения болгарского поэта Красимира Георгиева «Война», переведённого мной летом 2014 года, летом войны на Украине - войны, жестокой и меченной кровавой каиновой печатью:
Империи живут насильем и войной.
Когда воюет Савл, теряет голос Павел.
Над теми, кто убит, над паствою земной
провозглашает власть самодержавный дьявол.
Пегасом в рифму ржёт, бахвалится война
то ядерным грибом, то атомною розой.
Но поэтичных слов для смерти нет – она
написана всегда неумолимой прозой…
При том, что из стихов второго раздела книги не выбросить и подобных строк, говорящих горькую правду, я всё же назвал этот раздел переводов с наречий белорусов, болгар, боснийцев, македонцев, поляков, сербов, словаков, словенцев, хорватов, черногорцев и чехов светлой строкой из майского любовного стихотворения Ярослава Сейферта, чешского нобелиата и жизнелюба: «И нежной присяге никто не изменит из нас...» Думаю и сегодня о лучшем – о том, что духовная и речевая гармония, «слава и воля» поэтов, пишущих на разных славянских языках, - это подлинная, а не перевёрнутая реальность человеческого мира. И наверное, неслучайно, что число языков, породившее эту книгу поэтических переводов на русский, совпадает с символическим «апостольским числом».
2015
В ночь уплывала ласковая лгунья...
* * *
А если до июня доживал ты,
то каждым днём июньским дорожил
и чувствовал, влюбляясь, – ветер с Мальты,
акаций запах, хлопанье ветрил.
И если добредал ты до июня,
то возвращался от избытка сил
в гортанно-белый город Ла-Корунья,
где ты полдня, во сне, проездом был.
Но пуще всех – таврический поселок,
где зреет густо-красное вино,
в тебе, июньском, ярок был и колок,
был на все сто – с тобою заодно.
Там брызги – на сандалиях подножья
вулканов и шиповниковых гор,
там просветлённый привкус Царства Божья
хранит тёмно-рубиновый кагор.
В ночь уплывала ласковая лгунья,
чуть серебрясь и «чао» говоря...
Но ты, коль добирался до июня,
уже готов был плыть до сентября.
Plaza de Toros
Гумилёв конквистадором конкистадора нарёк –
не для жеста, пожалуй, для вольнолюбивого спора.
Так и ты бы – в крещендо быков андалузских облёк:
не в грамматику – «торо», а в полногремучее «торро»!
Вот он, бык смоляной, вылетает из красных ворот,
словно чёрт из коробки с пружиною, Зорро-задира,
и ноздрями раздутыми воздух предгибельный пьёт –
майский воздух Севильи, любовницы Гвадалквивира.
Вот он роет копытом песок, чёрный Авель, литой
из бойцовой, не помнящей братова имени, плоти...
Верхний ярус арены чадит ядовитой махрой,
и оркестр многотрубный в бравурной сливается ноте
чуть правее тебя, но всё в том же, доступном, ряду,
где курцы табака аплодируют бурно мулете –
в третьем тысячелетье, в двенадцатом кряду году,
реконкисты и Каина жертволюбивые дети.
И закланье – изысканно, и позумент золотой
облегает в обтяжку плечо и бедро матадора.
Между алой мулетой и мутно-зелёной водой
к небесам отлетает душа терминатора-торо.
И в бодрящем и праздничном рвенье триада коней –
благородные головы в бело-багряных султанах –
мигом тушу увозит... И трубы поют всё пьяней
над весенней Севильей. И длится цветение дней
Андалузии – в кодах-загадках, желанно и странно...
Над исцеляющей водой...
* * *
Лазурью, сепией, сиеной,
пещерной охрой золотой
запечатлю благословенный
Таврийский берег молодой.
Восславлю бронзовым потиром
и детям-внукам откажу
меж эллинским и скифским миром
плодоносящую межу -
полоску берега живого
меж виноградной плотью гор
и плеском вод, где, что ни слово,
то с Одиссеем разговор...
Здесь перламутровы апрели,
и амфоры на зыбком дне
столетьями семь дней в неделю -
нежны в эпикурейском сне...
Заговорённый полуостров
над исцеляющей водой,
твой кипарис, шатрово-острый -
увенчан щедрою звездой!
Ты – свиток отражённых русел,
завет, астральная печать.
И мне любви солёный узел
не развязать, не разгадать!
Коктебельская бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной -
темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи – роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись – прощаться рано.
Кто слышит зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна, -
до римских львов, до львиных пирамид!
Киммерия
Здесь волны шепчут имя Пифагора,
шуршат "Анаксимандр, аквамарин"...
Здесь нету слов для жалоб и укора,
и круг пространства-времени един.
И этот круг, живая эта сфера,
верней, взаимопроницанье сфер,
искрят то алой альфою Гомера,
то опереньем весельных галер.
Так детородно Понта колыханье,
так страстен стон волнующихся вод!
О, выслушай еще одно признанье
и продолжай свой кесарийский ход,
клочок земли с налетом перламутра,
где целый век в виду волнистых гряд
встречаю я аттическое утро
и провожаю варварский закат!
И если б каплю пурпура для тоги
сумел я здесь добыть, залетный росс,
да видят беломраморные боги -
и я свернул бы с каменной дороги,
и я бы в эту охру с хрустом врос...
В благословенный путь....
Отпевание
Памяти И.Маслова
Кормою к алтарю, к распятью левым бортом
поставят гроб-челнок, космический баркас.
И в храме отпоют напутствием негордым
тебя, кто лишь вчера светил вселенством глаз.
Да поплывёт легко сосны твоей обнова,
да молвишь ты, Иван, раб Божий, в вышине
о всех, кого любил, три Имени, три слова
и, кроткое "пока" шепнёшь чуть слышно мне...
Зане, лишь ангел-страж надломит там, где тонко,
скудельный мой сосуд, - теряя пульса суть,
и я вслед за тобой в ковчеге-плоскодонке
вдогонку поплыву в благословенный путь.
Сияет березняк на родине терновой,
и брат твой, соловей, звенит изо всех сил
о том, что ты весь век вещественное слово
искал и ведал звук, где высший отзвук жил.
О, мая кипень-цветь! Как странно вспоминать ей,
что лишь ресницы взмах - венчальных веток срок,
что, к облаку челом и шуйцею к распятью,
лёг, перед взлётом, ты в певучий свой челнок...
21.05.2015
Белое с алым, упав на гудрон..,
* * *
"Лес вырубали" - и плакал поэт
Так же вот маешься майской грозою. -
Ливни, темнея шершавой кирзою,
наземь сбивают каштановый цвет.
Так же вот время съедает глаза,
студит, весёлые в юности, громы.
К этим жестоким изломам генома,
к майским поминкам привыкнуть нельзя.
Белое с алым, упав на гудрон,
дух испускает в морщинистой луже.
Мечутся клочья предательской стужи -
мытари гиперборейских сторон.
Ветку каштана поднимешь с земли -
ветер-охальник сломал торопливо
пирамидальное Гауди диво...
Оцепенело живое огниво,
радуги-боги в слезе отцвели.
* * *
Резвый котёнок хвостом материнским играет,
сфинксу подобная, мать восседает недвижно.
Май вызревает, каштаны соцветья вздымают,
тысячеруки, как Шива, воздушны, как Кришна.
Два котофея кайфуют на тёплом асфальте,
ближе к ступеням – дворняга сосцами лоснится.
Благость, умиротворённая нота Вивальди,
дядюшки Брэма, с цветною картинкой, страница.
Дышится. Схлынул народ на воскресные дачи.
Город пустынен: деревьев шатры да собаки,
бодрые галки седые – и вряд ли иначе
явят тебе небеса чадолюбия знаки.
Так и должно быть вслед зимней апатии долгой:
щедрая манна, настой тополиной теплыни.
Нимфа к сезону плечо освежила наколкой.
Нежится сфинкс у подъезда. Три дня благостыни.
Одно пребудет в хаосе разлук...
Из новой книги
поэтических переводов
Марко Вороный, Майк Йогансен, Яков Савченко - ещё три поэта из плеяды "Расстрелянного Возрождения" украинской литературы двадцатых-тридцатых годов прошлого века.
Неоклассик, футурист, символист - все трое даровитые литераторы, искавшие свой индивидуальный поэтический язык, свои выразительные средства.
Все трое расстреляны в 37-ом году, при этом Марко Вороный, казнён вместе со своим отцом Миколой Вороным, также известным поэтом и прозаиком.
Общее число только известных, постоянно появлявшихся в печати украинских писателей, уничтоженных лишь за период первой половины тридцатых годов, составило 223 человека - по подсчётам Украинского объединения писателей "Слово".
Второй Всесоюзный съезд писателей в 1954 году не ответил ни полсловом сочувствия на обращение Объединения с публикацией этих свидетельств жестокого террора против украинской культуры.
Подобное же отношение многочисленных съездов, союзов, сообществ "инженеров человеческих душ"
ощутимо на энной части земной суши и сегодня...
Марко Вороный
(1904 – 1937)
Слово
Сгустилась ночи тёмная прохлада,
Во влажной тишине молчат сады.
И падают беззвучно в ток воды
Листвы, веков, созвездий мириады.
Шагов не услыхать во тьме глубокой,
Теряются в безмолвии следы…
Над сном отгомонившей суеты
Восходит взор Господний многоокий.
Так жизнь, словно минуту, проживём,
Калейдоскоп страстей об окоём,
Расколется, о тайну чёрной ночи.
Одно пребудет в хаосе разлук:
В час нежности распахнутые очи
И Слово, порожденье сладких мук.
1926
Видение
Я высь глядел. Воздушная струя
Ласкала золотые тучи мирно…
Вдруг показалось – в грохоте надмирном
Высь дрогнула и сотряслась земля.
Безумного огня взвилась змея,
Пылала сфера. Призраки средь жара
Дробились и опять сходились в пары…
И трескалась от зноя плоть моя.
И я увидел: шар Земли, сверкая,
Летел сквозь пламя адского раздрая
В неисчислимом множестве планет.
И всё сгорело в том огне свободы:
Лишь солнца круг глядел в немые воды,
Лишь диски лун – медяшками монет.
1926
Майк Йогансен
(1895 - 1937)
Поэзия
Мы родили с тобой столько слов!
Ими можно заселить все луны на свете.
Мы выносили столько, столько синих снов,
На всех планетах играют наши дети.
Мы с тобой переплыли все моря,
Все заливы в тихоокеане.
Месяц, оком шакальим горя,
Зыбким отблеском скользил по лиане.
Это ж мы горбились на рисовых полях,
Нас нагайками били белые люди.
Все раны мира - на твоих руках.
Все боли и гнев - я вдохнул своей грудью.
Это ж мы на последней встанем баррикаде,
Это ж ты последнего застрелишь короля -
Единенья большого всемирного ради.
И ты умрёшь, подруженька моя.
1929
* * *
Дни мои, дивные дети,
Я отдал вас вольной воле.
Вы, как вино, как ветер,
Как поезд по дикому полю.
Вон: тучи легли переспелые,
И смолкли боры покаянно.
Дни мои, первые смелые
Корабли во вражьи страны.
1921
Яков Савченко
(1890 - 1937)
* * *
В полночь он прилетит на храпящем коне
И в окно постучится железным клинком.
И последнюю сказку доскажешь ты мне,
И заплачешь тайком.
Станет ясной тебе неизбежная суть,
Что за всадник ночной восседает в седле.
Лишь зажжёшь ты свечу, освещая нам путь,
Уходящим во мгле.
И навек. Навсегда… Только миф обо мне
Схоронить, как меня, и ему не дано.
Будешь так вспоминать: прилетал на коне –
Постучался в окно...
1918
Солнце под головы
Зажжём небеса и взметнёмся душой в круговерти!
В степи разнуздаем слепого коня.
...Клокочет огонь нам – навеки поверьте!
Поёт вся земля.
Выходим босыми – и косы мы точим, –
Печаль наша, гнев – огневой стрелолёт.
...Доныне нам снится, как выгнили очи
В трясинах болот
И видим опять – площадные оравы,
Убитые дети – в железных когтях.
И кровью полощет их вечер отравы,
Хрипит на телах...
Великим, нам плакать ли плачем нелепым?
В сердцах наших тёплых – ворота векам.
Сегодня мы звёздным укроемся небом,
А солнце - под головы нам!
Перевёл с украинского
С.Шелковый
Взглянув в глаза вдове солдатской...
Вдова
Взглянув в глаза вдове солдатской,
апрель могилы отогрел.
И снова стало ей казаться,
что мир немного подобрел.
Что там, в сорок шестом, в апреле,
она, как прежде, - рядом с ним,
ушедшим на Страстной неделе
несдавшимся и молодым,
успевшим в муке госпитальной
вдохнуть последний свет весны
из глаз мальчишки, из печальной
улыбки на губах жены...
И снова солнце подсушило
бугры промокшие могил,
коснувшись вешней вещей силой
живых и тех, кто не дожил.
И над кладбищенским пригорком
лепечет первая трава.
И, наклонясь над камнем горьким,
метёт надгробие вдова...
Огня, ещё огня! - Любви надмирной!..
Из новой книги
поэтических переводов
Олекса Блызько - ещё один поэт из плеяды «Расстрелянного Возрождения» украинской литературы двадцатых-тридцатых годов прошлого века.
Неутомимый романтик - и футурист, и символист, и классик одновременно, исполненный в своих поисках и обретениях разных поэтических пластик неиссякаемой молодой энергии.
Человек, потерявший слух и речь в тринадцатилетнем возрасте после заболевания скарлатиной, но сохранивший и умноживший в своих стихах неукротимую творческую энергию, яркий и горячий порыв к новым сущностям и глубинам, к иным берегам и высотам.
Начиная с 1927 года, он успел выпустить несколько поэтических книг, горячо встреченных читателями и критикой. Его незаурядный и своеобразный дар поэта, искателя и духоброца обещал мощное развитие уже в ближайшем будущем. Но в 26 лет Олекса Блызько был расстрелян вместе с другими двадцатью семью украинскими писателями по ложному обвинению людоедской бесноватой властью.
И был он в долгом ряду невинно убиенных человеческих душ не первым и далеко не последним - в скором будущем сатанинским сталинизмом и его верными холуями-опричниками были погублены ещё тысячи и тысячи представителей украинской интеллигенции.
Проникновенно-правдиво писал об Олексе Блызько известный профессор-филолог Юрий Лавриненко: "В глухонемом юноше с большими круглыми глазами (он напоминал его современникам "степного ястреба", восседающего на холме с тесно сжатыми крыльями), - изолированном от звуков жизни - кипело духовное бетховенское море. Он и программное своё стихотворение назвал "Девятая симфония", открывая в нём, подобно Бетховену, человека Вселенной, универсальное сердце жизни. Поднявшись из недр украинской угнетённой провинции на эту вершину, он поднял на неё и освободительную идею своего народа - категорический императив свободы:
Но несчастней всех стран на земле - это родина, в рабстве, моя -
Пусть издохнет властитель её - никогда не склонюсь ему я.
Эти слова у Блызько произносит магометанин, возвратясь из паломничества в Мекку. Физически глухой и немой Блызько не слышал ни слов судьи, читавшего приговор, ни выстрела в свой затылок. Но он был заранее готов, предрекая свой преждевременный конец и утверждая своё "последнее решение":
Сердце бросив в штормы и штили,
Мы в лицо плюём сатане...
Для недавней своей книги поэтических переводов с двенадцати славянских языков «Дванадесять», вышедшей в 2014 году, я перевёл с украинского языка стихотворения уничтоженных дьявольским коммунистическим режимом поэтов: Миколы Зерова, Павла Филиповича, Евгена Плужника, Михайля Семенко, Михайла Драй-Хмары, Владимира Свидзинского, Василя Симоненко. Перевёл также строки прошедших ад ледяных лагерей ГУЛАГа поэтов Василя Мысыка и Василя Борового.
Каждый из этих людей был талантлив и значителен по-своему, каждый обозначен своим собственным неповторимым сиянием.
В новом издании книги «Апостольское число», куда вошли и переводы из Олексы Блызко, я добавляю к 22 украинским поэтам из «Дванадесяти» переводы стихов ещё двадцати их современников - собратьев не просто по литературному цеху, но по духу, по судьбе - судьбе подвижнической и трагической.
Здесь снова - выхваченные из жизни во цвете лет и безжалостно погубленные кровавым молохом Олекса Блызько и Марко Вороной, Майк Йогансен и Яков Савченко, Олег Ольжич и Олена Телига, снова узники советских тюрем и лагерей Максим Рыльский, Василь Боровой, Василь Мысык, снова те, кто спасался от физической и духовной гибели в эмиграции, - Олександр Олесь, Евген Маланюк, Юрий Клён, Яр Славутич, Игорь Качуровский...
В книге «Апостольское число» представлены также новые переводы болгарских, сербских и белорусских авторов, наряду с прежними переводами произведений поэтов, пишущих на двенадцати различных славянских языках.
Олекса Блызько
(1908 - 1934)
Девятая симфония
(монолог)
Огня, ещё огня! – Любви надмирной!
Пусть кровь вскипает в молодой груди!
Веду тебя, о, мир земной, терновый,
В объятья солнца! Птицей золотой,
С кипучей кровью, облетаю сердцем
Все сто миров – над людом простираю
Безмерность крыльев. – Пусть приходят все
Под их покров, и, если рай не сыщут,
Сольются с адом молодых объятий,
Влюблённой силы, пред которой злоба
Сгорит, распавшись в прах, и сердце зверя,
Что ненасытно выпивало кровь
Из тела брата, – рухнет и не встанет;
Не встанет и вовеки не воскреснет,
Как не воскреснет тот, кто упадёт
В пылающий огнём бездонный кратер
Вулкана грозного – как сердце человека!..
Огня, огня! – Надмирного буянья!
Любви живой, без слов пустых, избитых
Устами евнухов, устами душ,
Упрятанных в перчатки, – чтоб не видеть,
Какой там погреб смрадный и отравный.
С червями трупными, с великосветским сором,
Что берегли химерные потомки
Дегенератов с «голубою кровью», –
С надменным гербом, «украшеньем дома»
И гнилью ран под золотым плащом!..
Огня, ещё огня! – Любви надмирной!
Живой – живущим, мёртвой – мертвецам.
Любви горячей, буйной, как огонь, –
Любви волшебной всех вещей на свете,
Чтоб враз обнять все земли, люд, зверьё,
И солнцем жить, всегда лишь солнцем жить,
Чтоб добывать лишь честным потом счастье
Своим сынам и внукам, и потомкам
Далёких дней!.. Огня, огня, – любви!
Пусть кровь вскипает в жилах молодых!
Веду тебя, о, мир земной, терновый,
В объятья солнца! – И в любовь мою,
Как на огонь, кладу! Да воссияешь,
И бедняка слепого исцелишь,
И ослепишь того, кто выбрал погреб
И множит тьму!..
Любви, огня, огня!!!
1927
Порт
Умчалась кипень дня, как будто шумный катер,
За лязгами цепей угомонилась ржа,
И снова в море день упал за элеватор,
Над бортом золотым – канат из-под ножа.
О, порт вечерний мой, – закатный воздух транса,
Где мысли и душа мятутся, как Бодлер,
Где веет из-за плеч бодрящим ренессансом
И вьётся трубок дым – пахучий канупер.
Люблю твоё лицо и дремлющие стяги,
Неброский твой бетон в орнаменте аркад...
...А где-то, в тон тебе, цветут архипелаги, –
Романтика моя железных эстакад.
Химерно!? Правда!? Да!? А кто измерит норму
Изменчивых сердец, – Их юности не тронь.
Привет тебе, привет… и буре, буре, шторму!
У нас с тобою всё... за тишиной огонь.
1927
Рейс
Хохочут и свистят на палубе матросы
(Врезается в бакборт зелёный тяжкий вал),
И берег золотой вдруг падает в провал.
Команда: Поворот! – Крепите тросы!
За тучами пыхтят багрово папиросы.
В безумье шестерён ревёт машины вал.
Опять удары в киль, как бомбы... Интервал...
И воет такелаж в предчувствии угрозы.
Вода, опять вода и волны океана...
А в рубке капитан, склонясь над картой рваной:
Не мёд, не мёд – бурчит – сквозь эту тьму идти!
В скалу бы не влететь, не зацепить бы камни...
И карта, словно пух, порхает под руками,
И бьют валы опять, как гарпуны, в борты.
1930
Матросы
Закалённые солнцем, ветрами,
Одолев неизвестность миров,
Доплываем лихими путями
Под заждавшийся кров
Сердце бросив в штормы и штили,
Мы плюём в лицо сатане,
Отмеряем и тонны, и мили
По кипящей волне.
Нам оружие – кортик точёный
И нацеленный в небо бушприт.
Наше сердце – порт раскалённый,
Где цветёт антрацит.
1930
* * *
Отлетела,
вся в ландышах, Леда
в занесённые снегом гаи,
и медовым цветением лета
поцелуи не пахнут твои.
Вот начало конца,
дорогая,
равнодушная к боли чужой!
Наилучшая рана без края,
память сердца,
краплённая ржой.
1930
Перевёл с украинского
С.Шелковый
О, южный май в подкове горной...
Поликуровская горка
Прохладный май полощет фалды
хмельного ветра-босяка.
Бреду по кручам старой Ялты,
по царству пёстрого куска.
А над яйлой – свежо и пусто
молчит простора синева,
и в небе – храма Златоуста
парит сусальная глава.
Четыре золочённых свечки
над хламом хижин вознеслись.
И на любом цветном крылечке
мяучит, пузырится жизнь.
В трущобах – май. Светло и тихо.
Сиреневых глициний вязь
клубится, пенится шутихой,
вдоль стен лианами змеясь...
А под горой – свирепый рынок,
шельмец, барыга, шкуродёр,
клубничной россыпью корзинок
сверкает, как багдадский вор.
О, радужный развал базара,
торговцев алчные ряды,
развалы нежного товара
под оком Синей бороды!
О, южный май в подкове горной,
в цвету иудиных дерев!
И, с мордой царственно-притворной,
ступени стерегущий лев...
* * *
Подшит ли гурзуфским самшитом,
сиренью ли здешнею пьян,
сканирую взором промытым
размашистых гор дастархан.
Цветёт первоцвет-самобранка,
и снова – ни вычесть, ни счесть! –
целует под сердце вакханка,
веснянка – невеста и весть.
Флюидами раннего чуда
напитана майская взвесь.
И розовой веткой Иуда
ласкает прогретую жесть
на крыше белёной лачуги
над свежею синькою рам...
Я всё за бровей твоих дуги,
за радугу взора отдам!
Фонтанной пойдём, Пролетарской
вдоль пёстрых дворов, под уклон.
Ведёт башмачок твой татарский
в козырный узорный полон.
Ныряй же скорей, недотрога,
и в душу, и в звонкий карман,
пока всё не пропил Серёга,
любимец восточного бога,
дружок-караим, Дамир-хан!
Наполнись чистотой и простотой...
Максим Рыльский
(1895-1964)
Бодлер
В раю блаженных мук, там, где на стебле дивном
Губительно горят цветы-химеры зла,
Подобные очам и женским, и звериным, –
В эдеме адских грёз душа его жила.
Пугая буржуа, назваться лютым орком,
Привыкшим поедать беспомощных детей;
И упиваться мёдом тонким, горьким
Несбыточных надежд и неживых идей, –
И находить в вине замызганной таверны
Вино Причастия, святую кровь Христа…
Не эта ль жизнь его, отвратна и химерна,
Зовётся: красота?
1920
Сонет скуки и желанья
Беда, когда наскучишь сам себе.
Не горечь яда - кислота цитрины
и не оркестр в пыланье и борьбе,
а жалкий звук фальшивой мандолины.
Огонь ушёл и только дым чадит.
Остатки бури - складки жёлтой пены.
туманом едким горизонт закрыт,
а из болота - кваканья рефрены.
Хотя бы вызов гордого чела,
хотя б Кармен прельстительно прошла,
и зазвенели пьяно кастаньеты!
Хотя бы чарок иль пороков ряд,
хотя бы в золочёном перстне яд
или удар весёлого стилета!
1920
* * *
Запахла осень вялым табаком
И яблоками в воздухе туманном,
И астрами, что над песком румяным
Свежо сияют за твоим окном.
В траве кузнечик, на подпитье гном,
Всё скрипку пилит. И зачем весна нам,
Когда с годами мы мудрее станем
И тишь виски покроет серебром?
Возьми суму и дом родной покинь,
И молча пей глубин холодных синь,
На взлесьях, где медово спеют дыни!
Наполнись чистотой и простотой
И, на ковёр ступая золотой,
Забудь о башнях сумрачной гордыни.
1925
* * *
Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся любит, ей пора...
И волной зелёною вздымается
Средь весны Батыева гора.
Светят липы нежными княгинями.
Блещет в туче голубь серебром.
В синекрылом взлёте всё покинем мы.
День ещё – и в небе поплывём.
Пусть себе кружит, пускай вращается,
Хоть вокруг свечи, земля-сестра!
Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся плачет, ей пора...
1926
* * *
Распустились сады, отцвели,
Лето в мягкой постели лежит.
Тучи небо и степь облегли.
Дождь в листве, как былое, шумит.
А вчера ты мне руку дала,
Показалось мне: лилии цвет…
Минул день, я забыл твой привет.
Туча душу мою облегла.
Перевёл с украинского
С.Шелковый
Но что есть Будда? – Дерево в саду...
Оум
Ом, Оум –
Так вдохнул санскрит в латынь
оmnia - «всё мое, носимое со мною»…
А шиповник на скалах,
над морем полынь –
это оmnia полное, всеземное.
Ом, Оум –
Не просто ум, но «О, ум!»,
влившийся в окоём,
в Ойкумены душу,
ни стволу не доступный, -
с пулей «дум-дум», -
ни чему-то ещё остриём наружу.
Ом, Оум –
омеги окно, омелы кольцо.
Оникс – он, она – опаловый омут?
Очи, очнитесь:
не Ольга, не лги, лицо!
На обруче отрока
ноет очкастый овод…
Ом, Оум –
опять откровенье о том,
что дан языкам
прародительский ритм дыханья.
В них слышны с сединою ноты:
брат, вода, дом…
И верховные «до»
молодого совсем ожиданья.
* * *
Но что есть Будда? – Дерево в саду,
коль посмотреть буддийскими глазами...
В провал зимы, в безвременье уйду,
но прояснится – и под небесами,
под новым солнцепадом оживу.
И хмель травы, и детства халабуду
вдохну, рукой поглажу наяву.
И снова то же имя назову... –
Так и монах шафранный будит Будду.
Инкарнации
Мокры, как мокко, плечи и бока,
бугры спиты кулачного атлета.
Негр Холлифилд облёк себя в шелка
нежнейшего фиалкового цвета.
Когда бы я родиться чёрным мог,
я стал бы блюзам, и в печали трубы
томились бы, но в паузах меж строк
смеялись бы мелованные зубы.
Когда бы ветхий был я иудей,
я ум вложил бы в золотые слитки,
и смуглых новоявленных детей,
любил бы строго, словно Торы свитки.
Я что-то помню. Может, потому
любуюсь теми, кем уже не стану.
ведь пить вино сей жизни одному -
не по душе мне и не по уму.
А оставаться трезвым – дань обману…
Сквозь лёд проходя и зрачком прозревая...
Павло Мовчан
(1939)
* * *
Блажен, кто вдалеке от всех земных забот…
Гораций
Блажен, кто вдалеке от суетных забот
не рвёт в запале пай, кладёт краюшку в рот
и ощущает миг, протяжный, словно год,
и чует, как сквозь соль и горечь дышит мёд.
Блажен, кто все слова заветные сберёг
и радость различать сквозь все печали мог,
кто, пригубив вина прозрачного глоток,
в деснице, будто жезл, вздымает колосок.
Блажен, кто ощутит сполна движенье дней,
кому земная даль с годами лишь видней,
кто видит вопреки теснинам широчень,
предчувствуя, что плоть растает, словно тень.
Блажен, кто день за днём ведёт по пашне плуг,
кто, лемех утвердив упорной силой рук,
зерно к зерну кладёт - от щедрости своей,
чтоб не было пустым круговращенье дней
Блажен, в ком слово «хлеб» - «судьбою» прозвучит.
Родимая земля к нему благоволит:
то стелет луг к ногам, то на холмы ведёт,
то вглубь, любя, возьмёт – прочь от земных забот.
* * *
Берёз малиновый обрез
и синью оттенённый лес
да нитка тропки через поле…
А больше и не надо, доля!
Криничку разве что без дна,
глоток душистого вина,
корец зерна и горстку соли,
и песни маминой раздолье.
Весенний всплеск и жменю будней
да ворона средь стужи судной.
* * *
Сквозь лёд проходя и зрачком прозревая кристаллы,
зачем непременно спешишь ты добраться до дна?
Пораненный палец водою омоешь ты алой,
чтоб стала ясней тебе жизни длина и цена.
Дрожит на лету паутинка застывшего звука,
верну вдохновенье и губы твои разомкну.
Но сердце зачем ты мне полнишь глубинною мукой,
Затем ли, чтоб вызнать страданий моих глубину?
Разорванным криком меж пауз паря, остываешь.
Осеннее солнце уходит – лови, не лови…
Ладонью горячей ты снова мне рот закрываешь,
И мерю терпеньем я горечь последней любви.
Перевёл с украинского
С.Шелковый
И милосердно губ моих коснутся...
Дочери
1.
Мой львёнок, цвет золотогривый,
дыханье августовских дней,
где полдни спелы, словно сливы,
где щедрость мира всё ясней!
Мой первенец, глядящий зыбко,
одетый в сонные шелка,
повитый отчею улыбкой
и женским счастьем молока!
Ты слышишь - в полночь кружит небо
зверей огнистых карусель,
раскачивая с львиной негой
судьбу, планету, колыбель?..
2.
Сизифов зимний день втащу под крышу,
всё той же вечной лестницей взойдя. –
Но не ропщу, ведь я за дверью слышу
твой голос, ясноглазое дитя!
Войду – и мне в прихожей улыбнутся
два сброшенных, два красных сапожка.
И милосердно губ моих коснутся –
судьбы дыханье и твоя рука...
3.
Всё! Наконец домой вернуться
с тропы бродяжьей и случайной,
линялым усом окунуться
в расплав крепчайшей гущи чайной.
Лаская груз фамильной чашки,
под перезвоны разговора
кольнуть клыком, чуть одичавшим,
глазурь забытого фарфора...
Как дышат разноцветной плотью
на книжных полках царства граций!
Как плавно складни переплётов
тебе навстречу отворятся!
И страстно вскрикнет половица
древесным плетивом волокон,
и озарится гладь страницы
кошачьим оком, спектром окон!
И, дрогнув эхом, обернётся
иною рукописью время.
И дым пространства чуть качнётся...
А надо всем и надо всеми –
щемящий свет дочерней тайны,
свеченье детской млечной кожи,
глаза, что всё необычайней,
всё больше на твои похожи...
Вы - как люди, но честней, вернее...
Владимир Базилевский
(1937)
* * *
Лиру разбил Орфей:
Век этот – злобный гицель.
Вновь за щитом – плебей,
Вновь на щите – патриций.
Пастыри,
Я не ваш!
С личным запасом соли,
Сивый, словно Сиваш,
В судной пребуду роли.
В кровный вступаю круг,
Где за чужую провину
Всадит продажный друг
Нож по-предательски в спину.
* * *
Мало в мире копачей криниц,
Больше тех, кто жатвы ждёт, не сея.
Книги, - ум сердец и ясность лиц, -
Вы - как люди,
Но честней, вернее.
Чтоб моя душа, как филигрань,
Заискрилсь, в трепете запела,
Серебрится звуками гортань,
Полнятся медами соты тела.
Чую колокольцы–стремена,
Слышу звоны рифмы Великодней
Книги-люди, книги-имена,
Светятся криницями без дна,
Ввысь возносят, словно длань Господня.
Как люблю я ваш иконостас!
Веют книг листы листвою рая...
«Ухожу, друзья!» – в последний раз
Пушкин вас окликнул, умирая...
Любовь Голота
(1949)
* * *
Виденье детства: лето, вечереет.
Бесшумен меж созвездий птиц полёт.
И, впившись в гриву конскую, немеют
ладони. И отец коня ведёт.
Вздыхают в ковыле седые боги.
И видится опять так ясно мне:
белеет шлях, и по степной дороге
я еду на отцовском скакуне.
И путь верхом - нелёгкая забота.
Галоп, аллюр - и степью наугад.
Из тьмы грозит горящим оком кто-то,
и конь тебе - единокровный брат.
И первой прискачу или последней...-
Нет, не об этом спросит Бог меня.
Сожму узду в седле, в колыбе смертной -
ведь мне отец мой выбирал коня.
Перевёл с украинского
С. Шелковый
На каждый звук - миллениум в уме!..
Валенсия
1.
Так вот, где сёстры-ласточки зимуют!
Соборов валенсийских лепота,
белиссимо, прочтённое с листа,
влечёт их ввысь и в роздыхе ликует.
В Валенсии – семнадцать в декабре
волна и воздух. И накат негромкий
ласкает плоть белопесчаной кромки
в размеренно-ритмической игре.
Мои четыре с половиной дня
в цепи тысячелетней кавалькады –
не Бог весть что… И всё-таки не надо
из памяти вычёркивать меня,
Валенсия! – Теперь-то я могу,
твоею смуглой нежностью задетый, –
пусть не омегой, – альфою и бетой
на средиземноморском берегу
играть с тобой в слова, в воспоминанья,
в те изваянья Сына из песка,
которые ничейная рука
у моря оставляет в назиданье:
искусство – то, что будет жить без нас,
без имени и даже без корысти
ревнителя пера, резца и кисти,
наследуя лишь детскость певчих глаз…
И вот летуньи наши где снуют,
сбежав на юг, – в твоей закатной хмари,
Валенсия! – О легкокрылой твари,
о беженке, заботится приют
монастырей твоих и колоколен.
И здесь, – средь кротко-женственных дерев,
лимонных, апельсиновых, – я волен
взывать «Сестра-касатка!» нараспев.
И право, так мне легче узнавать
всё то, что в силе многоцветной снилось,
и поутру в гостинице «Лос Силос»
тяжёлый штоф на окнах раздвигать…
Здесь, через площадь, – колизей быка.
Без бритвенных пассажей матадора
зевнёт зима. Но в марте, в день мажора,
рванётся на арену чёрный торо,
чтоб гибель, – чья же? – в бисере декора,
была прилюдна и насквозь легка…
2.
Валенсия, скучаю по тебе,
когда бы не сказать сильней - тоскую!
И вновь, нарваться на отказ рискуя,
я обращаюсь к скаредной судьбе:
"Продли дыханье примаверы той,
хотя б на тот один апрельский вечер,
где просветлённый дух мой, как тинейджер,
исполнен взлётной силы молодой,
где чёрно-золотой просторный мир
вовсю распахнут мне с крыла балкона
Валенсии, где звуки Морриконе
так тихо льются издали в эфир".
Валенсия, скучаю по зубцам
твоих Ворот, по Лонхе-де-ла-Седа
и вновь во сне к тебе на встречу еду,
к твоим навек речистым мертвецам
из бронзы. Твой Льоренте рифмовал
навряд ли ярче прочих и смелее.
Но днесь под сводом фикусной аллеи
достойно он венчает пьедестал,
когда в апрельской влажной полутьме,
загажен сизарями шалой стаи,
стоит, не дрогнет, дорогое зная:
"На каждый звук - миллениум в уме!"
Парит вдали стрекозий новострой
искусника Сантьяго Калатравы,
Нет, не избыть мне здесь любви-отравы -
под плавной апельсиновой горой,
здесь, под шатром эпических ветвей,
что брызжут сквозь изломы млечным соком,
здесь, где я полнюсь рокотом и роком...
Лети же, ветер из Магриба, вей
по городу, чья Турия-река
озеленила русло райским садом,
чей гений-дух, струясь по анфиладам,
всю ночь лепечет мне, что счастье рядом.
Валенсия! - Вселенство вдоль виска...
Тогда – в финале варварской забавы...
Игорь Качуровский
(1918 - 2013)
В Колизее
Народ мой есть! В его воловьих жилах
Казачья кровь струится и гудит…
В.Симоненко
Когда, взревев над жертвой упоённо,
Счастливый плебс уже захлопнул зев
И на арене сыто, утомлённо
склонялся к дрёме мускулистый лев,
Тогда – в финале варварской забавы
Прославленных жестокостью веков –
Погонщики бросали в бой ораву
Огромных твердокаменных быков.
И новый рёв вздымался над ареной –
Бледнели гладиаторов бои –
И бешено, вскипая лютой пеной,
Неслись на львов литые бугаи.
И царь природы кошкой шелудивой,
Встречая смерти неуклонный вал,
То на рогах взлетал – толпе на диво –
То тряпкой под копытами сникал.
**
Когда средь дум печальных и постылых
Склоняется на руки голова,
Припомним Симоненковы слова:
«Народ мой есть! В его воловьих жилах…»
* * *
О Понто Веккьо, что на Арно-речке
Сложил торжественный сонет Эредиа.
Ему сегодня удивляюсь я,
Не находя там света Божьей свечки.
Поскольку я лишь те люблю мосты,
Где мне видны просторы с высоты,
Где стрессов нет и выхлопов наркоза,
Где серебрятся рыбы в глубине
«И цапли, воспаряя в синем дне,
Перелетают золотые плёсы».
Сонет
Попробуй всех земель и всех ветвей плоды.
Пусть повезёт тебе после вина хмельного
В болоте зачерпнуть ладонями воды
Средь мрака полуночного лесного,
Домой из долгих странствий воротиться
Или покинуть дом, спеша невесть куда,
Ловить в преддверье встречи поезда
Или остаться одинокой птицей.
Пройди все дали жизненных дорог.
Пусть будут там мечта, любовь и Бог,
И грозный блеск смертельного стилета.
И только не забудь в походной маете,
Что из всех дней твоих прошли не зря лишь те,
Когда ты написал хотя б строку сонета.
Перевёл с украинского
С.Шелковый
Бабочки порхают между строк...
* * *
В высоту, в нирвану вдохновенья
отпусти все сущности свои,
ибо длят бессмертней жизни пенье
чуткие сверхтонкие слои.
Как туман рассветный над Тосканой,
перламутров безымянный свет.
И небесный сканер первозданный
по земле скользит сто тысяч лет.
И душа средь Падуй и Флоренций
помнит о воздушных островах
и не ждёт на смелость индульгенций,
возжигая жарких крыльев взмах.
Поднимайся - время подниматься:
там, за высью перистой, - порог
Атлантиды, там Ду Фу, китайца,
расцветают солнечные зайцы,
бабочки порхают между строк...
Сполна простим тебе...
Игорь Качуровский
(1918 - 2013)
Поэт
И нету разницы: тиара иль галера,
что на плечах твоих - лохмотья иль виссон,
и как ты чтил иль преступал закон,
и кто была она - мадонна иль гетера.
Орало ль пахаря, ружьё ли браконьера,
меча и жезла мощь, залитый кровью трон -
не это важно нам. Всё это - миф, химера.
А сущность - лишь стихи и лиры чистый тон.
Хотя ты жмёшься псом к господскому подножью
и мудрствуешь всю ночь над чернокнижной ложью,
в змеиный выводок сплетая тьму и свет,
хоть на твоей тропе цветёт порок отравой,
но мы твой смертный грех и весь твой путь неправый
сполна простим тебе за то, что ты - поэт.
Цветной паук
Есть чудо-хищник в южном том Эдеме,
где спят на солнце травы и деревья.
Подобный изумруд на диадеме
не каждой достаётся королеве
На нём, как инкрустации, - рубины.
Он радужен в соблазне и обмане.
И он не вьёт для жертвы паутины,
маня сквозь травы силою сиянья.
Не найдено никем противоядья
его укусу. И в цветах, в нирване
таится смерть - короткое касанье
охотника в сияющем наряде.
Перевёл с украинского
С.Шелковый
О, Степная моя Эллада...
Максим Рыльский
(1895 -1964)
* * *
Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся любит, ей пора…
И волной зелёною вздымается
Средь весны Батыева гора.
Светят липы нежными княгинями.
Блещет в туче голубь серебром.
В синекрылом взлёте всё покинем мы.
День ещё – и в небе поплывём.
Пусть себе кружит, пускай вращается,
Хоть вокруг свечи, земля-сестра!
Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся плачет, ей пора…
1926
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
1.
Знаю - солнечным мёдом, Лада,
В твоём древнем теле весна.
О, Степная моя Эллада,
Ты и ныне - антично-ясна.
Сквозь пространства, сквозь мрак урагана
Вижу лик твой, скорбя и любя.
Словно конница хищного хана,
Синь степная пленила тебя.
Средь вишнёвого пенного сада
Где-то в вешнем вздыхаешь чаду.
А душе ты - лазури прохлада
В золотистом воздушном меду.
А душе ты - фата моргана
На песках эмигрантских сахар -
Всей земной красотой несказанной
Нам, немудрым, - напрасный дар!
2.
Навеки разорвали руки.
И даль пустынная легла
Холодной вечностью разлуки,
Степями морока и зла.
Вот цветом вишни, вешней песней
Опять сменяется метель,
Но вновь на жгучий зов «воскресни!»
Года лишь отдаляют цель.
И гасит вновь надежды пламя
Слепая, без просвета, твердь.
И перед нами, и за нами
Молчанье полнится и смерть.
3.
Хотя б на миг один, священный, -
Всей грудью вечности вдохнуть,
И радость вспыхнет над изменой,
И солнце смоет тьму и муть.
Пускай уж - бой и буря. Тленья
Душе безмолвно не стерпеть!
Пусть снова - тяжкий крест прощенья,
Горбы Голгоф, распятий твердь.
1925
Варяжская весна
1.
Обычный день Так что ж во мне отрада
Всё явней оживает, всё ясней?
И вспоминаю - Леда... Леди... Лада... -
И имя всё ищу моей весне.
Стать гордая и солнечные косы.
А под варяжским золотом косы
Девичий взор горит светло и просто
Сияньем снежным северной красы.
И не идёт она, парит крылато.
И стройность ног являет лёгкий бег.
Сквозь синий воздух - свежесть аромата,
И вновь цветёт подснежниками снег.
2.
Она - скандинавка. В походке - дыханье фиорда.
Она - от варягов, будивших дремотную Русь.
И шаг её - сталь. И движенье - надёжно и гордо.
И в синих глазах узнаю я по крови сестру.
Как лыжи поют! Как румянятся розами лица!
Как остро и стройно звенит в её поступи Григ!
В широких очах ключевая водица искрится,
В устах лепестковых - малиновой радости крик.
Светись же, сияй, заревая варяжская Лада!
Эллада Днепровская ждёт уже тысячу лет.
Да будет тобой вдохновенна извечная правда
На древней одетой снегами бескрайней земле.
1927
Перевёл с украинского
С.Шелковый
Чистый четверг
Микола Зеров
(1890-1937)
Чистый четверг
И тогда прокричал петух …
Рой свечек, тёплый чад. С высоких хор
Звучит напев неверья и печали.
Круг палачей и стража в синей стали,
Синедрион и кесарь, и претор.
То наших судеб скомканный узор,
То нас предупреждает воплем кочет,
И во дворе для нас костёр клокочет,
И слуг гудит архиерейский хор.
И тёмный свод евангельских историй
Звучит пунктиром тонких аллегорий
О наших жадных подлых временах.
А за дверьми, на кладбище, в притворе
Ребёнка голос, щебетанье птах
И в смутном воздухе безжизненные зори.
Великая пятница
Благообразный Иосиф…
Аримафеи житель благочинный
И тайный Иисуса ученик
К руке, гвоздём израненной, приник
И плоть Господню в пелену кончины
Повил… И солнце чёрное кручины
Явило Иудее грозный лик
Как знак того, что для людей и книг
Настал великий миг первопричины.
И с тихим плачем ночь сошла на сад —
Кресты и холм, и стражников отряд, —
Всё спит, объято густо-синей мглою.
И, призрачны, с поникшей головой,
Проносят жёны дар печальный свой —
Душистый нард и мирру, и алоэ.
Саломея
Там левантийских полнолуний чары
тепло и пряно гонят к сердцу кровь,
там диким цветом отцвела любовь,
и всё в крови - и шлемы, и тиары.
А с водосбора, предвещая кары,
гремит пророк, седины разметав.
Йоканаан!.. Не ясный шум дубрав -
в его словах пустыня и пожары.
А Саломея!.. Лишь дитя! Но взгляд
струит прозрачно смертоносный яд,
клинок и месть упрямо накликая.
Душа моя! Беги же! Синий вал
спешит туда, где средь эгейских скал,
стройна, как луч, белеет Навсикая.
Вергилий
Мужик из Мантуи, поспешный и смуглявый,
в мальчишестве обласканный селом,
воспел и жезл, и бронзовый шелом
и сам был осенён великой славой,
поскольку, сквозь пожары распри ржавой
увидив лучший век, пропел псалом о том,
как процветает мир под цезарским орлом
в заботливом ярме незыблемой державы.
Тот век минул - и Рим, и цезарей дела
рука истории к гробам поволокла,
где тлеют всех времён фантомы и короны.
А он живёт, и звучный гул его поэм
доныне снится нам рыданием Дидоны,
бряцаньем панцирей и всплесками трирем.
Партенит
М.А. Драй-Хмаре
Трубадуры, как Максим Рыльский...
На скалах, где ломают диорит,
За тёмною грядою Аю-Дага
Почила древнегреческая сага,
Храм Артемиды, первый Партенит.
Века минули, но не стёрли след!
Всё длятся чудеса Архипелага -
Ореста зов, Пиладова отвага
Предсмертный Ифигении привет.
И двум поэтам, что заплыли в море,
Опять в ахейском чудятся просторе
Сверкающие вёслами челны,
А дачников вальяжные фигуры
Оценят щедро их цветные сны
Процеженным сквозь зубы: "Трубадуры..."
Скорпион
Блаженны дни и полночи в селе.
Земли Волынской плодоносно лоно
И дух полей, и голоса с балкона,
И клёкот жаб на ветровом крыле.
А в плёсе, словно в аспидном стекле,
Уже зажглось созвездье Скорпиона,
И Антарес алмаз злато-зелёный
Над горизонтом засветил во мгле.
Я уезжал, и глазом астролога
Читал средь звёзд, куда ведёт дорога.,
Назначенная мне теченьем дней.
И гас недобрый Скорпий над рекою,
А лук Стрельца крепчал тугой дугою,
Светясь приветной россыпью огней.
Перевёл с украинского
С.Шелковый
Сидят заботы – ножки свесили...
О Елене Хитушко и её «Тётках»
Елена Хитушко – автор вышедшего в 2013-ом году поэтического сборника «Городские вирши». В этой книге она проявила себя неподдельным лириком, порадовав читателя свежей и незамыленной образностью стиха. Недаром напутственное слово к сборнику написала тогда Нина Виноградова, известный харьковский поэт и художник, признанный мастер метафорического письма. Можно вспомнить, например, вот эти строки из «Виршей»:
Перегорело, как грудное молоко,
Желание шагать со всеми в ногу.
Не потому, что тяготит дорога, –
По-прежнему идти по ней легко.
Но время созерцать теченье дней
Куда приятней собственно теченья,
Так тень от лампы выглядит длинней,
Не уменьшаясь в собственном значенье,
Когда над лампою кружится мошкара
И кошка примостилась на диване,
Но спать пора, и вечная игра
Теней и света скоро тенью станет.
И нету смысла между «да» и «нет»,
И меднобрюхий жук упал в изнеможенье,
Наткнувшись на препятствие в движенье, –
На абажур, что охраняет свет...
Ещё ранее у поэта выходило восемь сборников детских стихов – на русском и украинском. Однако нынешняя книга Елены Хитушко «Тётки» – уже совсем иная статья, другая опера, может быть, точнее – другая опереттта. Скорей всего, по жанру эта книга - поэтический бурлеск, где немало словесной игры и неагрессивного юмора, много эрудиции и загадочных, внушительно звучащих иностранных слов.
И, наверное, главная интонация книги – позитив, обращение к лучшему не взирая на всё худшее. Похоже, что её суммирующая функция – ободрение читателя, и тем более, читательницы. Прозрачный намёк на то, что непременно нужно одолеть все житейские турбулентности и идти по жизни, радуясь светлой стороне бытия.
Сидят заботы – ножки свесили, –
Лузги от семечек полно.
О, тётка! Этих будней месиво
Прими легко! Как утром весело
Глядится солнышко в окно!
В Харькове в последние годы плодотворно работали и работают в жанрах юмора, сатиры и пародии А.Аулов, О.Бондарь, М.Возиянов, А.Инин, А.и В. Лагоза, Н.Манжос, З.Окон, А.Перерва, В.Рубанович, Ю. Стадниченко, В.Субота, С.Цыпин. Теперь в этом сомножестве харьковских смехачей Е.Хитушко несомненно обретает свою собственную творческую нишу. В тридцатые годы минувшего века Осип Мандельштам говорил о своём любимце, поэте Батюшкове:
- Ни у кого - этих звуков изгибы,
- И никогда – этот говор валов…
Так и, оценивая сегодня автора «Тёток», можем уверенно сказать: нет, ни у кого ещё среди юмориств, как минимум находящихся в ближнем поле зрения, не хватило духа зарифмовать почти семь сотен ямбических строк, семьдесят пять строф, объединённых одной исследовательской идеей. Никто ещё не сумел провести юмористический анализ женских характеров и судеб так подробно, вдумчиво и пристально, как сделала это Е.Хитушко в своих «Тётках». Очень основательно и весело прозвучала ещё раз мысль о том, что «Девушки бывают разные, жёлтые, зелёные, красные. И каждой по-своему хочется Чем-нибудь заморочиться…»
А энциклопедия эта тётковедения, эта антология, как её именует сам автор, посвящена действительно сугубо женскому вопросу. Мужчины упоминаются в ней лишь изредка и по касательной – то как объекты в сострадательном наклонении: «Мужчину, оченно усталого, Пристроят тётки на крыле», а то и вовсе как мало симпатичные существа из тёмных лабиринтов мироздания:
Мужик, нетонкое создание,
Придёт, натопчет и «Адьё»!
А в лабиринтах мироздания,
Как будто даже в назидание,
Душа волнуется её…
Этот принципиально прекраснополый уклон произведения однако совершенно не мешает тому, чтобы и мужчины прочли исследование Е.Хитушко с интересом и, конечно, не без пользы. А то даже прочли бы и вправду - в назидание…
Среди множества женских типажей книги наибольшее внимание автора занимают две категории – «тётки работящие» и «интеллигентные» ( Ведь тётка – с мироощущением, И интеллект ей друг и брат…) И это, увы, как раз те две категории людей, которым очень нелегко найти себе достойное место в нашем нынешнем полубесноватом социуме. И тем более автор пишет о них со стопроцентным сочувствием и пониманием, что пишет, скорей всего, и о себе самой, и о многих из тех, кто прочтёт её книгу:
Бывают тётки работящие –
Весь день снуют, как челноки,
Они сколачивают ящики
И починяют вмиг замки…
Или же ещё более сильный и выразительный типаж женщины-труженницы нынешней эпохи псевдо- и квази-капитализма:
Бывают тётки сплошь завзятые,
И всё даётся им легко.
Они же – расщепляют атомы
И покупают молоко.
Такая тётка – многорукая,
Обнимет целый белый свет…
….В «Тётках» читатель обаружит немало точных человековедческих наблюдений, и, что весьма важно при этом, автором юмориады всегда точно выдерживается неискажённая шкала этических ценностей. И весьма много в книге, - повторю ещё раз, - интересной словесной игры, вплоть до того, что юмор её порою не чуждается то абстрактных, то сюрреалистических пассажей:
Ты тётку вымой обязательно,
Авоську рядом положи,
А тётка вытрется старательно,
Ни слова не промолвив матерно,
И чаю выпьет от души…
Ещё один нестандартный авторский приём проявляется, когда строки Е.Хитушко с улыбкою рифмуют «пенсне» и «Массне» или «меркантильный» и «субтильный». Нарочитое обилие изысканных глубоко импортных терминов свидетельствует, полагаю, и о том, что автором в суровое советское время, - во дни без интернета и даже без священных ныне мобил, - прочитано изрядное количество умных книг, и о том, что поэт болеет и печётся о столь же подкованном читателе , о воистину «интеллегентной тётке», о идущей рядом единомышленнице. Словно бы всеми силами души стремтся спасти от множества новоявленных напастей этот ценный, но, увы, стремительно вымирающий вид…
Вот и семь с лишним строф поэтически-юмористического исследования располагают анализируемые характеры по алфавиту - от особ «альтруистических, адекватных, андерграудных» до особей «эксцентричных и экспансивных, эксклюзивных и эротичных».
Ей Богу, не каждый дядька, особенно из новых хозяев жизни, и половину этих могучих слов понимает. А на то и намёк нашей инеллигентной исследовательницы нравов. Знай своё место, заевшееся жульё-вор! Вот же вам андерграунд под нос, времена двоечников и троечников с минусом!
В заключение хочу, - тоже, ясен пень, шутейно, - посетовать на то, что в общем основательном перечне характеров я на близкую мне букву «Ш» ни единой тётки не обнаружил. Жаль, конечно, немного даже обидно. И учитывая, что среди исследованных тётушек попадаются у Е.Хитушко даже «пресноводные», рискнул бы предложить здесь в коллекцию и ещё одну фемину, начинающуюся на мою родную литеру:
А вот вам тётка шелкопрядная –
Она с утра шелка прядёт,
А чуть попозже, вся нарядная,
На файв-о-клок себя ведёт…
Желаю новой книге Елены Хитушко, которую знаю и которой по-человечески симпатизирую много лет, умного, интеллигентного, работящего читателя. Надеюсь, что выход в свет «Тёток» поможет, чем сможет, выживанию этого редкостного, исчезающего, но несомненно ценного биологического вида – «человек читающий».
2015
Христос въезжал на фетровом ослёнке...
Вербное Воскресенье
Христос въезжал на фетровом ослёнке
в золотоверхий град Ершалаим,
и пели ветки пальмовые звонко
над ним, тигровооким, молодым.
То дети, веер зелени вздымая,
живили воздух над его челом.
И обмирало сердце, вспоминая:
"Авессалом, Давид, Авессалом..."
И вот прошло две тысячи подлунных
необратимых зим, жестоких лет.
И, что б ни взялся ты сыграть на струнах,
а выстраданней нот в клавире нет,
чем ослик тот, апрельский привкус чуда,
чем запах вербных веток у лица,
и свет тревожный, бьющий отовсюду, -
вселенский взор всевластного Отца...
* * *
Заросший пруд и селезень зелёный,
по крыльям расплескавший изумруд.
Над тихой ряской, над водою сонной
утиные супружества снуют.
То - снова тягой продолженья рода
охвачена пернатая весна.
И перезимовавшая природа
легко пьяна и благостно ясна.
Апрель, тепло.
И все, кто выжил, живы.
Скворец, взлетая, чуть качнул ольху.
И светятся две вековые ивы
в нежно-зелёном солнечном пуху.
Икс на игрек – будет зэт...
* * *
«Патагония де Чили»! –
Зельем рдяным и густым
все печали мы лечили,
друг, попутчик, пилигрим.
С каждой новою столицей
прирастая вглубь и вширь,
не меняли мы традиций:
с красным знаковый пузырь
по-родному в руки брали
и по-братски, тет-а-тет,
с бодрым тостом разливали:
«Икс на игрек – будет зэт!»
Вьются ль тучи – пьётся лучше!
В непогоду и в раздрай
лей, Америго Веспуччи,
райский берег обмывай.
Вьются ль тучи – белый «Боинг»
вознесёт нас выше туч,
где сияет солнца конунг,
где озона хмель живуч,
где над виноцветным Понтом,
над Атлантикой без дна
за громокипящим фронтом,
за пурпурным горизонтом
Патагония видна!
2015
* * *
Меж брегом и бургом клубится единство дыханья.
Затем и бродяжишь, чтоб высветить близкое дальним,
затем и встречаешь волну в самоходной лохани,
трясёшься на взлёте полночном по кочкам астральным.
Затем и Тоскана-Этрурия длится холмисто,
и город Сиена – гончар, гобеленовый всадник –
классической охрой и ловкой ногой футболиста
открыто гордится. В пожухлой листве виноградник
лелеет на склоне осенннем младенчество кьянти –
багряных, лиловых, чернильных кровей откровенье...
А если и здесь ты не в силах воскликнуть «Аванти!»,
то Бог и с тобой, и с твоей утомлённою тенью.
В путь добрый, попутчик! Прости же и мне возвращенье
в края, где ничуть не слабее подсолнух златится,
чем здешний тосканский. Но тускло тоскует о мщенье
отчизна меж брегом и бургом – подбитая птица...
Холодная весна идёт...
* * *
В платанах Шверинского замка
дробится апрельская трель.
О, дрозд, вдохновитель мой, danke,
пернатый агат, менестрель!
Озёрные серые воды
прильнули к узорам торцов,
и грумы под пышные своды
крутых увели жеребцов.
Хрустит под подошвою гравий,
лекала дорожек чисты.
Никто уклоняться не в праве
от строгости и простоты.
Никто отрекаться не волен
от каменной славы дворца
от сталеплавилен и штолен
и от орденов мертвеца.
Курфюрстовой вольности высверк
за стенами замка уснёт,
зане несгибаемый Бисмарк
в Берлине историю гнёт.
Традиция давящей воли,
железо тевтонских забрал...
Но пахнет апрель лакфиолью,
и плавен озёрный овал.
Но над белокорым платаном,
над лепкою рыцарских звёзд,
умытый шверинским туманом,
о Гретхен, об умнике странном
поёт мефистофельский дрозд...
* * *
Фолькеру
Холодная весна идёт,
и продают на Пасху вербу,
понеже обновляет веру
евангелический народ.
Забудем ли, саксонец мой,
как были юны мы когда-то,
когда звенели брат на брата
гранёной склянкой гулевой?
Увы, то выпито давно,
но мы единства не избыли,
хоть и ушло из нашей были
легкотекущее вино.
Форзиция в цвету нежна
в апрельском дрезденском тумане.
Как правильно, – без упованья –
свой трезвый возраст пить до дна!
Твой, трижды интегральный, круг
и мой чертёж – не очень схожи.
Но разность нашу не итожу, –
она обманчива, мой друг…
Желты форзиции кусты –
свежи, золотопенны ветки!
Саксонского упорства предки
глядят с дворцовой высоты.
И в угловатости забрал,
в суровых рыцарях из камня
порука твёрдая дана мне
в том, что ещё не кончен бал,
что в сумрачном апреле есть
пасхальных благовестов звуки
и, стоящая всей науки,
раз в год о верном сердце весть...
Из ливней материнских, отчих рек...
Память
И вот, когда опять июнь настанет,
качнусь на юг, как Дон, Днипро и Волга,
как пёстрая ватага казаков
с варяжскими бунчужными чубами,
с клеймёнными ворожьей сталью лбами,
с пурпурными хвостами бунчуков...
Что кровь моя? - Накоплена по капле
из кринов сладких и лиманов горьких,
из ливней материнских, отчих рек...
И потому, когда июнь приходит,
мне жилы рвёт тугих потоков память -
сама судьба в седло меня бросает,
ремень подпруги жадно затянув.
И сагайдак мне дарит Сагайдачный,
и в грудь вонзает твёрдые глаза.
И вот, скольжу дугой меридиана,
лечу в огромном сне, всё ускоряясь,
по зову рода, по магниту крови -
Чумацким Шляхом, муравой шелкОвой
спешу на юг с тоской неодолимой,
настоянной на соли и меду...
И слышу счастья смертную дуду.
Всё помню, всё. И наяву иду.
Сроки
Я справочники лакомо листаю -
фисташка и болотный кипарис
шесть тысяч лет ветвятся-зеленеют.
Наш путь земной немного покороче...
Когда ж устану попусту роптать,
когда смирюсь, поставьте надо мною
девичью тонкокорую фисташку
и сумрачный плечистый кипарис...
Хочу я в двух, мне кровных, ипостасях,
в двух кронах, бессловесно говорливых,
прожить ещё хоть шесть тысячелетий,
из-под ветвей ловя голодным взором
лимонницу,
кутящую шесть дней...
В том и плаванья суть...
* * *
И не просто стареть, а и сетовать тоже не стану.
Благодарствую, Отче, за каждую радость и боль.
А душа упорхнёт на прогретую солнцем поляну,
словно лось забредёт к леснику на желанную соль.
Вот горячий язык снова тянется к синему зелью -
с кристаллической глыбы слизать исцеляющий сок,
и печальница-иволга кличет небесной свирелью,
чтобы всё позабытое сызнова вспомнить ты мог.
О, как пахла сосна в первородной теплыни июля!
Как двоились драконами ящерки в травах-чебрах!
И кузнечик, полынный скрипач, сухорукий игруля,
всё пилил свою песню о юго-восточных ветрах.
Дети были птенцами, и были отцы молодыми.
Ну, а юные жёны светились вовсю красотой...
Но сегодня в осеннем дыму, но в густеющем дыме,
не удержишь реки, ни за что не упросишь:"Постой!"
В том и плаванья суть, что, войдя в эти странные воды,
и не двинуться вспять, и не выгрести ломким веслом.
Только иволги свист, подвенечная нота природы,
на минуту поманит - согреться в былом-золотом...
Вот и крепнешь душой, если всё ещё теплится лето
в милосердной дали, под шатром медовухи-ветлы!
Зимовать, куковать... - Дотерпеть бы до нового света,
до пучка краснотала, чьи почки пушисто-белы...
Ты – весь душа, и не устанешь жить...
* * *
И всё бежит тот давний мальчик-с пальчик,
в распахнутой рубашке, восклицая:
«Зачем, зачем так лихо и поспешно
швыряет голубей своих на ветер
неугомонный летний календарь?
Откуда и куда несётся время
под белый шорох почты голубиной?
Я чую всей душой – душа бессмертна!
Зачем же... Неужели я умру?»
И вот, в одной из тех прохладных комнат,
которых нет давным-давно на свете,
он знает точно – за стеной, снаружи,
густеет перезрелый зной июля,
сползает 31-ый день, последний,
как ящер в шкуре-бронзе, под откос.
И в папоротник грузно уползает
бронированный зомби бронтозавра,
чтоб, тяжко уронив буддийский череп,
в наростах и шипах золото-ржавых,
закрыть навек молочные глаза...
Но там, в воздушных лабиринтах комнат,
в загадках и шарадах нуль-пространства,
где слышатся шаги и шелест тканей,
где светятся любовью и спасеньем
видения двух нежных великанов,
там слово есть, как яблоко: «Сынок»...
И всё-таки в зеркальной дверце шкафа,
с трудом свой ракурс-реверс узнавая,
наедине с опасным отраженьем
тот мальчик повторяет через силу,
внезапно перехваченной гортанью:
«Зачем же... Неужели мы уйдём?»
Округлое и ласковое имя -
сын солнцелюбий, сокровенный отрок!
Так странно, что тогда я был тобою.
Ты обогнал на жизнь те опасенья
и, вижу, – ты, пострел, не постарел...
Теперь уж я, – другой, малоподъёмный, -
мешая в мыслях соль и чёрный перец,
готов отчалить – не сегодня, завтра,
готов узнать ответ на тот вопрос...
А ты уже давно – полёт, движенье,
субстанция всезнающего света.
Ты – весь душа, и не устанешь жить!
Тому, что ниоткуда и повсюду...
13 марта 2015
Тринадцатое - пятница! - прошло.
И кажется, тебя не зацепила
ни рогом, ни копытом вражья сила.
Весь день дождливо было. Но тепло.
А прежний недомыслия соблазн
тебя и в день рисковый не оставил.
На рифы рифм ты снова плыл - без правил
и без ветрил. И, уж прости сарказм,
но, видно, ты не слишком поумнел
за годы певчих жертвоприношений.
Всё - как всегда. В театре мёртвых теней,
чем ты живей, тем больше не у дел...
Позорно ль, замыкая сотый круг,
бесплотным кораблём рулить упрямо?
"Блаженный мореход не знает срама! -
подбросит ангел голубя из рук..
Двузначен философский лик его -
то хмур архангел, то, вдруг пламенея,
вдохнёт в тебя всю свежесть ахинеи
и небывалых звуков статус кво.
Тринадцатое, в тучах, прочь ушло.
А ты в своих виденьях, в веди-вуду
останься. Кто-то должен вторить чуду -
тому, что ниоткуда и повсюду:
"Дождливо? Но внутри - светлым светло!"
Помяну тебя рифмой, хорват...
Харьковский хорват
В. Мотричу
1.
Замком амбарным, правдою ментовской –
облёванный, бухой, но да! – поэт –
на землю сбит... И церковью Покровской
на суржике, по-быстрому отпет.
Поэзия – притвор иль паперть храма?
Изгнанница, за властолюбье псов
ни рюмки не глотнувшая, ни грамма,
она – не пустошь, Пустынь средь лесов!
Когда железом – по зубам, с размаха,
по сердцу, переносью, по глазам, –
кромешен срам в душе. И гуще страха
в ней – грех невозвращенья к образам...
Какою мовой Мотрич ни заплачет, –
черёмухой, иной ли веткой вскачь, –
он для кривой часовни больше значит,
чем трезво разлинеенный рифмач.
Замызган, пьян, он мне – роднее брата,
поскольку в нашем общем гиблом сне
навскидку петь – в десятку сердца! – надо
и день считать за три, как на войне.
Понеже каторжанская держава,
на откупе у распальцовки дня,
наследница коротконогой славы,
бьёт небо в очи – железякой ржавой...
Тебя, Христе, кончает! И меня...
2.
Вот бассейн у Зеркальной струи, где плескался хорват,
обнажённо-коричневый непросыхающий Мотрич,
априори безбашенный незабываемый брат,
навсегда одинокий горлан – cредь молчания полчищ.
Ой вы, немость и немощь, две криво крещённых сестры!
Как щепотью ни бей себя в лоб, а не выстучишь проку.
Мироносицкий храм семикратно вздымает шатры –
золотистую плавность струит несмиренному оку.
Что-то рано нахлынуло солнце в военном году -
на плюс десять расщедрился полдень десятого марта.
Я к беседке Зеркальной струи ненароком приду,
на скамейке раскрою тетрадку - козырную карту.
Помяну тебя рифмой, хорват, песнопевчий алкан -
мы, акыны, да не пожалеем алтына для друга!
Я бы имя твоё на другое сменил – Иоанн,
не по-твоему пьян, от иных бы скопытился ран...
В остальном же с тобой я – и звучно, и зло, и упруго!
2015
Ещё все живы, вправду живы...
* * *
Ещё все живы, вправду живы –
дед с бабушкой, отец и мать.
И сказок белого налива
на ветках не перечитать.
Ещё настурции на грядке,
на влажно дышащей, хмельной,
горят отважно без оглядки
и багрецом, и желтизной.
И Марфа в сумерках из шланга
водицей потчует цветник.
И каждый куст мне – самобранка,
и мил мне воробьёв язык.
Там по-иному время длится –
не как теперь. Но я живу
в полновоздушной той светлице
и средь ветвей тех – наяву.
Хлебну зари из кружки мая
и между солнцем и дождём
вдоль радуги, вдоль арки рая,
на бронзовом жуке взлетаю,
навеки лёгок на подъём...
2015
* * *
Деревянные перила, деревянные террасы,
деревянные ступени грустным голосом поют,
ибо время все бездушней - год от года, час от часа -
перемалывает в пепел перепончатый уют.
И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,
плыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлен.
В летнем коконе веранды, в древесине говорящей
перламутровою жилкой трепетал легчайший сон.
Были в сетке переплета разноцветны ромбы стекол,
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...
Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щелкал?
Чья беседа по овалу вкруг столешницы текла?
Кто там в платье светло-синем загорелыми руками
над фамильною посудой рано утром ворожил?
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...
Я один на свете вижу те сосновые ступени.
На веранде - капли воска, брызги битого стекла...
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,
и записка поминанья одинока и бела...
Как только Мост Драконов перейдёшь...
В Любляне
Любляну окропляет майский дождь –
на удивленье ласковый и тёплый.
Как только Мост Драконов перейдёшь,
все перепонки крыл и клювов сопла
позеленевшей бронзою взблеснут
в росе полудождя-полутумана.
Ряды цветных фасадов к речке льнут
с гармонией и плавностью Тосканы.
И ты, в оправу гор заключена,
Словения – от слова, не от славы! –
спокойно дышишь, мирная страна –
с драконом, но без деспота-удава.
Шепни же мне на внятном языке,
что первый Рим тебе всех прочих ближе,
что гостя не прирежешь ты в леске
с ордынскою ухмылкою бесстыжей…
Я сам бы здесь, на речке Любле, жил
в похожей на провинцию столице,
с отвесных башен Града сторожил
багрец средневековой черепицы.
И знал бы, что всегда возможность есть,
отбившись от врага, укрыться в горы,
и не растратив по копейке честь,
уже одну лишь слушать с неба весть –
легчайший шум дождя: «Memento mоre…»
2015
Над любимцем Воронцовой, над тобой и надо мной...
Диптих маньеризма
1. Беседка
О, беседка! Одесситка раскрывает мне объятья.
На айлавочке "ай лав ю" я во тьме ей говорю.
О, беседа рук горячих и прохладной мяты платья!
Пылкий ветер, бросив полночь, влился в юную зарю.
Что-то будет непременно от рассветного слиянья,
что-то на волне воздушной прозвучит, произойдёт,
чтобы рифме улыбался твой алеющий в нирване,
лепестку цветка подобный, твой отважно-нежный рот.
Убежав из гарнизона от майора-фармазона,
от кобзона-кабыздоха, ты - свободна, ты - ничья.
Одесную - вся Одесса, бриз понтийского озона,
одесситка, абиссинка, вкус абсента и ручья.
Как Сверчок пьянел Земфирой в Долне подле Кишинёва
и как Байрон содомитов на Элладу променял,
так и я вернусь и буду по-одесски счастлив снова -
там, где шлягером Утёсов освятил ж/д вокзал.
Там, где вечно море-море, где мы плыли и тонули,
где на берег нас вернуло одиссеевой волной,
где летит всё то же время золотой счастливой пулей -
над любимцем Воронцовой, над тобой и надо мной.
2. Из "Базилиады"
Небесно-голубою влагой светилась рюмка "Кюрасао".
Тому, кто знает толк в напитках, вполне понятен мой намёк.
Коту Василию хотелось надеяться на "мяу-мяу",
но без согласья на свиданье прошёл и этот файв-о-клок.
Два глаза кошки-персианки сияли синью "Кюрасао",
как два чистейшие сапфира океанической воды.
И всё же, вместо "мяу-мяу", Базиль услышал только "чао",
и лишь на миг соприкоснулись при расставанье их хвосты.
Он ей читал стихи Петрарки и Блока - о Прекрасной Даме -
ведь был Базилио любезным и обходительным котом.
Но в этом жанре катавасий, в комедии и мелодраме, -
виляй вовсю, но бей, в итоге, о пол отвергнутым хвостом...
Как узнаваемы сюжеты! Я сам был молод, но не стану
солить, вослед текиле, рану и бередить рубец любви.
Сэнсей хлебнёт сакэ и мудро добавить терний в икебану,
а "чао" нежной персианки переведёт как "се ля ви..."
Здесь, на торжище щедром и ярком...
Торг в Кишинёве
Здесь, где Пушкин цыганкой Земфирой
весь июль напролёт был пленён,
я настроюсь февральскою лирой
на мажорный отзывчивый звон.
Кишинёвский базар многоцветный
закружится в барыжном раю.
И на ноте ответной, приветной
"мультимеск"* я ему пропою.
Брызжут солнца зеркальные зайцы
над усталыми псами зимы.
Молдаванки над брынзой, кавказцы
над нежнейшею бронзой хурмы
нависают - в предчувствии лея,
в предвкушении мартовских ид.
И, котятами почек белея,
ветка вербы надеждой дарит.
Здесь, на торжище щедром и ярком,
закипевшем между явью и сном,
я взбодрюсь бессарабским подарком,
отоварюсь лиловым вином.
Лейтесь, вечноживые чернила,
вдохновенные зелья лозы!
Где б, Сверчок, нас судьба ни носила,
а везде виноградаря сила
кровь вливала в чернильницы, в жилы,
в буки-веди, в глаголи, в азы!
2015
----------------------
*мультимеск - спасибо (молдавск.)
Вдоль солнечного ветра...
На Дворцовой набережной
Студёной чистой синевой
просторный город затопило.
И туч растрёпанных ветрила
неслись над вздувшейся водой.
А на тугой спине Невы,
мешая отраженья, плыли
грифонов вздыбленные крылья
и бьющие пенальти львы.
Роились блики ста измен
в зеркальности дворцовых окон.
И херувимской лепки локон
лучился зайцем с ветхих стен.
Но обновляющей водой
прочь с атрибутов соль смывало,
и вязь фасадов оживала -
промытою и молодой.
И было славно нам глядеть -
как петь! - вдоль солнечного ветра
на юный мир в наряде ретро,
набухший мартом, словно ветвь!
И, отразясь за парапет,
сиял в волне первопричинной
твоей ушаночки овчинной
горячий, яркорусый свет.
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я –
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся статысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, – волею высшею, –
что ни март – колокольни стройней!
Огромный воздух, предвкушенье счастья...
* * *
Когда-то в детстве поезд шёл в Луганск,
и рано утром Марфа говорила:
«Вставай, сынок!» – Дебальцево. Здесь рядом,
совсем уж скоро – Ворошиловград...»
С тех пор полмира переворошило
напором смыслов, хаосом ветров.
И свору душегубов напрочь смыло
теченьем лет. И с таяньем снегов
разнёс поток по ямам злого царства, –
оврагам, буеракам, погребам, –
нечистые останки властолюбцев.
Ежов, луганский Клим, горийский Коба –
все подмешались в бескультурный слой.
И вот – истлели кости вурдалаков,
но трупный яд их веры в превосходство
жестокой силы надо всем и вся
всё так же в мёртвом воздухе витает
над бурым вседержавным кирпичом...
Дебальцево, чернея, догорает,
грохочут танки орков, не таясь,
и на снегу февральском кровь и грязь
смешал упырь лубянской преисподней...
Февраль итожит год Небесной сотни,
год их бесценной жертвы молодой,
год памяти, молитвы и надежды.
Я – здесь, в земле, затоптанный ордой.
Но я – и там, в неугасимом «прежде»,
где – лето и пятидесятый год,
железного столетья середина,
где слышу вновь заветный голос Марфы,
седой и приглушённый, но живой:
«Вставай, сынок!» – Даст Бог, родная, встану!
И обниму у Каменного Брода,
в виду цехов патронного завода,
тот дедов дом и сад, что так люблю.
Вдохну, как будто в радужном хмелю,
огромный воздух, предвкушенье счастья...
20.02.2015
Всё это и поныне – не виденье...
Запах
Бормотун, домовик неказистый,
скособоченный временем том...
Эта книга из рук букиниста
пахнет давним чужим табаком.
Нет, былое в потёртой обложке
я недаром сегодня раскрыл.-
Горьковато-пахучие крошки
встрепенули молекулы крыл.
Чей-то взор, настигающий, смелый,
меткой искрою брызнул в меня,
штрих-пунктирною ниткою белой
дёрнул зуб из молочного дня...
В этом сне моя кожа упруга,
там опять наяву я смеюсь,
ни кривого порочного круга,
ни своей прямоты не боюсь.
Та же нитка на шею надета -
с белым кремнем, омытым в реке.
Налегке беспредельное лето,
бесконечная жизнь - налегке!
Свет веранды. И деда приятель
тем же, давним, горчит табаком...
Вишни красные, белая скатерть.
И лимонница под потолком...
Двое
Как пахла склянка синего стекла –
серебряную крышку открывали
и крошки чая бережно ссыпали...
Какая благость в воздухе плыла!
И льнуло к пальцам старое стекло,
шершавилось узорами травленья...
Всё это и поныне – не виденье,
хотя Бог весть когда уже прошло...
Нет тех, кого любил, и сломан дом.
И десять лет прошло, и трижды десять.
Лишь память не устала прошлым грезить,
июлем плыть над глиной и песком...
И полдень тот всё длится надо мной,
двух верных душ заботу излучая, -
то хрупкою стеклянной синевой,
то пряной ностальгией горстки чая...
* * *
Там, где Лугань, июльскую былую,
сплошь затянули ряска и мазут,
в белёном доме по сей день живу я,
и те, кого любил я, в нём живут.
Там, в трёх шагах от Каменного Брода,
известного бандитского гнезда,
всё лето напролёт – тепла погода,
трава пахуча и вкусна вода.
Ароль, щенок окраса капуччино,
щеку мне лижет, лая вслух пароль.
И льётся с облаков первопричинно
Господний свет на пыльную юдоль.
И две души родные дышат рядом
хранительно. А, в десять яблонь, сад
вздымается бескрайним вертоградом
над той Луганью, сорок лет назад.
Одежда там бедна. Теперь наглее
топорщит перья и хвосты шпана.
Но похвальба лабазника-плебея
едва ли дальше Лопани слышна.
Расшатан мост над сохнущим потоком,
и май горбат, и обескровлен труд...
Но день спасён мой – тем щенячьим оком,
тем солнечным степным юго-востоком,
где в доме белостенном невысоком
меня до самой поздней ночи ждут...
Ещё вчера надменный шахиншах...
Аравийский триптих
1.
* * *
Где похоть-страсть ехидны с трубкозубом
сползает, извиваясь под откос,
трясёт хохлатый дятел рыжим чубом,
и до смерти ревнует утконос.
Там, где со стоном падальщица-птица
в объятья принимает дикаря,
от блуда их зловонного родится
такая тварь, по правде говоря,
что непременно президентом станет
твоей навеки проклятой страны,
где мак цветёт и конопля не вянет -
согласно всем заветам старины.
И если, упаси Господь, с душою
ты явишься сюда в свой день и час,
то здесь, за гранью, за глухой межою,
плачь о себе. И о немых - о нас...
2. Никаб
Люля-кебабу я по-свойски рад,
но ляля плюс никаб почти зловеще
стыкуются. Похоже, в краткость вещи
включён причин и следствий долгий ряд.
Сквозь щель никаба – Вавилон, шахид,
шумер, Искариот и цезарь Тит,
смешавшись, словно в дьявольском коктейле,
сулят семь чёрных пятниц на неделе.
Да так, что брезжит в ближней параллели
усач Усама, олигарх-скиталец
с оленьим грустно-масляным зрачком, -
любовник смерти, чей не в силах палец
со спуском «Калаша», с курком-крючком
ни наяву расстаться, ни во сне…
Бен Ладен с молодой женой в никабе. –
Как живо входят в мой расклад оне!
И чёрный автомат на чёрной бабе
всего лишь длит багровый ток знамён
кровоточивых, - всклень моих! – времён…
Когда-то с «Калашом» на юной вые
я клятву маме-мачехе давал.
Но грянули откаты роковые
с кончиной мамы. Чернозёмный нал
вовсю питает корни паханата.
Трещит душа по швам, а с краю хата
куриной лапой рвётся мне в карман,
поскольку волчий криминальный клан
удавкой дожимает коммунальной
свой люд – овечьих, видимо, кровей….
По дедовской шкале, по пятибалльной
кол пишется чернухе смутных дней
сообществом, чуть бурого окраса.
Но в целом масса без боеприпаса
не в силах одолеть сама себя,
подспудно, вдоль генетики, любя
своё же вековечное холопство…
Усама же приносит неудобства
всем тем, кто сам с усам, кто по слезам
спешит в шузах из кожи страусиной.
И мне всё чаще снится кол осины…
И прав Коран: достойней во сто крат
безбожия, стяжательства и жлобства,
достойней беспредела – шариат!
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?
И что никаб? – В очах его: «Свят, свят…»
3.
Жестокая метафора возмездья:
правитель, но не лев, - скорей, грифон,
вцепившийся когтистой лапой в трон,
архангел-гриф на прибыльном насесте,
ещё недавно – символ местных вер,
сиятельный, на сто карат, бербер,
укутанный до пяток златотканью
раис-алмаз, властитель нефтебаз, –
сегодня брошен навзничь в пыль и грязь,
и залит чёрной кровью надруганья…
Ещё вчера надменный шахиншах,
теперь он, с гиблым ужасом в глазах, -
комком белка, моллюском-василиском, -
размазан, в знак возмездья, по песку
и тут же - по мобильникам ливийским...
За изыск власти - веско платят взыском,
обвалом в преисподнюю-тоску…
Однако ж, и над нами - та же свора,
достойная такого же разбора:
и днём и ночью грабят, в три руки,
и распинают Бога неустанно...
Им – не указ, что напоказ тирана
рвёт челядь в ходе шоу на куски,
что те же клочья, так же по-простецки,
уже мелькали – здешний Брюховецкий,
а чуть пораньше Цезарь и Нерон,
в ад сброшены, - по линии ротаций, -
с нюансами правленья разбираться…
«Харам!..»*- тоскливый, обречённый стон
мятётся над казнилищем пустыни…
Но сей «харам» летит ко всем херам,
ко всем минувшим и грядущим дням,
где проступают капища сквозь храм,
где месть сладка, но нету благостыни…
-----
* харам - запрет (арабск.)
Магеллановы гуси над миром летят...
* * *
Магеллановы гуси над миром летят,
чёрно-белые звонкие птицы.
Сильным крыльям четыре столетья подряд
в неустанном полёте не спится.
Надо льдами, над Огненной скальной землёй,
над огромным тугим океаном
неподкупною стаей летят, надо мной,
над Афоном, над дымным Афганом.
Всё опасней, всё круче планета кругла
со времён Магеллановых странствий.
И всё множатся блики - удары крыла
в неразрывном едином пространстве.
Всё тревожнее над головою кричат
дальнозоркие вещие птицы -
если вздыбится ад у Чернобыльских врат,
в Скандинавии смерч разразится...
Если гильзы чадят средь афганских камней
под Гератом и под Кандагаром,
значит, синие очи днепровских парней
потухают, сгорают задаром...
А к нему, кто вернулся без ног до колен,
кто в глаза смотрит ранено, зыбко,
как прорвусь через ложь, через кривды рефрен
со словами, что вышла ошибка?..
Не вернуть двадцать тысяч убитых солдат,
не возвысить сусальным обманом.
Кругосветные вестники с плачем летят
над Союзом, над Афганистаном.
И надгробные звёзды в оградах молчат
на земле - без огня, без алтына.
Помертвевший отец за ночь вырубил сад,
что садил в день рождения сына...
Зажёгся свет, чтоб высветить ясней...
Зажигание света
И.
Гораций, братец! В этой части света
нет под луной надёжного предмета -
то лампочка сгорит, то чайник вновь,
чадя, покончит жизнь самоубийством,
забытый мной на кухонной плите -
на медленном огне... О, псы Господни,
доминиканцы!.. Да к тому ж сегодня
за окнами - эпоха перемен.
Безвременье навстречу крутит кукиш.
Тут и башку, не чайник, позабудешь!
Да плюс привычка: книгочийства плен...
Опять я малость зачитался, тютя.
Но лампочки! Уж тут не скроешь сути -
мышино-перманентной суеты:
уже раз двадцать в ванной я и ты
лампаду ильичёвскую меняли,
но в напрочь разворованной стране
вольфрама не осталось для спирали. -
Как инженеру это ясно мне.
И вот опять громоздкий груз житейский
влачу из кухни - табурет библейский,
похожий на ковчег и на качка,
сколоченный всерьёз, не с кондачка,
без экивоков в сторону прогресса.
Но дальше - лучше: только что из леса,
малютка-табуретка, дочь сосны,
нимфетка на балетных ножках белых...
В неё ножи из шкафа влюблены,-
при шансах ноль десятых и нуль целых,-
и тенорок блатной магнитофона...
Чтоб дотянуться в ванной до плафона.
нимфетку водружая на качка,
я уж потом на них взбираюсь, третий.
Держи вернее, о жена моя,
сооруженье! Ты теперь в ответе
за козни быта против бытия.
Держи, дабы не грохнулся на кафель
кормилец твой, усталый спутник дней...
Зажёгся свет, чтоб высветить ясней
твой тонкий профиль, мой за ухом грифель.
Что нам слова чужих - о нашей мгле?
Вон яблоко, - в пурпурных рисках штрифель, -
светлым-светло на кухонном столе!
* * *
И.
А помнишь – в первый раз мы были в Херсонесе?
Не так уж и давно…
Всего-то тридцать лет
скользнули в небеса, сквознули в редколесье,
по зимним желобам скрипя, сошли на нет.
Недавно и давно… Ещё все живы были –
твои отец и мать. Мои.
И все тогда
друг друга, как могли – без пафоса – любили.
И каждый нёс свой фунт подспудного стыда.
Артель «Напрасный труд» благоухала резко
одеколоном «Шипр», копеечной едой.
И длинной речь была про куцые обрезки
под ряженной в кумач прожорливой звездой…
Но помнишь, как тогда над почвой-пеплом мыса
пружинила твоя июльская стопа?
Треть века унеслось, но цвет не изменился –
бела над синевой античная тропа.
Треть века истекло, но звук остался прежним.
Средь греческих руин алеет алыча.
Остался тем же зов – невыдуманно-нежным,
легчайшим, как загар любимого плеча.
На губах виноград песнопевческой браги...
* * *
Камышом зарастает речушка Бычок,
храм Святого Харлампия ярко сияет -
то февральское солнце шафранный бочок
кишинёвскому храму любя припекает.
Расцветает суббота, златой Господарь
в поднебесной царит свежевымытой сини.
И брожу я, листаю живой календарь,
молодильный февраль бессарабской светлыни.
В предвесенней Молдове посею стихи,
как в Брюсселе их сеял, в Орле, Водолаге.
Да простятся мне красного байства грехи -
на губах виноград песнопевческой браги.
Изабелла Чумайская так хороша,
будто льющая хмель Кантемира коврига!
Я замолк, Аурика, молчу, не дыша.
За душою ни звука всю ночь, ни гроша -
до рассвета, до первого птичьего крика.
Лишь с Тобой, камертона держатель...
* * *
Огурцом малосольным меня угощал хлебосол.
Бог те в помощь, кормилец! Похоже, не так уж и зол
этот мир на ветру - семижильные плети травы,
этот двор на юру - трёх подсолнухов три головы.
Самопальным стихом привечал меня брат-рифмоплёт.
Не робей, сизый сокол, - да сбудется твой перелёт
через тучную плоть многодетной степной полосы
от речушки Воронеж до жёлтого моря Ян-Цзы!
Родниковой слезой меня друг гололобый поил,
новой жизни алхимик, прагматик, зануда-зоил.
Говорил откровенно: "Да брось наконец ты херню!
Не ко дню соль-бемоли твои и псалмы не ко дню..."
Ну и что мне ответить премудрой босой голове?
Жизнь одна у меня, а возможности, стало быть, две:
то ли вес обрести, устремясь за большой молотьбой,
то ли плыть по воздушному руслу на пару с Тобой, -
лишь с Тобой, камертона держатель и ритма отец,
мимо козлищ, родимо-рогатых, и рыхлых овец,
мимо рифм перекрёстных да урок с нательным крестом,
да смоковниц, родящих бок о бок с терновым кустом.
Одуванчик откроет зрачок-золотник поутру:
глядь, по-прежнему пьян милый храм на юру, на ветру.
Огурцом малосольным целит меня вновь книголюб,
не укором - елеем укропным касается губ...
Голубая чашка с белым молоком...
Сказочка
Голубая чашка с белым молоком
отнята у детства, отнята Совком.
Рос ты и не видел чуда-молока,
всё давился клейким хлёбовом Совка.
Кулаком над пшёнкой в стол гремел отец,
«Жри!» - ревел партиец, в Сталина игрец.
Что теперь напрасно, попусту жалеть?
В дверь твою колотит тот же зверь-медведь –
с тумблером в межбровье, с бомбою в руке,
низколобый хищник, сделанный в Совке,
слепленный из злобы, мяса, молока.
Выломает двери – съест тебя, старка…
2015
* * *
Кто мы с тобой, чтоб уповать на завтра?
Не в нашей власти даже беглый миг.
Гадая, ты лепечешь: «Уно, кватро...»
Но Тот, кто знает срок, скрывает лик.
На арамейском, греческом, латыни –
слова Его властительно просты:
«От млечной глины к погребальной глине
отмерен путь. И эта мера – ты».
Идущие землёй – не властелины,
заложники ухабов и канав.
Слова их мёд, но их дела полынны,
и жжёт им губы горечь сорных трав.
И мы с тобой всю жизнь учились счёту,
но нам не хватит пальцев на руке,
чтоб оценить бесплодную заботу,
наследство, что всегда даётся моту,
прощальный сон о детском молоке.
Взбухают явно тайные счета...
* * *
1.
Французова, фиалка Коктебеля,
я вспоминаю море за окном.
Там чайки предзакатные летели
к синеющему мысу Меганом.
Там, белые, с небес они кричали
по-эллински: "Лариса, красота..."
Твоих очей две галльские печали
и маки зацелованного рта... -
Когда всё это, - за долги, - забвенье
возьмёт себе, тогда, в разломе дней,
спасётся лишь цветок стихотворенья,
средь киммерийских спрятавшись камней.
Тобой ли, коктебельская фиалка,
грущу иль облаками за окном
закатным? Или просто жизни жалко,
обманутой заезжим моряком?
2013
2.
«В бананово-лимонном Сингапуре»
очнулся на похмелье Коктебель.
Не доучился Макс в магистратуре.
Ассоль теперь – гламурная газель,
в трёх колерах, но с гибельным отливом –
в кумач и в сурик, в киноварь, в багрец...
Сгубил её, споил шаманским пивом
чухонский плут, зачумленный пришлец.
На Кипре ли, в Каймановых офшорах,
взбухают явно тайные счета.
И ворам панегирики о ворах
вольно чертить, кивая на Христа.
Французову, Волошинские маки
отпел восточным воем Азнавур.
Клокочут орки, квакают макаки,
суля Парижу тот ещё бонжур...
2015
Что сказал бы ты ныне...
Свет безымянный
Борису Чичибабину
1.
Доживём до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживём. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. –
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намёк:
он – и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счёт грехам он забыл, и ничто не идёт ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник – прохлада дождя на горячечной ране –
да по небу прочерченный птицей рифмованный след. –
Нас не предал лишь свет безымянный – на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам ещё триста лет.
Дотужим до весны – там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зелёном, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
1993
2.
Двадцать лет тебя нет на теряющей разум земле.
Ты о первой Чеченской успел прокричать: «Подыхаю!»
Что сказал бы ты ныне о прежде невиданном зле?
Я в глаза тебе гляну и слово твоё угадаю.
« «С Украиной в крови» – повторил бы ты – с ненькой в крови,
я молюсь о её многожертвенной воле-свободе.
Ридна маты, в цвету, в соловьином напеве живи,
в молодеющем Духе, в седом ясновидящем роде!»
Нет, безверию не угасить безымянный наш свет.
Осиянная тишь к человеку нисходит от Бога.
Двадцать лет – ты не здесь. Но для душ расставания нет.
И вдоль берега моря ведёт нас живая дорога.
2015
Когда, всё, долгожданное, прошло...
ЕСТЬ ПРАВДА ОДИНОЧЕСТВА...
Есть правда одиночества. Оно
жесто;ко, но целительно-высо;ко.
Чутьё слепца и ястребово око
ушедшему от скопища дано.
Когда-то сон огромный нас слепил.
Затем и сон и явь вместились в малость.
И что же нам в конце концов осталось?
Ответь, осенний ветер, брат-зоил!
Осталось тесной комнаты тепло
на чёрно-сером, на предзимнем свете,
когда уже и в полдень не светло,
когда всё долгожданное прошло
и упорхнули к дальним гнёздам дети.
Перевод
на болгарский язык
САМОТАТА Е ИСТИНА
Да, истина е самотата. Тя
жестока е, но е целебно-властна.
Дух на слепец е и око на ястреб
в покоя след напусната тълпа.
Огромен сън бе нявга наш другар.
След туй сънят наяве бе прехванат.
Какво накрая всъщност ни остана?
Предзимен вятър, братко критикар!
Остана в тясна стая да мъжди
на черно-сива есен светлината,
когато и по пладне здрач тъмни
и всичко чакано е в прежни дни;
в гнезда далечни литнаха децата...
Перевёл
на болгарский язык
Красимир Георгиев
Вот и не знаю, увижу ли завтра...
Из "Зимних собачьих сказок"
1.
* * *
Старый хозяин с седыми усами,
такса с унылою сивою мордой -
будто бы вторят друг другу глазами:
"Близится финиш походкою твёрдой..."
Вот и не знаю, увижу ли завтра
у магазина, на зимней скамейке,
отставника с отпечатком кокарды
по середине ушанки-цигейки...
Глянет ли псина на лапах коротких
прямо в упор - так, что нА сердце примешь,
грустью зрачков, не по-здешнему кротких:
"Хлюпает слякоть, и близится финиш..."
2.
* * *
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице – контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, – с прорехой в перикарде, –
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением – в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице – фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа –
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
3.
* * *
С погрызами, со шрамами на лбу,
кобель бродячий, грязно-белой масти,
влачит упорно зимние напасти
на искривлённом старостью горбу.
Опять по всей стране – горбатый лёд.
Кто свечку запалил, тот не разбился…
Спасибо – я у драных псов учился
обвалы с крыш предвидеть наперёд.
Во сне дурном лишь так и проживёшь,
когда не по-людски, а по-собачьи
заранее завоешь: «Чую, бачу!
Врёшь, не возьмёшь, не трожь, ядрёна вошь!»
Седой кобель с погрызами лица
спит калачом на трубах теплотрассы.
Живучести моей народной массы,
родной, дворняжьей, благородной, расы,
ей Богу, не предвидится конца…
Январь, Крещенье. Оттепель с туманом...
* * *
Январь, Крещенье. Оттепель с туманом.
Под башмаками - мёртвая вода.
И чёрный снег лежит бомжарой пьяным,
и не горит над ним его звезда.
И я боюсь свалиться в грязь, сломаться.
Но выдохну. И снова, ободрясь,
читаю звёздный атлас, словно святцы,
и с блюдцем в небе выхожу на связь.
Молчат, бледнея, губы Иоанна
на блудном блюде Ирода-царя.
Но чую, нам с тобой казниться рано...
Ведь полночью в купели Иордана
звезда нагая плещется не зря.
19.01.2015
Вновь с небес Он грустно отвечает...
* * *
Свято место пусто не бывает.
Время Зверя – лучших убивает.
Юные тела кромсает в мясо
мезозой имперского фугаса.
И по всей Украйне на погостах
плач горюч во братиях и сёстрах.
И всё нестерпимей – ночь за ночью,
день за днём глядеть мне Богу в очи…
Вновь с небес Он грустно отвечает,
что души в земном Христе не чает.
Вновь лепечет:«Яко отдал Сына,
так на крест бросаю Украину.
Свято место да не будет пусто –
лучших заберу, посею густо.
Оросит слезою свято место
черемшина - вдовая невеста…»
2015
Догоняя счастья острова...
* * *
В этом доме жил Интрилигатор*,
Оли-одноклассницы сосед.
С интриганом сплёлся аллигатор
в общем переплётe. Сорок лет
вдоль тенистой улицы пропело,
проскрипело, ноги пронесло.
Тень Интрилигатора истлела,
вслед за телом, временным зело.
«Но остался влажный след в морщине»
памяти: кудрява голова,
ты плывёшь, как бравый кэп Мальдини,
догоняя счастья острова.
Там, за третьей лестницею, Оля -
как лагуна райская, свежа.
Там ещё живёт – средь лакфиоля,
без измен, без денег и пароля, -
с Лайкой, словно ссадиною боли,
юности вселенская душа...
----------
*Интрилигатор - переплётчик (лат.), фамилия
* * *
Ты молода и странно хороша,
ты вспыхнула мне искрой в Вифлееме.
Но вот уже не стоит ни гроша
звенящих клятв мятущееся время.
Там, на золе уставшего огня,
то ящерицы греются, то змеи.
Наверное, ты не простишь меня.
Но, слава Богу, я прощать умею...
* * *
Кохання – в кухне ль, в поезде, в лесу –
оно и есть, в любой степи, кохання.
Я крест свой недомыслия несу,
и ты свой куль. И всяк в своём обмане
влачит по кочкам и ухабам дни.
Жизнь под откос идёт, дичает поле.
Но дни кохання… Видит Бог, они
даруют высший смысл земной юдоли.
Не беспокой, мой друг, Петрарки сон. –
Я знал и Беатриче, и Лауру.
Как солнце всходит, так пиит влюблён
и сердцем умным ловит пулю-дуру
летучую – себе ли на беду,
педанту ли на страх иль курам на смех…
Я сам с раскладом давним не в ладу,
где стих мой молодой клянётся наспех
кому-то в чём-то… Вовсе не спешу
я возвращаться в пгт Рыжово,
чужих оград приветствовать паршу,
чужой черешней любоваться снова…
Не окликай и ты меня, разлёт
лихих бровей, и вы, ресниц фантомы!
Мальчишества стрекозий самолёт
уткнулся лбом в траву аэродрома…
Отнюдь мне электричка – не сестра,
не брат – посёлок типа городского.
И юность та мне не мила – остра
занозиста любви её полова.
А всё ж кохання – в тамбуре, в саду –
на свой напев, на свой живой обычай
я с мёртвых языков переведу,
со слов невнятных в путаном году,
с очей-черешен поселковой Биче.
Печаль укутав в тень золотую...
Владимир Свидзинский
(1885-1941)
* * *
Умрут и небо, и земля,
Замолкнут голоса природы,
Ни берега, ни корабля
Уже не тронут плеском воды.
Всё, что растёт, сияет, пахнет,
Безмолвный холод вмиг пожрёт,
И злоба без людей зачахнет,
И без добычи смерть умрёт.
Но мне представить бы хотелось,
Что над погибелью земной
Твои продлятся жизнь и смелость,
О буйный ветер мой степной!
Твоё не смолкнет трепетанье
И ты во мраке средь руин
Как эхо давнего дерзанья
Всё будешь повторять один
Слова поэтов прозорливых,
Отважных странников земных
Мольбы их песен незлобливых
И плачи, и проклятья их.
17.10.1940
Mortalia
(Памяти жены З.С-ской.)
I.
Собирали яр-цвет берегами
Там, где балка к реке припадала.
Ты уже не плакала. Ты уверяла,
Что скоро будет легче бедной маме.
Тогда зеленели июньские поля,
Как свежие пальчики на модрине.
И тихо лежала земля,
Врезана, вкована в вечер синий.
Лежала тихо, как мама в больнице.
Медленно в тень вплывали кусты.
Шептали васильки, опуская лица:
– Как быть нам без светлой её высоты? –
Возвращались мы поздно парковой тьмою.
Опечаленно, жутко ветви шумели.
Вдруг стал громче шелест над головою:
– Хороша на гроб древесина ели...
23.7.1933
II.
Нет тебя на земле!
Никто никогда не скажет мне,
Что встретил тебя тут или там,
Что руки твои, открытые до локтей,
Растворяли окно над садом.
Никто никогда.
Отошла ты в безвестие тёмное,
Где быстрый огонь не вьётся,
И дуб не шумит,
И мать не склоняется над ребёнком.
Нет тебя на земле.
------
Змейка из нового малахита,
Забавка царевны, падает в омут,
И отводят воду, и находят её,
И она возвращается такой, как была.
Ты упала во темноту –
И никто уже не вернёт тебя..
А ты ведь была живой,
И что в сравнении с тобой
Малахитовая змейка царевны?
------
Ты была живой,
Мои руки касались тебя,
Моя молодость осиянна твоей,
Как же ты перестала быть?
Разве зелёный островок
Может сделаться волной
И раствориться в море?
-------
Или жизни твоей позавидовали?
Семь огней у радуги,
Семь пламенистых лиц!
Но никто же не разбирает её,
И не делит между семью мирами.
А тебя, мою радугу, разобрали,
И разобрали, и поделили:
Тело отдано покорной земле,
А то, что молило о бессмертье,
Кому?
Не хищным ли ветрам степным,
Которым всё равно, что рушить:
Разметать ли сугроб снежный,
Светлое ли озерце топотом побить.
-----
А на могиле твоей,
Над чертороями мрака,
Над кучугурами тьмы –
Сеет-посевает чебрец,
Чебрец животворного лета.
На могиле твоей –
Высокое пламя дня.
-----
И чебрец, и день,
И солнца дуги-мосты –
Всё, что любила ты!
1.8.1933
III.
Размеренно тяжко ступали кони.
Ты лежала высоко и спокойно,
Неподвижна сама, ты вела всех.
Суровые люди шли за тобою,
И дети тоже провожали тебя.
По правую руку текло вечернее солнце,
По левую – липы сияли цветом.
К звукам музыки, тяжёлым, как железо,
Добавила свой лёгкий голос иволга,
И мои слёзы падали на дорогу.
И так пришли мы в странное поселенье,
Странное поселенье, где ни единого дома.
Нигде не видно высоких окон.
А только ветки колышутся и шумят.
Музыка смолкла. Замер свет.
Тебя подняли, тебя опустили.
И я целовал твою тихую руку...
Когда перестал мелькать заступ,
На холмик положили венок из клёна,
А в изголовье сосновый венок.
Вздохнуло солнце. Повеяло дыханье
Большой тишины.
13.8,1933
IV.
Ты вошла неслышно, как русалка.
Лицо тленное, опущенные веки.
Влажная земля в одежде. Ты сказала,
Насмешливо улыбаясь: – А морок,
Морока, труд горький – живую схоронить! –
Я вскрикнул и проснулся. Ночь стояла,
Ночь, полная шума и древней скорби.
И плакал я вночи. Ты так далеко!
Страшная земля в одежде... Так глубоко!
Та сосенка, приставленная к тебе,
Та сосенка завяла или живёт? –
Всё равно. Ничем она не поможет.
Не слышишь ты, засыпанная, как ночь
Сама в себе перебирает шум:
То положит его на дол холодный.
То поднимет снова на тёмные верховины.
18.8.1933
V.
Как похоронил я мёртвую голубку,
С тех пор начал её искать повсюду.
Иду полями – навстречу ветер
Синие полотна развевает на взгорке.
– Обойди пашню. перейди и вторую –
Ты можешь найти голубую бусину,
Что рано утром заря уронила.
Своей голубки нигде не найдёшь.
Твою голубку земля замкнула,
Сам же ровнял ты холмик над нею!
Иду я дальше – в лес вхожу.
Наполнился лес хмурою тенью,
Перелески встали в сияющем свете.
В лесу – камни, глухие отвека.
В лесу глупеют лисьи норы,
На склоне яра стал гриб-голубинка, –
Моей голубки и тут не видать!
Иду я снова – встречаю осень.
Осень проживает на поляне мёрзлой,
Вокруг двора золотой частокол.
Сама осень ходит подворьем,
Поднимает руки в пламенистых рукавах,
Окружает ветром, как большим кругом.
– Осень, осень, где моя голубка?
– Иди ко мне, стань под рукою.
Как тебя брошу на дурной вихрь,
Забудешь ходить, о голубке спрашивать!..
Солнцу сиять, рекам шуметь,
Мне, осени, хорошо гулять.
А могучему дубу долгий век,
А палой листве крик да стон.
А твоей голубке тихо лежать,
В янтарные очи тьмы набирать...
1933
* * *
Высохли рассвета росы,
И не пил я их.
А теперь... Лежат покосы
На полях пустых.
Но теперь росой вечерней
Смутно я упьюсь.
И в степи, степи безмерной
Тихо растворюсь.
* * *
Давно, давно тебя я жду…
Когда б увидеть ты могла,
Как радостно теперь в саду,
Как ярко мальва расцвела.
И ждут цветы тебя, как я…
Ведь я их для тебя садил
И для тебя берёг, растил;
Ведь это ты. любовь моя.
Дала им счастье бытия,
В своей далёкой стороне
Была им солнцем, словно мне…
А я, печалясь каждый раз,
В вечерний одинокий час
Рассказывал им в тишине,
Как образ твой сияет мне.
1912
Огонь
Положил на стены крылья вздыбленные
И, словно стрекоза на листке водокраса,
Замер. Я в тихом одиночестве пишу, а он
Навострил ушко срезанное и слушает.
Как друг, как верный сообщник, труд мой любит он.
Со мной дышит и со мной думает
И, только взволнуюсь я, вздрагивает.
Давно минула полночь, дикая тьма
Скребёт дверь ненасытным когтем.
Я изнемогаю, но друг неутомим.
Я приближаюсь. Добрый и доверчивый,
Он смерти не поддастся. Я дышу.
Земля содрогнулась. Тьма внезапно грянула,
Навалилась каменным обрушением.
Погиб он или быстрые крылья выхватил
Из-под тяжести – и скрылся без вести?
1932
* * *
Овевал долину вечер чёрный,
Иней густо одевал сады.
От криницы по тропе нагорной
Ты прошла с бадейкою воды.
Я сказал тебе слова привета,
Был ответом мне твой взор чужой.
Лишь искрил лучом, осколком света
Из бадейки месяц молодой.
* * *
Наберу я цветов в залесье,
Положу на твоём окне.
Как давно мы сходились вместе,
Чтоб отдать наши дни весне.
Перейдём мы дорогу и насыпь,
И нас примет сосновый бор.
И в лощине куст барбариса
Прошумит нам летучий укор.
Меж деревьев, высоких и тёмных,
Просочится заката медь,
Глушь лесная к мирам надземным
Поспешит улететь.
1.7.1928
* * *
П. Тычине
Как белый призрак, взлетели горы,
И много блеска в небесной сини.
И кипарисов тонки узоры,
И кипарисы сияют ныне.
Печаль укутав в тень золотую,
Останусь в волнах, в ультрамарине...
Мул колокольцем звенит, колдуя.
Печаль упрячу в тень золотую...
Поезд
Как ударит гудком из-за леса,
Вздрогнут ветки, качнётся земля.
Сотня кованых лап из железа
Под себя подминает поля.
Но над содранной шкурой оброка,
Над песками, над шрамами зла
Поднимаются зеленооко
Дети отчей степи без числа.
Разнотравья чудесны обличья.
Мягко светит Петров батог,
И вцепились в хвосты лисичьи
Черевички с кукушкиных ног.
Паутина вздымает несмело
Лёгких кубков молочный хрусталь.
Здесь все те, чей покой одолела
Сила плуга и заступа сталь.
А хозяин, что с чад степоволья
И сдирал, и сдирает оброк,
Награждает их скромною ролью
Соглядатаев гордых дорог.
1928
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Большого мира малые сердца...
К сердцу
Держись, большое, львиное, хмельное!
Пылай, багряный, средь зимы, цветок!
Даст Бог - с тобою я, а ты со мною,
ещё увидим утренний восток,
чтоб усмехнуться Македонцу солнца
и свежему девичеству зари.
И новых звонких обручений кольца
окликнут нас: умри, но не соври!
Вчера по небу галок миллионы,
горланя бодро, двигались на юг
вдоль розоватых дуг антициклона.
И зимний день был ясен и упруг.
И мысль мелькнула: заодно с тобою,
в едином ритме, в замысле Творца,
стучат, моё тревожное, земное,
под камертонной ангельской трубою,
большого мира малые сердца.
Я поднял из золота чашу...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Как плещет твой плащ химерный
Из ветра, тьмы и огня!
Прошла ты – и больше в мире
Нет ничего для меня.
Как очи твои бездонны! –
Заря и ночной звездопад.
И там, в темноте их карей,
Ветвится мой песенный сад.
Как нежно остры твои груди,
Едва лишь притронусь к ним,
Теряю и волю, и память!
И счастьем тревожусь своим.
Как тонко узки ладони,
Что, словно во сне, наяву
На лоб мне кладёшь ты, и снова
Тобою одной я живу.
Как плещет твой плащ химерный!
Как ясен очей огонь!
Как нежно остры твои груди!
Как тонко узка ладонь!
* * *
Брожу весь день то лугом, то в гаю,
Как дерево, вдыхаю запах лета,
В низине ключевую воду пью,
И глажу колос, полный зёрен света.
И так живу, как придолинный цвет.
Без замыслов, без дум и непокоя.
А что потом? Ночь властною рукою
Мне заслоняет осиянный свет.
Тогда иду я вдоль речной излуки.
Там стужей прикасается роса,
Как будто бы невидимые руки,
Ко мне из тьмы, и из Большой разлуки
Звучат давно немые голоса.
4.9.1939
* * *
Над Чёрным морем, на Коготь-горе,
Зацвели до зари чашечки голубые,
А в них стрелки карминного пламени.
До зари хмуро, туман и морок.
Только на море грохот и гул.
Тогда подумали чашечки голубые:
«Да будет солнце!» И всё засияло.
Теперь, волны, гомон умерьте,
Голубые чашечки придут к вам.
Вот идут они жёлтым накатом,
Одна за другой, не звенят, не веют,
Несчётно несут карминный свет,
Обложили море карминным светом.
1934
* * *
В полусонных покоях мещанки
За трухлявым и низким окном
Дни за днями, как перстни, теряю,
Над своим наклоняясь столом..
Подоконника лиственный морок,
Украшение стен – дребедень
И лоскутный истрёпанный коврик,
Погружённый в извечную тень.
Во дворе над густыми садами
Спеет облако – а на нём,
Словно шмель на черёмухе белой,
Грузнотелый устроился гром.
И велит уносить себя в поле,
Ближе к ладану нив яровых,
И качается на медуницах,
Ни листка не сминая на них.
Средь кустов бузиновых ночует.
И, играя с утра сам с собой,
Целый день беззаботно кочует
По светлыни, насквозь голубой.
У мещанки же ангел из бронзы
Трубным звуком, как перед судом,
Возвещает, что жизнь моя меркнет,
Как цветочный узор за стеклом.
1934
Были цветами
Я стал возле пригорка,
Ты там, где тёрна кусты.
Я поднял из золота чашу,
Свою, из сапфира, – ты.
Заклокотало в солнечном горне,
Вздрогнула телом река.
Твоё душистое дыханье
Коснулось меня, как рука.
Мелькали проворные зайчики,
Сверкали на белой коре.
Ты полнилась полуденным светом,
Я – вспыхнувшим на заре.
Задремали. Повеяла синеоко
Тень вечернего мира.
Лелю, ой, лелю! Закрыло нам чаши,
Мою – золотую, твою – из сапфира.
10.8.1930
* * *
Что странного, что улица пуста,
Что не поют под вечер те, кто молод?
Окно заледенело неспроста,
Ручейных вод завязаны уста,
И с топотом бредёт по полю холод.
А с вечера на куполе небесном
Я отыскать своей звезды не смог.
Знать, и вверху гремел буран железом
И повалил блестящий теремок.
1937
* * *
Туча с радугою и громом,
С грохотом, с чернопёрым дымом
Проползла тягуче мимо,
Как улитка со своим домом.
Тёмный остров похмуро помнил нас.
Голос горлицы был отрадой нам.
Тополиным настоем-ладаном
Тяжелело пространство, полнилось.
Мы искали к солнцу брода.
С нами шёл розоватый горошек.
Ты лукошка плетёный ковшик
На ходу погружала в воду.
Там лохматились тканей обманки,
Вились травы подводные зыбко,
Там туманились бурые рыбки –
Вековечных глубин полонянки.
Туча с радугою и дымом,
С молчаливой руиною грома
И там проползала мимо,
Как улитка с расколотым домом.
3.8.1932
* * *
Удилище в руке чуть покачнётся,
Горячий ветер в бересте шумит;
Блеснёт на дне рыбёшка позолотцей,
И заводь спит, как память сердца спит.
И сонный блеск голубизны приветной
Под тучами яснеет в глубине,
И чашечки кувшинок о заветной
Загадке дня рассказывают мне.
И я боюсь, что встану и пойду,
Плавучий лист руками разведу
И, доверяясь глубей притяженью,
Навек отдамся властному движенью.
Безмолвно погружусь, войду туда,
Где отразила небеса вода.
1936
* * *
Где б ни шёл я. всё то же самое
Перед взором моим предстаёт:
Башен старь, в запустенье фонтаны,
Золотые навершья ворот.
Но везде было пусто. Повсюду
Лёд на ветках хрустел, как стекло,
И, подобно луне, облик солнца
Шрамы смерти исчёркали зло.
И нигде не шумели воды,
Ни один не звенел листок,
И порывами лёгкими ветер
Ни один не сгибал колосок.
Звал я, не получая ответа,
И за каждым окном ждал тепла:
Нигде ни рука не блеснула,
Ни плечо, ни юность чела.
Я устал и упал. Я заплакал.
Всё сквозь сердце моё прошло,
Что любил я, о чём мечтал я,
Всё, что умерло и цвело.
И приснилось мне в угасанье.
В неподвижной печальной мгле,
Радуга – радость небу,
Девушка – радость земле.
1935
* * *
Лесе Чилингаровой
А ты не пришла. Одиноко
Я липовый цвет срывал.
И солнце прозрачным мёдом
Сочилось сквозь краснотал.
Я лёг и заснул. Проснулся –
И нет медвяного дня.
И только заря над гаем,
Как грива гнедого коня.
И липовый цвет в ладони,
Что сорван был не вдвоём,
Увял и усох, обожжённый
Горячим июньским днём.
Печально я шёл на запад,
Гнедые шерстинки искал.
И грезил тобою – и тихо
Увядший цвет целовал.
1932
* * *
Моя радость тиха и затеряна,
Словно ириса цвет в камыше.
Нет ей дара посева. Сквозь тень она
Самосевом восходит в душе.
И мерцает упорно и тайно,
Будто свет от зарницы в ночи.
Чья рука мне махнёт, хоть случайно?
Все дары мои – словно ничьи.
Я живу в обезлюдевшем тереме,
Не устав свой огонь зажигать.
Жду – но нет никого. Только, веря мне,
Сны о чуде приходят опять.
Всё пишу я на пепле счастья
Свою сказку-мечту про любовь.
И уносит безумства ненастье,
Но зову я их вновь и вновь.
Или звуки молитвенной музыки
Шлю словам, что ещё не сказаны,
Что взметнутся, как звёздные отзвуки,
Крепом полночи перевязаны.
1933
* * *
Вновь дует ветер северный в дуду
И гонит стаи снежных вихрей в поле.
Снегирь гудит, снегирь гудит в саду,
Как бесконечна зимняя неволя.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Подскажи, Всеблагой, подскажи...
* * *
Я прошёл всю войну, каждый день пропуская сквозь сердце.
Я прочёл нашу смерть, начиная с батыйских копыт.
Однодумцы мои, светложертвенные одноверцы!
Много помнит душа и от горького знанья болит.
Я прошёл чёрный год, где моих сыновей убивали.
Их пречистые лбы, их закрытые очи в гробах
вечной мантрой моей, неизбывной молитвою стали,
бесконечною болью, уже невместимой в словах.
Я прошёл злые дни, где лицо вероломного зверя
узнавал с удивленьем в жестокой его наготе.
И святятся гроба. И захлопнуты наглухо двери,
где зверёныши цифр, шестеря, присосались к звезде.
Что Ты скажешь, Отец? По Тебе ли кровавая тёрка,
по Тебе ли имперская спесь, вакханалия лжи?
Я прошёл - да не всё. Новый день - только льдистая корка
над провалом без дна. Подскажи, Всеблагой, подскажи!
Ты плачешь, Бог?..
31 декабря 2014
Уходит прочь жестокий год,
усыпав скверну почвы манной,
белейшей и благоуханной.
Застыл в анабиозе крот,
под мёрзлым слоем чернозёма
похерив Маркса до весны.
А снятся ль землекопу сны? -
Вопрос. Вот нам - не в радость дрёма,
те сны, где нам войной грозит
не слепота, так амнезия...
И, подняв веки утра-Вия,
я вижу: снег вовсю искрит
над чёрным месивом обид,
над павшими, что непростимы
вне срока давности веков.
О, племя вырванных кусков!
В летописанье да не иму
ни тени страха: Каин-год
поруганную честь ведёт
по замкнутому кругу мести.
А схожий с покаяньем снег -
давно замёрзший детский смех.
Ты плачешь, Бог? -
Мы плачем вместе.
И высветить сполна подобье Божье...
* * *
Памяти В.Свидзинского
и В.Борового
"Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана.-
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана -
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного..."
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,
прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, -
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...
Раба до раю не пускають...
* * *
Пам"яти
Василя Борового
Вже сорок днів, як на землі немає
кайданника й поета Василя,
вже янгол у руці кермо тримає
летючого, мов хмара, корабля,
що мав би з Василевою душею
Господньої дістатись висоти,
але ще плине над Донцем і Мжею,
повз церкви слобожанські та хрести.
Все плине, мов вдивляється востаннє
в жебрацький грудень на гріховнім тлі,
у яснотілі монастирські бані,
у грона гайвороння чорно-злі.
Там кривда, унизу, там зради й грати,
але чомусь вітрила корабля
біліють, сяють, як величні шати,
і попри грудень м"ятно віє Мати -
волошкова поетова земля...
грудень 2014
* * *
Іде війна, і старість підповзає,
і тягне за собою неміч-мотлох.
Та, мабуть, найважливіше я знаю,
бо Молоху не клявся в зграях-кодлах.
Бо й досі не позбувся щастя того
і не забув прозорого світанку,
де райдуга торкалась серця мого
на молодім післягрозовім ганку.
Я той, ким був в своїм досвітнім віці,
в передчутті вселенського розмаху.
Тож від часів метеликів й суниці
і кригу, й крицю зустрічав без страху.
Та наздогнало "братське" нас страхіття,
відвертість некерованого звіра.
І никне, жовкне безпорадне віття
над божевіллям вбивці-каноніра.
Смердить війна, і юна сила гине
від кулі, від луб"янської отрути.
Але ж життя героїв - ні, не сплине,
бо Трійця - іпостась їх триєдина:
серед живих та ще й прийдешніх бути...
грудень 2014
* * *
"Рабів до раю не пускають!" -
щосили вигукнув Сірко. -
Рабів, що в серці страх плекають,
що пили суче молоко
ще від колиски. Та й допились
аж до наруги трьох віків...
Не для рабів Господня милість
та хору янгольського спів.
Тож краще левом мертвим бути,
ніж сученям. Кремлівський хан
ізнов жбурне тебе під Крути,
під тричортові інші скрути,
пошитий в дурники Богдан!
Не за вишневу вишиванку,
за вічність вільної душі
молись досвітньо, бийся зранку,
юнак старка Сірка, Іванку,
най на останнім рубежі!
грудень 2014
День счастья, золотистый на просвет...
БЕЗ ФАБУЛЫ
День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь
недоброго осеннего разлива.
И синий взор метнул индейский вождь
сквозь листья клёна и косицы ивы.
И странно – вновь на сердце у меня
не поздних лет потери и разлуки,
но давних игр ребячья беготня –
из ясеневых веток копья, луки...
И полон предвкушением побед,
молниеносных и неоспоримых,
день счастья, золотистый на просвет, –
без чисел отрицательных и мнимых,
без имени, без даты, без примет,
без фабулы какой-либо особой,
он светит мне вовсю так много лет,
как будто он и я – бессмертны оба...
Перевод
на болгарский язык
БЕЗ ФАБУЛА
Денят просветна. Секна мощен дъжд,
дан в есенните разливи изпрати.
Син поглед метна индиански вожд
през клена и косите на върбата.
И странно – сред сърцето ми гори
не за раздели и тегоби огън,
а споменът за детските игри –
за лъкове от ясенови клони...
И пълен е с победи в бъдна вис,
мълниеносни и неоспорими,
денят щастлив след изгрева златист –
без цифри отрицателни и мними,
без имена, без дати, без рефрен,
без фабула особена да свърта,
той толкова години свети в мен,
че сякаш той и аз сме тук безсмъртни...
Перевёл на болгарский
Красимир Георгиев
В середине декабря над горизонтом...
Яжембяк
В середине декабря над горизонтом
еле-еле поднимается светило.
Пару рюмок пропустив опрокидонтом,
понимаешь - будет то же, что и было.
Будет то же, что вчера, но всё же больше,
чем за окнами вполглаза различимо.
Пенькна пани пьёт яжембяк в зимней Польше,
да и здесь рябина демосом любима.
И особо, если спиритус коньячный
растворит в себе её горчащий привкус...
А декабрь стоит заснеженный и смачный,
хоть обычно в это время - накось-выкусь
в смысле праздника сверкающего снега,
в плане шанса полюбить и быть любимым...
В эту полночь года альфа и омега
спят, как ящерицы в грунте, в мире мнимом.
В середине декабря в похмельном небе
мутно солнце, и лицо его багрово.
Мысли гложут - о квитанциях, о хлебе.
Чуть отгонишь - подгребают сбоку снова.
За окном - студёный век, не кватроченто,
время льда и задубевших в тине раков.
Вспоминаю я яжембяк и зачем-то
королевский, на горе шляхетной, Краков.
И понеже суть рябиновки янтарна,
я доверюсь её влаге-оберегу.
Пани - пенькна, а и наша девка - гарна!
Каблуком хрустит по свадебному снегу.
* * *
Притчи Борхеса, Хорхе Луиса,
плошка риса, полчашки маиса.
И чего тебе больше, бедняк?
Разве склянку зелёного зелья?
Так оно ведь давно не к веселью -
то к депрессии, то аж никак.
Притчи Борхеса, мачо слепого,
золотое кастильское слово,
аргентинской травы серебро.
Парацельса целебная роза...
В жилах Цельсия - тридцать мороза
на равнине, сломавшей ребро.
Здесь, в краю беззаконной развязки,
где из лыка и марли повязки
лешаку и лишенцу - к лицу,
ляпну снега на рваную рану,
в серый полдень пальну из нагана
и на лыжах махну по Донцу...
Карки Цахеса, карлика злого,
исклевали сердечное слово.
Ворон рвёт огневую лису.
Что осталось мне? Хлеба ковригу,
стыд в глазах и о будущем книгу
в конуру на ночь глядя несу.
Притчи Борхеса перечитаю. -
Не витийствуя и не витая
в эмпиреях, мудрец повторит,
что Содом - некритический случай,
если выжил в нём некто живучий -
или праведник, или же лучше:
грешник, но не утративший стыд...
Но пощады не проси...
Бодрые песни
лихих времен
1. Путь по зиме
Лобовым стеклом тараня
полуночный снегопад,
с былью о пути-тиране
вновь сживаюсь наугад.
Что за прок мне в гиблой гонке
по дороге ледяной –
сон ли мужа о ребёнке,
стон ли стали под сосной?
Неуступчив снег колючий,
но опять я тыщу кил,
не прося подмоги щучьей,
выжму из железных жил.
Правда вскачь – Руси царица,
всадник-ум – советчик наш.
Оттого ль тебе не спится,
мой помятый экипаж?
Оттого ли мы средь мая
по простым цветам земли
Женю, Диму, Николая
на три кладбища снесли?
Я о них, погибших, плачу –
о товарищах моих.
Но нисколько не иначе
кривда бьёт живых под дых.
Кривда – русская дорога,
рвов и рытвин кутерьма,
вседержавная тревога,
жизнь взаймы и задарма.
Есть остаток благородства
в гонке по буграм Руси.
Умирай или юродствуй,
но пощады не проси!
песня -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/put_po_zime/8-1-0-410
2.
Сглазили мои глаза,
выжили меня из жизни.
Три валета, два туза
усмехнутся мне на тризне.
Друг на полчаса придёт
помянуть упрямца Божья... –
Проворчит ли кислый рот,
что на дело был не гож я?
Что безделицею рифм
был я хвор неизлечимо
и возвысил звука миф
самозванно и бесчинно?
Но биограф будет тих,
ибо вслух не молвишь внятно
всех имён существ живых
с тех бумаг, где кофе пятна.
Он-то знает, брат чернил,
что совсем не блёстки буквиц –
тёплых птиц я находил
на камнях промёрзших улиц,
что с любовью в дом вносил
с холода бездомных тварей
что щебечет, полон сил,
мой посмертный бестиарий...
Не чернила – кровь жива
метит каждый лист архива.
Вот и все мои права.
Славься, праздник Покрова,
здравствуй, усмиренья диво!
песня -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/quot_sglazili_moi_glaza_quot/8-1-0-402
Вспоминаю тебя...
15 декабря 2014 года исполняется двадцать лет со дня смерти
большого русского поэта Бориса Чичибабина.
В разные годы мной написано немало стихотворений, посвящённых всегда живой для меня памяти о моём старшем друге.
Обращаюсь к нему не то чтобы за советом, но за тем немеркнущим светом достоинства, человечности, добра и совести, которым всегда светились его глаза.
Помещаю здесь сегодня два своих стихотворения. обращённые к Борису Чичибабину, и ссылки на песни, написанные на эти стихи.
"Вспоминаю тебя, вспоминаю..."
* * *
Борису Чичибабину
Доживём до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживём. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. –
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намёк:
он – и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счёт грехам он забыл, и ничто не идёт ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник – прохлада дождя на горячечной ране –
да по небу прочерченный птицей рифмованный след. –
Нас не предал лишь свет безымянный – на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам ещё триста лет.
Дотужим до весны – там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зелёном, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
2003
песня -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/quot_dozhivjom_do_vesny_quot_b_chichibabinu/8-1-0-397
* * *
Борису Чичибабину
Вспоминаю тебя, вспоминаю
первородный пшеничный твой лоб.
До отказа гранчак наливаю
на скрещенье кладбищенских троп.
Два Завета, Матвея и Марка,
разделяет сорочье перо.
Синим пламенем брызгает чарка,
продирая теплынью нутро.
Катит солнце, как прежде, с востока
по дуге великанского дня.
Без упрёка, без звука, без срока
ты, всё тот же, глядишь на меня.
В две щеки, обжигая щетиной,
целовал, словно рифму даря.
Почивал на челе паладина
спело-яблочный свет сентября.
Ты и есть – тот полынный, небесный
рокот, лепет, родной и ничей,
человече, помеченный бездной –
чёрной дыркой меж синих очей.
Князь ромашки, репья и бурьяна,
привечая у стремени гридь,
целованьем, ни поздно, ни рано,
нагадал мне – навзлёт говорить!
Ты и есть – там, у зимнего края,
рать холщовая, пешая знать.
Плеском листьев тебя поминаю:
Божье лето – для птиц благодать...
песня -
http://seshel.ucoz.ru/publ/audio_video/pesni_na_stikhi_avtora/quot_vspominaju_tebja_vspominaju_quot_b_chichibabinu/8-1
Опять всё те же теги на манеже...
1.
* * *
Когда-то пил я красное вино,
и красна девка жизни моложаво
пила со мной охотно заодно
на фоне шахт заржавленной державы.
Империи раскольница-весна
железом по стеклу отскрежетала.
И стало враз понятней: жизнь – одна,
как каланча у Южного вокзала.
И стало ясно: бобику – хана
средь шлакоблоков и дорожных знаков,
когда волколюбивая страна
с цепи спустила свору вурдалаков.
Ограбили тебя, его, меня
и наших чад до нитки обобрали.
На фоне торга слякотного дня –
теплей пыхтит эпоха варки стали...
Как минимум, там молод на все сто
поэт Аркадий в кепке из ратина,
и Эд Лимон в бостоновом пальто
выходит из пустого магазина.
И сам я, птичьих пушек канонир,
в рубахе, рассупоненной на вые,
еще не в курсе, что застал сей мир
опять в его минуты роковые.
2005
2.
Опять всё те же теги на манеже:
"братоубийство", "хунта" и "орда".
И воздух всё удушливей, понеже
чадит-чудит над площадью звезда,
под коей Дугин-хряк и хорь Лимонов,-
на всё, про всё талантливый трепач,-
из мрака, из утробы миллионов
вещают, как священно прав палач,
который в радиоактивный пепел
хохлов и прочих негров обратит...
И хряк урчит и петушара-петел
трещит, давным давно забыв про стыд.
Ещё вчера, взбодрённый "леткой-енкой",
кроил он брюки для стиляг Сумской
и, Эдом именуясь тут, Савенкой,
слагал стихи с нетутошней тоской
о некоем тягучем постулате,
сгущающем в державность кровь и смысл,
дабы теперь на нём, безродной знати,
на харьковском портном-аристократе, -
с конвойным-батей в буром маскхалате, -
сошёлся клином хаос мёртвых числ...
1.12.2014
Здесь, вдоль улицы злой и горбатой...
1.
Киев
Питер мечен костями, Москва – разливанною кровью,
а в Софийской свече оплывает расплавленный воск.
Даже если уснёшь, подлетает тоска к изголовью
и заточенным клювом голодным впивается в мозг.
Питер – в чаде болот, над Москвою – пурга-завирюха,
а по нищему граду когда-то великих князей
неспроста протащила клюку да котомку старуха
и прошамкала рваною пастью: «Чекайте вестей...»
Это был белостенный, судьбою возвышенный, город,
где над зеленью круч золотились шеломы ворот.
А сегодня змея лихоимства скользнула за ворот –
и никто в нём не чист, и по правде никто не живёт.
Если б мог я не знать, не любить... Не приклеиться кровью
к приснопевчим твоим временам, письменам, именам,
я б не видел в упор проглотившего совесть сословья,
и очей бы не ел мне базарный твой, шкурный, бедлам.
Снова сердце мне рвёт едкий запах библейской полыни,
известковые лики тобой не спасённых детей.
О, как зря Иоаннову слову не внемлешь доныне! –
Ибо в нём для тебя откровенье: «Чекайте вестей...»
Если можешь, очнись у черты небывалого мора. –
Снова Бог твой утоплен тобой в почерневшем Днепре.
Покаяния нет. Хруст и рыканье волчьего жора.
И хрипит вороньё на кресте о батыйском костре...
1993
2.
Улица Героев
Небесной Сотни
Вьётся кругом над Киевом вьюга,
снежным ветром сечёт мне глаза.
Хеви-металл и Бахова фуга
окликают навылет друг друга,
и ни ноты исправить нельзя.
Словно всё, что теснило, ломало,
душу тысячу пагубных лет,
вновь над мёрзлою почвой восстало -
просвистать сверхсекретное: "Мало,
мало смерти, предательств и бед..."
Здесь, вдоль улицы злой и горбатой,
что ни шаг - то надгробье, то крест...
Распростишься с кровавой ли ватой,
перекупщик, торгаш вороватый,
Киев-фест, петушиный насест?
Распростишься ль с дырою-ордою,
с чередой ненасытных царей,
со своею позорной уздою,
с рабской ложью и ленью своей?
Брат ли Каин крадёт моё имя,
изгаляясь и род мой черня? -
Над казнёнными здесь молодыми,
над сынами моими живыми
крепнет святость Большого Огня...
1.12.2014
Но Бог простит тебя, меня, всех тех...
Первый снег
В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли - но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.
Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признанье мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.
Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я - мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...
Инет
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице - контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, - с прорехой в перикарде, -
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением - в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице - фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа -
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
* * *
Cтало трудно радоваться снегу,
а ведь раньше белый свет любил!
Снежнохолмий альфу и омегу
изо всех отважноглазых сил
чтил-читал. И по зигзагу зайца,
сбросив лыжи, мчался полем вслед...
Жаль, зрачку мальца, огню-бенгальцу,
в нынешнем раскладе места нет.
Ямбу снегопада выжить трудно.
Разве что по скользанке шальной
всё ещё снуют зеркально-смутно
школяры, чей снежный мир больной
исчезает над багровой крышей,
под которой Голем, Бренд и Тренд,
на ведьмачьей сходке нуворишей
добивают смысл, отгомонивший,
и идеей назначают высшей -
гроб ваплёный, шоу-секонд-хенд...
Словно заснул на минуту в пути...
* * *
Вновь подступает средь ночи зима,
белым ложится на чёрную землю.
Равною мерой, что будет, приемлю –
посох ли посуху, сумма ль – сума.
В мокрую глину, в ноябрьскую стынь
падают конники и пехотинцы.
Мёртвых венков – ярко-дики гостинцы.
Я бы хотел к изголовью – полынь.
Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну – и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...
Перевод на сербский
язык
* * *
Опет стиже усред ноhи зима
белим леже на црно теле шум.
Равном мером све што буде примам -
кап, штап, канап, ум ил друм ил хум.
Под новембра лед, у глину иду
коньаници и пешаци смели.
Венци мртви - дивльи дар у виду.
Jа бих хтео за узгавлье - пелин.
Молио бих за помен тек жуту
пелинову гранчицу, над ньивом.
Продисаhу - без туге, саньиво.
Ко да навек не изгубих живот,
него заспах, за тренут, на путу...
Перевёл на сербский
Вдадимир Ягличич
Поскольку так из века в век ведётся...
* * *
Ища тепла в родном гиперборее,
устану я и с тем легко смирюсь,
что в чаще молочая и пырея,
где на ночь спать ложится ветер-грусть,
зарыл я в почву горсть живучих зёрен,
которые прорвутся, прорастут.
И - будь хоть трижды сеятель оспорен -
неоспоримый статус обретут:
ведь кто-то станет ивою Ивана,
а кто-то Авраамовым стволом.
Что есть одно и то же. Поздно ль, рано,
мы все узнаем подлинно о том.
И я проснусь. Увижу дом свой белый,
узрю зелёный первородный сад.
Промытый ливнем воздух яснотелый -
то царство, где над почвой погорелой
белопрестольно яблоки парят.
* * *
Не впишусь в извив дороги ужьей,
хоть мне кол на темени теши!
Веку же - не в масть великодушье
вкривь и вкось расхристанной души.
Да и Божий Сын совсем не в жилу
времени двуклеточных барыг.
Если что мне лоб и освежило,
это ливня юнольвиный рык.
Троицы июньской громыханье
над молочноспелой муравой.
Вслед грозе есть лёгкость покаянья
в воздухе, и есть над головой
столп незамутнённого озона,
верткаль, влекущая туда,
где зачаты мы во время оно,
может быть, для боли, пусть для стона...
Но не для кромешного стыда!
* * *
Вот ты меня с другим пришельцем спутал
и меж очей воткнул мне пистолет.
И дрогнул, и поплыл часовни купол,
и стал нездешним предвечерний свет.
Но сам я не спешу. И здесь, в июле,
меня спасёт мой ангел-бодигард.
И он в стволе твоём заклинит пулю,
и волчий хвост обрубит - вражий фарт.
А вскоре жди: кусок свинца вернётся
к тебе - одной из самых верных трасс,
отвесом вертикального колодца.
Поскольку так из века в век ведётся,
что должен выжить лишь один из нас.
За то спасибо, Тёплый Плёс..
Три фрагмента
1.
* * *
За то спасибо, Тёплый Плёс
под синеокою Полтавой,
что прадед вдоль судьбы шершавой
тащил, с волом на пару, воз.
В тоске не сгинул и в вине
и, чуя крылья за плечами,
не сдался доле. И ночами
молился звёздной вышине...
Спасибо, жизнь, за три восьмых
моей великоросской крови
и пять восьмых моих любовей
из белых мазанок босых,
за поцелуи алых мальв,
укрывших стены рушниками,
за бунчуков казачьих пламя
и чернокосую печаль,
за тишь венков и плавность бус
напевно-чистой мовы дивной,
где сквозь озёрные глубин
белеет Киевская Русь.
1983
2. При дороге
В 33-ем году на икону
положили, младенца, тебя
и у шляха полынному лону
возвратили... Уже не скорбя.
Ибо мать и сестра не вставали,
батьку в глину свезли, за овраг,
и все хаты давно порубали
на баланду костлявых собак.
Положили тебя в придорожье,
в Слобожанской солёной пыли,
чтоб Господь и случайный прохожий
над тобою склониться могли,
чтоб седая душа Украины
над тобой зарыдала на миг,
неповинно казнённому сыну
заглянув в нерассказанный лик…
Небом правишь ли, кривда земная?
Средь степи, в людоедском году,
cмотрит с л е п о Мария н е м а я.
Поднимаю дитя, поднимаю –
и по веку, г л у х о м у, иду...
1987
3.
* * *
Тоді ти вийшов на Майдан.
І ось сьогодні, рік по тому,
і полум*ям, и димом лан
повзе до вікон твого дому.
Здається, ось вже спалахне,
і мариться - нема спасіння.
Але ж зворотнім вітром тхне
відважна гіркота коріння.
І тут, де прадіди лягли,
щоб залишитися собою,
дай Бог, аби і ми змогли
жертовного дістатись бою.
Примари хижої орди
ще топчут Крим і схили Сходу,
але вже ти - не просто ти.
Ні, крізь усі земні суди,
крізь всі затьмарені світи,
ти - рух, небесний рух свободи.
2014
И звучишь ты надеждой во мне...
* * *
И.Б.
"Хорошо пахнут детские волосы" -
беспорочностью маленьких птиц.
Знаю, Бунин, - и едкости голоса,
и занозистых острых зениц
дух-мудрец твой - моложе, приветнее.
И звучишь ты надеждой во мне
над химерами дня-междометия,
над горящими в судном огне
сновиденьями падшего времени...
Сладкой речкой ребячьих волос
пахнет детство заблудшего племени,
огорчённого бесом всерьёз.
Ты, прошедший сквозь "дни окаянные",
мог ли знать, как опять, через век,
те же зенки, несытые, пьяные,
из-под Виевых выстрелят век?
Ты, влюблённый в певучую вольницу
Украины, Эллады славян,
мог ли ведать, как лжёт, как заходится
в злобном раже лубянский пахан?
И лишь раем мальчишества волосы
веют, - пижма, ромашка, пырей, -
там, где Каин - на танке без тормоза,
где кровавы закатные полосы
над бессонницей неньки моей...
За окном – ноябрь и морось...
* * *
За окном – ноябрь и морось. Снег срывается и тает.
Сизари на свежей жиже клинописный росчерк свой
оставляют. Если пара, тройка душ тебя читает,
надо думать, сочинитель, ты – по-прежнему живой.
Надо знать, что будет утро. Не спеши, мой брат по вере,
ставить крестик, ножки хером, отпечатки зябких лап
на странице теплокровной. Затаились в спячке звери –
зимний обморок рептилий, кома ящериц и жаб.
Но твоё-то бьётся сердце – вот и в мёртвую погоду
звук держи над амнезией землероек и кротов!
Ни любезен, ни полезен сроду не был ты народу,
нет „exegi monumentum” в предрассудках городов...
Но любовь – да будет длиться! Длись открытостью гортани,
отдавая граду-миру незаёмные слова.
Круглолобый, как читатель, сизый голубь, весь в тумане,
сел к тебе на подоконник. И душа – жива, права.
Перевод на болгарский язык -
* * *
Зад прозореца – ноември. Сняг се смъква и топи се.
Гълъби калта обхождат, драскат клинопис красив.
Ако двама, трима души твойте размисли прочитат,
съчинителю, повярвай, значи ти си още жив.
Да се знае: има утре. Ти не бързай, брат по вяра,
кръст да сложиш, хладни лапи, щампи от студена кръв
в страницата топлокръвна. Дреме в зимна дрямка звярът –
за припаднали влечуги, гущери и жаби стръв.
Но сърцето твое бие – ето, в мъртвото ни време
над амнезиите гъгне изкопаемата гад!
Ни приятен, ни любезен, за народа безполезен,
без „exegi monumentum” тъне в предразсъдък град.
Ала любовта – остава! Нека зов да продължава,
на града-всемир да даваш не на заем думи ти.
Кръглолоб като читател гълъб сив в мъглата плава,
на перваза ти се мята. И душата там блести.
Перевёл
на болгарский язык
Красимир Георгиев
Ибо царь - мерзей, чем прокурор...
* * *
Грузовик на "зебре" смял старушку
и рванул вперёд что было сил...
Дайте Александру в руку кружку,
бонус пунша Пушкин заслужил. -
В лоне рабства пел и звал свободу,
милость к падшим рифмой окликал.
Жаль, при этом драйвера-урода
код да Винчи так и не догнал.
Вот и "мерс" под знаком снёс пиита,
ибо царь - мерзей, чем прокурор,
ибо, с ярким флагом содомита,
мир не видит совести в упор.
Сколько ж нас, последних, остаётся,
молокан, акынов, могикан?
Тонко, больно, горько. Но не рвётся,
то, что марлей вьётся, что поётся
там, где смерть длинна от ранних ран.
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?..
* * *
В который раз, фантасты революций,
похмелье нас ухватит за кадык,
и вёрткий, в макияже власти, фрик
из опций нащипает самый куцый,
беспомощный набор увёрток, схем,
законов, неуклонных, словно дышло.
Как было прежде, так и снова вышло:
так бес поганит жертвенный эдем,
так лодка, где убитые герои,
расстрелянные в двадцать, грозно спят,
повёрнута рукой измены вспять.
В Иуде и Шумер шумит, и Троя.
И точит жар Шекспирова зола,
где Лир-отец в бесчестии мятётся.
А мародёрство богдыхану зла
зачтётся ли? Предвижу - не зачтётся.
В тринадцатом витке - хлопок крыла.
Была ль планета? Помнится, была...
Никаб
Люля-кебабу я по-свойски рад,
но ляля плюс никаб почти зловеще
стыкуются. Похоже, в краткость вещи
включён причин и следствий долгий ряд.
Сквозь щель никаба – Вавилон, шахид,
шумер, Искариот и цезарь Тит,
смешавшись, словно в дьявольском коктейле,
сулят семь чёрных пятниц на неделе.
Да так, что брезжит в ближней параллели
усач Усама, олигарх-скиталец
с оленьим грустно-масляным зрачком, -
любовник смерти, чей не в силах палец
со спуском «Калаша», с курком-крючком
ни наяву расстаться, ни во сне…
Бен Ладен с молодой женой в никабе. –
Как живо входят в мой расклад оне!
И чёрный автомат на чёрной бабе
всего лишь длит багровый ток знамён
кровоточивых, - всклень моих! – времён…
Когда-то с «Калашом» на юной вые
я клятву Красной армии давал.
Но грянули откаты роковые
с её кончиной. Чернозёмный нал
вовсю питает корни паханата.
Трещит душа по швам, а с краю хата
куриной лапой рвётся мне в карман,
поскольку волчий криминальный клан
удавкой дожимает коммунальной
свой люд – овечьих, видимо, кровей...
По дедовской шкале, по пятибалльной
кол пишется чернухе смутных дней
сообществом, чуть бурого окраса.
Но в целом масса без боеприпаса
не в силах одолеть сама себя,
подспудно, вдоль генетики, любя
своё же вековечное холопство…
Усама же приносит неудобства
Всем тем, кто сам с усам, кто по слезам
спешит в шузах из кожи страусиной.
И мне всё чаще снится кол осины...
И прав Коран: достойней во сто крат
безбожия, стяжательства-уродства,
достойней беспредела – шариат!
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?
И что никаб? – В очах его: «Свят, свят...»
Я молюсь. Но не минуть огня...
1.
Что ломиться в раскрытые двери,
что по воздуху бить топором?
Меж людьми не осталось доверья,
и бессилен безогненный гром.
Жаждут молнии грешного крова.
И в предгрозии Судного дня
повторяю повинное слово
"Я молюсь. Но не минуть огня..."
2.
Прогневил я, видно, Господа.
Да и как не прогневить?
Ноги сбив о землю досыта,
шёл я вброд и рвался плыть.
Не смирялся всё, упорствуя.
А вольно бы — сизым стать,
зоб набить пшеничной горсткою,
прогудеть про благодать.
А не то — прильнуть сучарою
к голенищу палача,
жить вовсю игрою старою -
рушить головы с плеча...
Да с башкою волкодавьею
и с метлою у седла
проскакать Святою — славь её,
чтоб себя пережила!
Только вслед дождю небесному,-
глубь любил я, а не прыть,
мнил я миру полутрезвому
«да» и «нет» не говорить.
Вот и взят по праву ржавою,
тёмно-бурою землёй,
пятернёй её шершавою
с фиолетовой змеёй...
Прогневил — секи по проседи,
отдери от кожи стих!
Но не мсти — не тронь, о Господи,
малых порослей моих! -
Сбереги мне чистолистное
теплокровное дитя,
ветродуями и свистами
в буерак меня сметя.
Плоть противится закланию.
Но в суде Твоем смолчу,
протяну в чернилах длани я
дознавателю-врачу.
И в утробе, и во гробе я
не мину твоих теснин.
Вот он я — Твоё подобие,
Господи! Земной Твой сын.
3, Настурции, Луганск
Пять лепестков – настурции воронка.
Как нежно, пряно пахнет плоть её!
Она – из тех, не рвущихся, где тонко,
из защитивших прошлое моё.
Одной безмолвной вспышкой миновало –
и не поверишь! - шесть десятков лет.
И, как в речёвках смысла не бывало
все годы, так его и ныне нет.
Трещали, врали, били в барабаны
о братстве, о всевидящем Отце,
чтоб шли сегодня на убой бараны
при полководце, волке-подлеце,
чтоб там, где ты вела меня вдоль сада,
вдоль радуги, кормилица моя,
дымились клочья смысла, мира, града
и очи юных ела бы змея.
Но вижу мой Луганск, настурций грядку
в том первородном Марфином саду...
Когда ж нас всех уроют по порядку,
я грешной тенью в этот рай войду,
где светит мой цветок горячим оком
и шепчет клятву самых верных губ...
Как пахнет счастьем, горьким и далёким,
его кровящих лепестков раструб!
И зной времён течёт без перемен....
* * *
С окрасом зебры, с тонкостью жирафа,
с павлиньим оком понизу крыла,
мой парусник летит, и август Кафы
колышет у посудин вымпела.
Здесь на отшибе, у дворца Стамболи,
у минаретов и узорных стен,
тихи сады, от моря веет солью,
и зной времён течёт без перемен.
Ну, разве что торгаш, хозяин-барин,
не уберёг под феской головы. –
На то и век – не больно лучезарен,
бесстыж, разбоен, мерзостен, увы...
Жар неподвижен. Время – густо-медно.
От кофия слипаются глаза.
Но, суре вслед, орнаменты заветны,
и не повсюду сбита бирюза.
Снуёт мой махаон, цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не падший взор звезды падучей,
и я б летал. Хотя бы между строк.
* * *
М.
Потом, когда по гамбургскому счёту
возмёшь ты в руку синий карандаш,
опять, штрихом, индиговую воду
плесни вживую на песчаный пляж -
на белый берег с молотой ракушкой,
где в полный рост подросток загорел...
Туда, где время сломанной игрушкой
притихло меж упавших навзничь тел,
где от тандыра в срок везёт лепёшки
татарин на рыдване-"москвиче",
где не скребутся, лишь мурлычут, кошки
в окукленном сознанье. На плече
играет зайцем август Казантипа,
и с каждым часом - меньше, меньше дней
до финиша замедленного клипа,
где радость, стрекоза и цыпа-дрыпа,
искрит крылом над россыпью камней...
Дед Андрей
Пудовую шишку атласского кедра
беру за трояк у добытчика-деда.
Хмельным усмехаясь, единственным, глазом,
товар разложил он у белой турбазы.
Как орден небесной атласной подушки,
изысканна тяжесть атласской игрушки.
Да как же ты взял поднебесную кассу,
налетчик замшелый, не трезвый ни разу?
Не делится Нельсон секретами фирмы,
то что-то мурлычет улыбчиво-мирно,
то снова про бабку-отраву бормочет
и смертью клянется, что нет уже мочи...
Ну что ж, прибралА она деда Андрея,
что сизой щетиной дразнил брадобрея.
Остались парЫ алкоголя и риска,
торговый пятак под свечой кипариса...
И в зимы страна золотистого дыма
приходит ко мне из далекого Крыма. –
О белая юность! Все пьет у турбазы -
июль на разлив твой пират одноглазый!
Её глаза доверием лучатся...
Из "Собачьих сказок"
1.Старый пёс
Зазывы утиного кряка
слышны далеко над водой,
и ящериц ловит собака,
прибрежной шурша лебедой.
Завидую – как беспечален
стареющий трёпаный пёс!
И даром, что хвост измочален,
и розовый шрам не зарос.
И даром, что умную морду
корёжит, у губ, седина,
что костью хребтовою твёрдой
уже не хрустит старина.
И даром – репейное поле,
собачья бездомная быль
насыплют на ссадину соли,
на зубы – скрипучую пыль...
Не сыт, а зато не стреножен!
Куском да пинком не пленён.
И, злыдням назло, – всё не гож он
на корм для лохматых ворон!
Вот гнутые месяца рожки
всплывут из полночной воды –
и вздрогнет дворняга сторожко
под боком у колкой скирды...
2. Ночная просека
Если бы лунный надкушенный грош
не укатился за озеро крыжня,
если бы Старой Медведицы ковш
не зацепился за сосны неслышно,
если б над просекой крылья совы
не заметались в разбойничьем мраке,
жутко касаясь пером головы
рядом со мною бегущей собаки,
если б не это бродяжество в ночь
вместе с ледащей дворнягой Дунаем,
если б не тени разлапистых порч,
что на рассвете едва ль замечаем...
Чур меня!
Я и не знал бы о том,
как ясноглазы огни-домочадцы,
как хорошо – в человеческий дом
из темноты наконец постучаться...
3.Чудо о Сатурне
Сатурн привиделся зеленым –
с настольною на небе лампой...
Над клеверным волнистым склоном –
зеленые глазища ламы.
Еще причудился прохладным,
как утренняя речка летом.
Из глины высверкнули ладно
два зимородка над рассветом.
Еще – его трава похожа
на школьный двор среди каникул,
где сонный пес, с простецкой рожей,
беззлобно на мальчишку цыкал...
И вот, среди июля, что ли,
пригреешься с лохматым дурнем. –
И пусто, солнечно, и воля,
и зелено, как на Сатурне!
4.Лада
Как славно улыбается собака,
восточно-европейская овчарка!
Хоть эта раса очень схожа с волком,
и морды их - ну, на одно лицо...
Как честно улыбается собака,
чистейшего чепрачного окраса, -
приветливая преданная Лада
на стройных золотящихся ногах!
Как умно улыбается собака,
с клыков язык потешно свесив набок!
Её глаза доверием лучатся
и многое умеют рассказать...
И говорят они: "Я понимаю
не только "фас", "апорт", "вперёд" и "рядом".
Мне ведомо и большее - иное...
Но главное, я очень вас люблю!
А ведома мне времени жестокость -
всего десяток лет живут собаки.
И хворую дряхлеющую суку
хозяевам в квартире не стерпеть.
И потому приходит мрачный доктор
и в душном "чёрном вороне" казённом
смердящую от хвори животину
увозит - по науке усыплять.
Как верно то, что в школе будут дети,
к которым я за долгий век привыкла.
И ваш укол в бедро иглой гуманной -
бесспорно мудр...
Я очень вас люблю."
Родной асбест и антрацит откашляв...
* * *
1.
Пока я в скафандре летал на Луну и обратно,
ты делал негромко большое и нужное дело:
в аренду сдавал нефтяные и белые пятна
и нежное грёб - земляника со сливками - тело.
Покуда мой горн золотился на синей ступеньке
и утро трубил вертикально во здравие неба,
ты в рост отдавал мертвецами пропахшие деньги
и ставил азартно на скупку металла и хлеба.
Как всё это - дико-обвально, неправдоподобно:
ты выел мой мозг и растлил мои лучшие ноты!
Удобно ли в «Мерсе» тебе за бронёю? - Удобно!
Совпали твои и убойного века частоты...
Нет ЗАхера глуше, чем недоуменье обиды,
и МАзоха нету черствей, чем засохшие краски.
И воздух усох, и осыпались кариатиды,
и с кожей маржу чикатилы дерут, дерипаски…
2.
Полковнику не пишут даже мыши. –
Кому он нужен, старый хрен моржовый,
он, кто опять на кухне лепит вирши,
согрев нутрянку бражкою дешёвой!
Никто не пишет сивому старлею,
в холерный год дававшему присягу.
Власть, – выскоблена бритвой брадобрея, –
всех стриженых опять сведёт к оврагу
или в посадку. Скажет: «Так и было!»,
навек под спудом заховав архивы...
А всё ж и нас с тобою жизнь любила –
ночами своенравного разлива!
И потому, старлей мой, пеший маршал,
мы и без войск пробьёмся, без оружья.
Родной асбест и антрацит откашляв,
опять с утра схвачусь за дюжий гуж я.
На здешних перегноях не случайно
зернистая живучесть колосится.
Не зря на тёмных перегонах тайна
за каждым кадром Режиссёру мнится.
Но, смог вдыхая, выдыхая звуки,
уже не жди известий – мэйлов милых
о том, что будешь взят ты на поруки
среди немногих, любых ли, постылых...
3.
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике – вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках – и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает – про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз – людоед, самодур.
По сараям – чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам – сёла. Промежду сугробов – кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай поскорей, мой сынок!
Ветер, ветер, умник улиц..
Порыв стужи
Ветер студёный шальной налетел,
наколотил яснобоких каштанов. –
Словно плоды марсианских баштанов,
светятся россыпи глянцевых тел.
Ветер внезапный, богемная блажь,
дерзкою стужею брызжет на листья,
треплет ветвей многоцветные кисти,
рыжим крылом вырезает вираж.
Кличет, бродяга, всю голь на гульбу –
и багреца, и цыганского злата.
Стынью, немением чакры во лбу
осень его, перед казнью, богата...
Травы охрупчит студёная тишь,
остекленеют до Пасхи лягушки.
Заиндевелых каштанов игрушки
стащит в нору острозубая мышь...
* * *
Ветер, ветер, умник улиц!
Я люблю тебя, истца
и творца воздушных буквиц,
симфониста-игреца.
Как ты в свисте ритмы ищешь,
как ты, с хрустом, ветки рвёшь!
Ни одной железной крыши ж
без хард-рока не минёшь.
Я и сам - твоей породы:
то норд-ост, а то зюйд-вест.
Ливнем нежу огороды,
всласть листаю палимпсест,
то есть, книжицу такую,
где пергамент поскоблив,
поверх мая я рисую
август, яблочный налив.
Где над юностью неверной
"дождь" и "даждь" я рифмовал,
наживая эфемерный
ямбов-яблок капитал -
тот, что цифрой не измеришь,
где не козырнёшь числом...
Ты один мне, братец, веришь,
ветер, знающий о том,
что уже не нужно много
в резюме - ни слов, ни сил,
в аннотации итога:
"Жил, спешил, наворожил..."
Там, где еле лепечет река...
* * *
Сентябрь припасает варенье.
кизил багрянеет в тазах.
И горлица стихотворенья
в безоблачных неба глазах
белеет - на взмахе - знакомо
и снова влетает под кров.
Субботнею млеет истомой
теплынь нищеанских дворов.
Курлычет контральто романса
в открытое настежь окно.
А солнечный гривенник шанса
звенит о дворовое дно:
" Верни пятаки побирушке,
себе и вражине прости
охотничью страсть, погремушки
и перья синичьи в горсти!"
Пройдя сентября середину,
главы не сберёг Иоанн.
Но золото, синь, паутину
ещё не завесил туман.
Пируют на лавке ханыги.
А помнишь! - И ты приносил
на пир свой: то строчку из книги,
то каплю бальзама из Риги,
то красный султанский кизил!
* * *
Ища тепла в родном гиперборее,
устану я и с тем легко смирюсь,
что в чаще молочая и пырея,
где на ночь спать ложится ветер-грусть,
зарыл я в почву горсть живучих зёрен,
которые прорвутся, прорастут.
И – будь хоть трижды сеятель оспорен –
неоспоримый статус обретут:
ведь кто-то станет ивою Ивана,
а кто-то авраамовым стволом.
Что есть одно и то же. Поздно ль, рано,
мы все узнаем истинно о том.
И я проснусь. Увижу дом свой белый,
узрю зелёный первородный сад.
Промытый ливнем воздух яснотелый –
то царство, где над почвой погорелой
белопрестольно яблоки парят.
* * *
Не отдай меня дьяволу, Боже!
Ну, а если, а если отдашь,
сделай милость – пусть будет похоже,
будто баш Ты меняешь на баш.
Так вздохни, чтоб идущий за мною
был, сильней ли меня иль слабей,
но – не раб внутривенному зною,
но не сторож гордыне своей.
Чтобы он, моё кровное чадо,
янгол яблони, льна Амадей,
не платил за меня, за Пилата,
за других ослабевших людей.
Не отдай меня бесу, Родитель!
Не тепла, но зело глубока
на юру земляная обитель –
там, где еле лепечет река.
Наконец-то я стал молчаливой
беспорочной Твоею водой
и корявой, Твоею же, ивой…
И упавшей – ничьею! – звездой.
Повсюду вволю сини и тепла...
Из "Балканского бельканто"
1. Свадьба в Трогире
Как не окликнуть снова мне Трогир,
трёх Горанок, трёх горлинок лавстори?
Не близко горы. Но повсюду море -
Ядрана переливчатый сапфир.
Повсюду вволю сини и тепла,
морских ежей и звёзд на плитах белых,
олив, благоуханнх, загорелых,
узоров, что Венеция сплела.
Четыре века вененцийский дож
старанием купца и брадобрея
далмата брил. И вот, Трогир, белея,
на карнавал резных камей похож.
Подросток бьёт по звнкому мячу,
в футболке «Барсы» и с «десяткой» Лео,
над яхтой флаг трепещет, как порео.
И, словно роза, льнущая к плечу,
на Ратушном, на праздничном плацу
хорватица в венчальном белом платье
заключена в любовные обьятья
кавалергарда. Счастью их – к лицу
весь миф Трогира, весь ядранский град,
помеченный изящной силой хлёсткой.
Чиово-остров, обозначил сноской
«ab ovo» и над синею полоской
«от свадьбы» - переводит наугад...
2. Остров Хвар
В продолжение странного странствия, плавного плаванья,
проходя между пристанью Шолта и островом Брач,
достигает мой белый паром Твоей, Господи, гавани -
на попутной волне, на смешенье утрат и удач.
Приближенье к сокровищу Хвара, ядранского острова,
к сиво-пепельным рубищам тысячелетних маслин
ощущается свежей добавкой акцента-апострофа
к бесконечности ритма, что всюду велик и един.
Ты, мне славшая мэйлы и смайлы, не очень надёжные,
назначая свидания в неких ресурсах сети,
если б знать ты могла, как всевластвует тягой подкожною
не дающий покоя сквозняк, оператор пути!
Не затем ли и я умыкаю тебя у компьютера,
что меня самого солнцедар, ослепительный Хвар
в одночасье срывает с крючка, с поводка и цугундера,
виноградарь мой, сборщик олив, моцареллы овчар?
И пробившись на остров-Буян, не с одной пересадкою, -
самолёт, серпантина гудрон, внесезонный паром, -
собеседницей праздник украсив и ракией сладкою,
о любви не совру я, лишь скрипну, пост скриптум, пером:
ты не первая хворь моя, Хвар! Островной лихоманкою
въелся в душу и плоть ещё Хортицы дымный ночлег.
Но и даже не Сечь утирает мне рот самобранкою,
не пурпурные гидры Ядрана сверкают обманкою,
просто - голубю вслед, всё плывёт к Арарату ковчег...
И море было солнечно-зелёным...
Джубга
Я в Джубге был тогда. Она названьем
мне розу-джан средь жара джигитовки
напомнила. Рот опекла аджикой.
чтоб с губ не стёр я поцелуя вкус.
В спираль свивая махаона ус,
прохладное, нарзаном пахло лето.
На водных крыльях мчала нас «Комета»,
вся в пене, отойдя от Туапсе.
И море было солнечно-зелёным –
бездонный, разливанный изумруд…
И бесконечность над волнистым лоном
протяжно пела: "Чист и честен суд. -
Все умерли. И все ещё умрут"...
И там, в один из дней, перед закатом,
зелёное легло над морем солнце.
о чём как о явлении природы,
редчайшем, восклицал в «Труде» спецкорр…
Кудрявились кусты подростков-гор,
цвело над морем солнце, зеленея. –
Тогда поверил я глазам своим
и до сих пор им, прежним, доверяю,
включая в помощь, впрочем, третий глаз –
дозорный лазер, бьющий, может статься,
с благословенья тонких лунных фаз
и всех иных реликтовых вибраций…
Во мне, молочноспелом, зрели мысли,
роились, словно атомы в пространстве,
сливаясь в неопознанный узор.
И всё крутили фильм «Багдадский вор»
тогда над морем. Мама, брат и я
снимали под сырой горой лачугу.
Шестнадцать мне. А маме тридцать восемь.
Теперь я старше прежних нас троих,
всех вместе взятых. Зеленело солнце,
и по горе, кустистой, предзакатной,
взбирался я, настырно продираясь
сквозь тернии кизила. Стол пин-понга
на лысине холма, кренясь, стоял –
один на всю пустынную округу…
Снимали, говорю, сарай, лачугу,
в копеечной хибаре ночевали.
Вдоль хилых стен – три утлые лежанки.
Есть дверь, но – ни единого окна:
едва на стенке щёлкнет выключатель -
темным-темно, не видно ни шиша…
Поймали как-то в сумерках ежа,
он и шмыгнул под среднюю лежанку.
За ним Митяй мой руку протянул,
а тот его – возьми, хвати за палец…
Вот так нас и грызут полвека, братец,
без срама бесовские кумовья,
породы вурдалачьей не тая,
то в сонные, то в становые жилы
впиваясь. Ну, а мы, похоже, живы,
как там тогда, в приморском том селе…
И потому в чернильно-влажной мгле –
ни полслезы, мой кровник белобрысый!
И ни проклятья, большелобый брат!
Пускай уж ежевики синий взгляд
нам светит с гор, и глазки барбариса
подмигивают варварским огнём.
Ночь отстояв, мы выдюжим и днём -
с ежом-бомжом и беса развернём…
И жизнь, и смерть в одних мигают былях.
Придёт карга – не изменись в лице,
лишь в притче о взрослеющем юнце
взойди на катер на подводных крыльях,
что старт берёт от порта Туапсе.
Последний листопад самим собой томится...
* * *
Сбылась моя мечта - брожу себе по свету
и песню ни о чём чуть слышно бормочу.
Приветлива земля, а от людей привета,
наверное, не жду, должно быть, не хочу.
Покорны и грустны осенние деревья,
их кротости к лицу часовни белизна.
Багрец и тишина. Ничейные кочевья
пустынны, но полны воздушного вина.
О чём я ни смолчу, а помню всё о том же:
"Спасибо, краткий век, за вечную красу!"
Задуют холода, но, пеший-перехожий,
шиповника кармин я в сердце унесу.
Последний листопад самим собой томится.
В цыганских лоскутах пылает клёнов знать.
А нам, щепоть синиц, - о, троица, седмица! -
счастливых колких слёз не счесть и не унять...
* * *
Есть правда одиночества. Оно
жестОко, но целительно-высОко.
Чутьё слепца и ястребово око
ушедшему от скопища дано.
Когда-то сон огромный нас слепил.
Затем и сон и явь вместились в малость.
И что же нам в конце концов осталось?
Ответь, осенний ветер, брат-зоил!
Осталось тесной комнаты тепло
на чёрно-сером, на предзимнем свете,
когда уже и в полдень не светло,
когда всё долгожданное прошло
и упорхнули, к дальним гнёздам, дети...
* * *
Кого люблю? Да Осю, да Арсюшу,
да Борьку с рюмкой горькою в руке.
Не клялся вслух, но клятвы не нарушу –
ни здесь, сейчас, ни после, вдалеке...
Ещё Петра кохаю да Ивана,
холщовых братьев, кровников моих,
что долго шли пешком от Иордана,
чтоб на Донце отдать мне осень-стих...
Приснится ль мне теперь, что хлопчик малый,
кому я «Аве!» передать берусь,
приблизится к той ноте небывалой,
что длит Элладу, Галилею, Русь?
Надеяться ли на Господне утро,
на связь живую – ножевую нить?
На то, что перекрёстной рифмой мудро
решит Он мой сентябрь перекрестить?
Пишу своим – Арсению, Борису,
тому, что не отводит синь-глаза...
Да Осипу – про свежий дух аниса,
про осень, чьи осинники и лисы –
заката золотая полоса!
Мной владеет тёплый Бог...
* * *
С лиловоглазой октябринкой,
непритязательным цветком,
играет осень под сурдинку -
летучей ветровою спинкой,
толчком воздушным и нырком
и солнца зябкой перебежкой...
Играй, разлучница, играй!
Моей юдоли белой пешкой
к неверной линии шагай.
И, пусть в ферзи напрасно рвётся
последний из моих солдат,
но учащённей сердце бьётся
у пехотинца в позолотце -
в цейтноте, в риске наугад...
Уборщик в огненном жилете.
листвы языческий божок,
нежнейшие ошметки эти, -
в лимонном, рыжем, алом цвете, -
сгребает и суёт в мешок.
Веди же эндшпиль свой, царица,
играй в жестокую игру,
стоцветной жертвы мастерица! -
Свистят велосипеда спицы.
Споётся всё, что сможет сбыться,
чем смерть прекрасна на миру...
Тёплый Бог
Кто там шастает по саду,
рыщет в чёрной тишине?
Я не знаю, и не надо
смалу знать про нечисть мне.
Вот проснусь - с верхушек вишен
брызнет розовый рассвет.
И в окно почти не слышен
гул сквозной протяжных лет...
Цепко вьётся повилика, -
в граммофончиках змея, -
пахнет пряная гвоздика,
в травной гуще кошка Кика
мнёт, терзает воробья.
Я сибирскую тигрицу
под веранду загоню,
перистое тельце птицы
в цветнике похороню.
Там, в пионе, жук жирует,
изумрудный шахиншах,
в ус не дует, хмель смакует
на хитиновмх губах.
Я припас для экселенца
из-под спичек коробок.
Ранних птиц звенят коленца.
Поздний холод экзистенций, -
Мной владеет тёплый Бог!
К листве лимонной чёрного двора...
* * *
Бледно-лиловые астры в сумраке стылого сада
светят над чёрной землёю после тяжёлых дождей.
Ярко-оранжевым ядом брызжут календул лампады.
Холодно, пусто. Часами – нет ни собак , ни людей
в этих посадках старинных...
Только корявые лики
разнорабочих деревьев – яблонь, черешен и слив –
не покидают усадьбы. Да рассыпаются крики
соек, снующих повсюду в поиске скудных пожив.
Полупрозрачные астры не по-сентябрьски озябли.
Рано повеяло стужей и соловецким вином.
Хлопнем по шкалику, братец, выпьем ещё по три капли
и угловатые грабли в тёплые лапы возьмем.
Вот и ещё одна осень, палой листвы погребенье.
Листья становятся дымом, запахом и забытьём.
А в глубине, за ветвями, - близко-далёкие тени:
словно вчера ещё,
в детстве по листопаду идём...
* * *
Ракло и тремпель - харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь заполночь царапаясь в жильё...
Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся -
к листве лимонной чёрного двора.
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.
И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город - из травы и стали,
босяцкая и ангельская стать...
И втрое больше вытерпи, чем можно...
* * *
Один Господь единый – за дитя!
Но все шакалы, все гиены – против.
А тысячи – закона дышло в рот им! –
молчат, зобы и лбы перекрестя.
А тысячи служивых гнутся, льнут
и к злу, и к рабству - к выморочной почве,
шумами в сердце, коликою в почке
сполна вознаграждённые за труд…
Один Господь усталый – за тебя.
Но челюсти, но плечи, локти – против.
Плодами полон райский город Пловдив,
а на твоём дворе, червей долбя,
по яблоне снуёт чистильщик-дятел.
Чем птицы всех расцветок хороши –
на взмахе крыл реальностью души!
Ну, вот и улыбнись, пока не спятил...
Вот и дыши – не для себя уже –
и втрое больше вытерпи, чем можно.
Дай руку мне, дитя! – Во дни безбожны
да выстоим, любовью, на меже...
* * *
Живу, как всё непрочное, наощупь,
предзимним расширением зрачка.
Лещиной бы - вселиться, вжиться в рощу б,
без лишних слов "прости" или "пока"...
Уйти - и кто жалел бы о пропаже?
Лишь ты, единокровное дитя...
Вот так и каюсь, и грешу сейчас же,
то сусликом, то зябликом свистя.
Июльский день всё шлёт мне телеграмму.
Но Брейгель выслал в путь своих слепцов,
и вождь без глаз уже нащупал яму
для нерождённых и для их отцов...
Но, если б взять с собою посох Босха,
глядишь, ранимый край добрёл бы с ним -
до первоснежья, до слезинки воска...
До Святок, серафим Иероним!
* * *
За окном - ноябрь и морось. Снег срывается и тает.
Сизари на свежей жиже клинописный росчерк свой
оставляют... Если пара-тройка душ тебя читает,
надо думать, сочинитель, ты - по-прежнему живой.
Надо знать, что будет утро. Не спеши, мой брат по вере,
ставить крестик, ножки хером, отпечатки зябких лап
на странице теплокровной. Затаились в спячке звери -
зимний обморок рептилий, кома ящериц и жаб.
Но твоё-то бьётся сердце - вот и в мёртвую погоду
звук держи над амнезией землероек и кротов!
Ни любезен, ни полезен сроду не был ты народу,
нет "exegi monumentum" в предрассудках городов...
Но любовь - да будет длиться! Длись открытостью гортани,
отдавая граду-миру незаёмные слова.
Круглолобый, как читатель, сизый голубь, весь в тумане,
сел к тебе на подоконник. И душа - жива, права.
Снова осень приходит с повинной...
* * *
Cвежее дышат ночи, холодней
теперь, когда на середине август.
А дерево, в плодах-очах, как Аргус,
не хочет стужи и молчит о ней.
О, яблони глазастые мои,
мальчишества ничейные наливы!
Похоже, я старею, и не диво,
что проиграть готов свои бои...
Но проиграть и выиграть - в одном,
по-честному намешанном, флаконе! -
Где дыбятся шампаня, сидра кони,
где полон август Гауссом-вином,
тем самым - в интегралах на разлив,
в двойных, тройных и прочих многократных...
Гляди, опять лиловы кроны слив
и детская рубашка - в свежих пятнах!
* * *
Мало жёлтого, больше - кармина
в вечереющих крымских лесах.
Снова осень приходит с повинной,
с поволокой в неверных глазах.
Влажный сумрак – как ладан обедни.
Ни души на морском берегу,
словно в этом краю - я последний
да и сам уцелеть не смогу.
Холодна и просторна свобода,
и предсмертно чиста тишина.
Отпеванию царского рода
даже страсть помешать не должна.
Никого на земле не осталось –
ни властителя, ни дурачка
И большая, как время, усталость
проникает в глубины зрачка.
А широкая тёмная птица,
опускаясь кругами с небес,
на безмолвную гору садится,
на потухший карминовый лес.
* * *
Осеннее море июльского чище,
прозрачней, стекляннее и холодней.
Осенней горы золотые глазища
полны виноградных зернистых огней.
Прохладно и солнечно. Веет мускатом
от грядок кудрявых на спелой горе.
Не быть мне ни юным уже, ни богатым,
не вздыбиться львом в муравьиной игре.
Зато мне осталось – вспорхнули фазаны
из рыжей листвы виноградных шпалер,
и солнце взошло яснощёко и рано –
на молодцеватый июльский манер.
Осталось – еще не остывшее море,
сентябрьского воздуха мятная плоть.
И в синем, чуть-чуть ледовитом, просторе –
горячих молекул златая щепоть.
Вот и затеплю цветка золотник...
Без фабулы
День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь
недоброго осеннего разлива.
И синий взор метнул индейский вождь
сквозь листья клёна и косицы ивы.
И странно - вновь на сердце у меня
не поздних лет потери и разлуки,
но давних игр ребячья беготня -
из ясеневых веток копья, луки...
И полон предвкушением побед,
молниеносных и неоспоримых,
день счастья, золотистый на просвет, -
без чисел отрицательных и мнимых.
Без имени, без даты, без примет,
без фабулы какой-либо особой,
он светит мне вовсю так много лет,
как будто он и я - бессмертны оба...
* * *
Мелких куплю хризантем на продрогшем базаре,
белых и жёлтых возьму за доступную цену.
Глуше, темнее ноябрь. И в багряной гитаре
смолк листопад, не простивший тумана измену.
Вот уж и снег приходил. На асфальт до рассвета
сыпал колючею манной, сухою крупою.
Отроду в долг не беру, не приму и совета,
как зимовать-куковать да смиряться с собою,
с исчезновением птиц на ограбленных ветках,
с мутью во взоре торговцев, хороших и разных...
Коль и оставлю я что-то в коротких заметках –
долгие льды и снега перегонов опасных
меж А и В разбиенной на части отчизны,
меж крепостями железолюбивой державы...
Жменю цветов сам себе принесу – не для тризны
за упокой, но для страсти, живой моложавой –
стебель полынный размять и вдохнуть среди стужи...
Выгнулась мёрзлая тьма от Яги до Солохи. –
Вот и затеплю цветка золотник. И к тому же:
крепнет созвучье речей о несдавшемся муже
с речью об отроке, спасшемся в чертополохе...
* * *
Слышишь, мелодию плавно и точно выводит
тот, у кого это клеится, – лабух ли гений?
Cлышишь, всегда недовольное время уходит?
С шорохом прячется в ворох кленовый осенний...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо – услышать
даже себя самого, даже кроткого брата.
Дышит простуженно осень. А светит ли выжить –
знает лишь очень большого умища палата.
Рядом с палатою мер и весов, по соседству
с будкой-киоском, с ларьком всенародно-всеядным
рушатся с ходу на цель беспородные средства,
свет разжижается в воздухе чёрном, бесплатном.
Мокрых огней и промозглого вечера гамма –
вряд ли уступит в живучести золоту-сини.
Темень ломая, в разломе царит панорама,
магний дуги, магнетизм неопознанных линий.
Это мелодию, дудку строгая, выводит
кроткого отрока никелированный ножик,
это иглу прямо в мышцу сердечную вводит
скорая помощь созвучий, досель невозможных...
Среди васильков не бывает безумных...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Быстрый день упал за гай далёкий,
Отчеканив ясеней узор.
Откатился дня горячий клёкот
В огнецветы зорь.
Я один на тёмном пепелище.
Никнут травы, сохнет кровь в пыли.
Чёрный великан упорно, хищно
Поднимает торс из-под земли.
* * *
Нет, солнце, больше не приходи,
Блуждай себе аистом по заводям света,
Раскачивайся на усах ячменя,
Оставайся на руках яблонь,
Но ко мне не приходи,
Уже ведь и радость томит меня, как печаль.
Или навести меня в чужом облике,
Чтобы не мог я тебя узнать.
Залети огнецветом да и вылети,
Навей аромат да и развей,
Войди лесной девочкой,
Что приносит землянику в горсти.
Постой у порога да и выйди.
А как станет тихо и пусто
И печаль охватит все вещи,
Я догадаюсь и скажу:
- То приходило солнце.
1932
* * *
Загудел трамвай – свернул направо.
В месячном мерцанье, за домами,
Скрылся, словно в чаще за кустами
Зверь высокий и золотоглавый.
Я один, проулок полунищий
Вяжет ноги пылью, множит морок.
И ни друг не уследит, ни ворог,
Как укроюсь я в своём жилище.
1934
* * *
Уже так тихо во дворе,
И ветер не шуршит листком,
И в окнах темно кругом,
И только под осокорем
Стоит колыбель пустая,
То ли брошенная, то ли забытая.
Я знаю – за рядом домов
Кипят улицы гомоном,
Светлые экипажи колобродят,
И может, в весёлой толпе
Моя скиталица ходит,
Так говорлива и счастлива.
Но кто небогат на счастье,
Тому лучше не быть там,
Тому лучше в глухом дворе,
Где мирные, верные осокори,
И стоит колыбель пустая,
То ли брошенная, то ли забытая.
1931
* * *
Костляво гремят трамваи,
Словно падают с высоты,
Огней – как листков средь гая,
И горят в сто свеч мосты.
Я волнуюсь, ласкаясь оком
К нежной тьме весенней листвы.
По садам золотятся окна
Светляками Купальской травы.
И я сам хожу, как по лесу,
Нигде не желанный. Ничей.
В глубине окна, сквозь завесу.
Вижу тень виноградных очей.
И найду ли тебя, не знаю.
И не ведаю даже, кто ты.
Как царевич Иван, обмираю
В ожиданье твоей красоты.
1932
* * *
Спи. Засни.
Послетались на берег рыбачьи челны.
Тучка за тучкой падает на закат,
Как за листком листок.
Два всадника подьезжают к броду:
Сивый конь поставил копыта в воду,
Вороной на песок.
Слышишь, дивчина темнокосая
Играет на сопилке красным рыбкам,
Чтобы красные рыбки заснули –
И они засыпают.
Слышишь: за звуком звук
Поглощает мрак недобрый.
Дальний мост дрожит, как паук,
Репьи поднимают шпаги к горизонту
И тают. Вяжутся гроздями
Зори, опускают ресницы вниз.
Спи, покачнула завесами
Ночь.
1932
* * *
Темно в моём жилище, как в колодце.
Иду я в поле. Талая вода
Вокруг. И юный блик с востока льётся,
И город покидают поезда.
И так гремят, так тешатся весною!
Стою над полем влажным, молодым,
Стою один – и вьётся надо мною,
И прочь летит разорванный их дым.
1936
* * *
Когда мы вышли,
Берёзы сеяли росистый шум.
За оградою, за жердями,
Мы увидели безумных –
Они были в белом, как берёзы.
- Дитя моё, убили тебя,
В потоптанном саду
Распяли тебя –
( Ты взяла мою руку ).
- Смерть над бровью,
А на груди две,
Кузнечик по волосам,
Будто по траве –
( Ты испуганно прижалась ко мне ).
Берёзы сеяли росистый шум.
Мы спустились с пригорка –
Там запруда, всплески шума.
Новенькая лопасть в колесе.
Повернули направо –
Ветер в лицо, васильки.
- Правда, папка,
Среди васильков не бывает безумных?
1933
* * *
Зимой, на рассвете,
Когда сосны зарываются лапами в снег,
А головы поднимают к свету.
Сладко приковать себя к тишине
Твоей холодной души -
Таким мужеством веет от неё!
Положу ли пальцы на зря взращённые мечты,
Горькая музыка моей печали
Опадает снежинками
В блеске твоём
И, осиянная, тает
Зимой, на рассвете,
Когда сосны зарываются лапами в снег.
1933
* * *
М.Степняковой
Из-за жёлтого клёна
Жарка заря в паутине.
Гашу над столом моим
Пламени побледневший листок,
А с ним
И цвета милой сказки.
Целую ночь фарфоровый ялик плыл
Против густой ряски.
Недолго осени сгорбленный день
Будет хромать в поле пустом,
Только грустно, каждый раз всё грустней,
Возвращаться под вечер домой.
Из-за серых кровель
Руки дыма в липкой паутине.
Фарфоровый ялик мой,
Поплывём ли ныне?
1932
* * *
Кто там бродил всю ночь двором, у сада,
И хрупкий лёд сосулек обломал,
Сверкавших в полдень, как живой кристалл,
Там у двери, на стеблях винограда?
Кто – не узнал я... Тёмный сон глубокий
Немой скалою слух мой придавил.
И слышно было лишь заре высокой,
Как сбитый лёд со звоном в камень бил.
1938
* * *
Пришёл в сад, где был мальчиком,
В подмороженной тишине вечера
Все деревья всколыхнулись.
- Где ты так долго, долго был?
Знать, все миры обошёл,
Отряхнул золотую яблоню,
Пил воду с лица месяца,
Добыл обломок радуги? –
Я стал. отвечаю тихо:
- Золотых яблок не рвал,
Из криницы неба не пил воды,
До радуги не дотянулся, -
Все деревья опечалились.
Когда заморозки – сад глубокий.
В саду светлеет окно.
Вошёл я – там дед замшелый,
На свитке красные усы,
Под сапогами мокрый след.
Я лёг на топчан скрипучий,
На нём покрывало в полосках,
Только синяя потемнела –
За долгие годы померкла.
Начинает замшелый дед:
А как был себе хлопчик малый,
Да ушёл в далёкий свет,
А горбатая за ним вослед...
Трещит в печке солома,
Смертный сон облегает ресницы,
Как тот иней нависшую стреху.
1931
* * *
Ты хотела посмотреть на зарю.
Было ещё темно.
Несчётные зарницы роились на восходе,
Нависали, как чашечки ландышей,
Кое-где пробегал ветер.
Потом –
Заря показалась, как грудь кобчика.
В поле, над дорогой,
Сгорбленные медведи,
Вздыбившись на задние лапы,
Обречённо потопали за горизонт.
Вдруг –
Дорога зарниц поголубела,
Деревья расступились,
И мы слышали, как ветер молил:
Медведи, медведи,
Не прикидывайтесь тополями,
Не прикидывайтесь.
1933
* * *
Выплывает на море лодка -
С такою огнистою грудью.
На лодке навес, как сито,
Под тем навесом люди.
Немного - один китаец
С удочкой тростниковой.
Веют пальмы, ныряют бакланы,
На горах снегов обнова.
Почему-то грустит китаец,
Бросил снасть и не ловит кефали.
Выплывает дельфин из моря:
- Китаец, не надо печали.
- Ну как же не надо печали!
Мой кораблик старый усталый,
Сам я юный, усики в нитку,
И наряд на мне ярко-алый.
Погляди - ведь я же невольник.
С красотой моей пышной такою
Я навек пририсован к фаянсу
Злонамеренной чьей-то рукою!
1931
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Ты сказал: "А хорошо здесь всё же..."
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Марийкою и Стефцею их звали,
Как островок горошка голубого
На поле жита, так они цвели,
Свои девичьи овевая дни
Красой печальных песен Украины.
И вот я вновь в своём родном селе.
Село моё, что сделалось с тобою?
Померкло ты, завяло, потемнело.
Лежишь у яра, и осенний лист
Тебя, как холм надгробный, засыпает.
Марийки нету. Синева очей
И нежность её юного чела
Затенены косынкою простою,
И быстрота упругих крепких рук -
Погасло всё, засыпалось землёю.
А Стефцю видел я. Совсем бледна,
Бессильно у груди дитя держала
И говорила:"Гляньте на него -
Оно краснеет, будто та калина.
Неужто так ему Господь даёт?
Ведь это ж, послезавтра будет месяц,
Как в доме нет и малой корки хлеба".
Заплакала, к ребёнку наклоняясь.
* * *
Снилось мне -
Сердце моё стало,
Пришли люди -
Душистым дымом окурили,
золотой сеткой оплели.
А потом прилетел быстрый чернокрыл,
Тело моё взял
И в своё жилище унёс,
А его жилище острые горы,
Глубокие провалы, тёмные пороги.
Там-то он сел -
Закричал:
"Хоть какой ты ни был
Пылкий и отважный -
Всему миру под стать!
А теперь ты мой.
Могучие руки поотрываю,
Охотничьи очи повыпиваю,
Ибо мой же ты, мой!"
И отозвались горы - твой!
Глубокие провалы - твой!
Тёмные пороги - твой!
1926
* * *
Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.
Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.
И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.
Вот добежала - ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.
* * *
Мы уже почти дошли до дома,
Когда вдруг сказал мне на ходу ты:
"Мне здесь рядом кладбище знакомо,
Так давай зайдём на две минуты".
Я кивнул. И мы вошли в ворота,
Там дерев раскидистых когорта
Сонно наc встречала. И, в печали,
Нас ряды надгробий привечали.
Сели рядом мы за поворотом.
Ты курил, молчал, дышал надсадно.
Было тихо. Лишь пунктирным кодом
Бил кузнечик - сухо, остро, складно.
Ты сказал: "А хорошо здесь всё же,
По дороге от вокзала к дому
Я люблю бывать здесь. И похоже,
Душно нынче. Жди под вечер грома".
Солнце село. Вея неизвестным,
Надвигались тучи тяжко, криво.
Поднялись мы. Рядом с этим местом
Ты лежишь теперь под тенью ивы.
1934
* * *
Неодолимо нависла над мокрым окном
Ослеплённых будней муть.
Спокойна вещей суть,
Затаились горькие слова,
И тускнеет печаль моя,
Как подо льдом трава.
Зарастает зеркало пылью,
Память о нежной - забвением.
Пускай вещи спокойно живут
Под глухою корой молчания.
Ни вечерняя заря, ни ранняя
Ни с далёких, ни с близких дорог
На мой забытый порог
Милого голоса не приведут.
1932
* * *
Спало всё. И месяц-свет погас.
Лишь мерцала тихо звёзд канва.
Снились мне в таинственный тот час
Непорочной ясности слова.
Пахло слово, как трава бурьян,
А второе - яблоком в саду.
И одно звучало, как орган,
А второе кликало дуду.
И от удивленья я затих,
Как легко приходит радость слов.
Был бы в поле я средь колосков,
Дал бы имя каждому из них.
1937
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Замерших ос пустотелые соты...
Лето по старому календарю
Где лёгкость шеи с лёгкостью ключицы
сливается замедленно и плавно,
в предплечье и в предкрылии родится
твоё дыханье, тайною представ мне.
Где узел русой тяжести рассыпан,
и осень на плечах горит и плачет, -
весь дом, как воздух, невесом и зыбок,
и свет нездешних сумерек прозрачен.
Закатное окно теплу раскрыто,
и лето в календарь ушло старинный,
где две недели молится из скита
о наших душах, слитых воедино.
Осенних чар и летних повстречанье -
две первые сентябрьские недели.
Проста ночная музыка венчанья -
вздыхают звёзды, клапаны свирели.
Встреча
Застывшим солнечным оврагом,
сквозь голый зябкий краснотал
октябрь, почти неслышным шагом,
свой день последний отмерял.
Светился день, сухой, пригожий,
летучей нитью повитой.
И пахло в воздухе рогожей
и чистой льдистою водой.
И вниз по склону буерака,
навстречу мне, тропой-змеёй
вдвоём с лохматою собакой,
школяр-малец спешил домой -
круша с отвагой восьмилетней
репья усохшего кусты...
В колючках, моды предпоследней,
сползали с воина порты...
И так вовсю, по-свойски, псина
смеялась влажным языком,
так ранец с глянцем дерматина
до звона в пульсе был знаком! -
Как будто бы не четверть века
по небу моему прошла,
а только покачнулась ветка,
и из-за вербного ствола
я сам спешу себе навстречу
сквозь тот же солнечный овраг -
всё тот же мальчуган беспечный
в добротных чучельных штанах..
* * *
Сухой ноябрь. Желтеет облепиха
собором спелым каталонской лепки.
И Гауди Антоний дышит тихо
сквозь сизый сон пырея и сурепки.
Куст облепихи празднично и густо
и ягодами полон, и шипами.
Да будет жить, - в царапинах, - искусство,
как раненая нежность между нами.
Да освежит язык мне лёд облатки -
осеннего ковша кружок подмёрзлый,
и нищих туч холщовые заплатки
да светят над зрачком речушки Ворсклы!
Лимонный храм, предтеча каталонца,
колючий арлекин, сорочьи тризны...
Чем ближе стынь, тем кровней проблеск солнца
средь терний, желтизны и укоризны.
Тони и волшебные двери
Мелочь в пенале,- и никель, и медь, -
перебирают школярские пальцы.
"Надо хотя бы за кошкой успеть,
чтобы состряпать похлёбку из зайца".
Надо впервые мне рубль наскрести,
чтобы купить эту книжку в картоне:
речь о волшебной двери. Пропусти,
время-пространство, мечтателя Тони
в нынешний, чуть постаревший, мой дом!
Мне было семь, а ему было восемь.
Через полвека мне шепчут о нём
дух тех страниц, та индейская осень...
Шорох листов - словно отзвук судьбы,
над камертоном сентябрьские ноты,
жёлто-багряные всхолмий горбы,
воздух над синью озёрной губы,
замерших ос пустотелые соты...
И часто ночевать на тёплом море...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Как хочется уйти мне от себя,
От всех воспоминаний и желаний...
На берегу морском находят дети
Сияющие камешки - вдруг я
Найду себе другой характер где-то
И стану новым - беззаботным, властным,
Вальяжным и уверенным в себе.
Или купаться буду - и к ноге
Щербатая горошинка прибьётся.
Я проглочу её и стану враз
В посёлке южном рыбаком. И буду
Грести на лодке, невода плести
И часто ночевать на тёплом море.
И плыть домой, как только в гривы туч
Вплетутся розовеющие пряди.
Потом на кухне, у стола присев,
Смотреть, как мать умело чистит рыбу,
Как чешуя, вспорхнув из-под ножа,
Ей к пальчикам шершавым прилипает.
* * *
Памяти З. С -ской
1.
Размеренно тяжко ступали кони.
Ты лежала высоко и спокойно,
Неподвижна сама, ты вела всех.
Суровые люди шли за тобою,
И дети тоже провожали тебя.
По правую руку текло вечернее солнце,
По левую - липы сияли цветом.
К звукам музыки, тяжёлым, как железо,
Добавила свой лёгкий голос иволга,
И мои слёзы падали на дорогу.
И так пришли мы в странное поселенье,
Странное поселенье, где ни единого дома.
Нигде не видно высоких окон.
А только ветки колышутся и шумят.
Музыка смолкла. Замер свет.
Тебя подняли, тебя опустили.
И я целовал твою тихую руку...
Когда перестал мелькать заступ,
На холмик положили венок из клёна,
А в изголовье сосновый венок.
Вздохнуло солнце. Повеяло дыханье
Великой тишины.
2.
Когда ты была со мною, лада моя,
Всё было до ладу,
Как солнце в саду.
А теперь разладился мир, лада моя,
Встала между нами разрыв-трава.
Разрыв-трава высоко растёт,
Разорвала ночи и дни.
Сначала были они, как крылья ласточки:
Верх чёрный, испод белый, а крыло одно.
Теперь они, как разломанный камень -
Колют и ранят, лада моя.
Стало тяжело мне нести время.
Тоска рвёт мысли мои.
Как буря метёт снегом.
Одна снежинка упадёт на лёд,
И ветер гонит её в неизвестность.
Вторая - ляжет под берёзой
В скованный след копыта.
Третья разобьётся о сук.
Стало тяжело мне нести время.
Не к одной двери приводит нас вечер,
Не в одном окне радуемся мы утру.
И разучился я творить сказку.
Так остро смотрю,
А вижу только видимое,
Только возможное, ой лада моя.
1932
Угольщик
Распродал чёрный уголь, сам весь чёрный,
Поужинал, купив вина и хлеба,
Да и на воз дощатый свой склонился.
А конь его, неспешно оглядевшись,
Бурьян пожухлый стал щипать губами
Поедет в полночь. Не близка дорога.
Низины и в тумане камыши,
А вслед - холмов бело-песчаных рёбра.
Сквозь даль молочный запах конопли.
И ночь, и одиночество - протяжны.
К рассвету переедет через дамбу
И всколыхнёт под ветками проулка
Стоячее и душное тепло.
И тихо фыркнет конь, засовы грюкнут,
И вспыхнет от порога: "Это ты?"
1928
* * *
Средь проулков-сплетений
Чуть мерцает туман.
Тень высоких строений
Полонила майдан.
Молкнут ветра сказанья...
И средь сумерек-чар
Холодок увяданья
Овевает бульвар.
И закат ярок, точно
Зацвела оболонь;
И в кофейне молочно
Распустился огонь.
Нежным пламенем канна
Посредь сквера горит.
Жизни миг несказанно,
Невесомо летит.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
В могиле солнце. Дерево замолкло...
О поэте Владимире Свидзинском
Владимир Свидзинский - редкостный поэт. Лучше сказать, уникальный. Поэт, который воистину "засветился сам от себя." И это ощутит каждый человек, способный чувствовать поэзию, прочитав его стихи, казалось бы, навсегда потерянные после жестокого уничтожения автора, стихи не приходившие к читателям более шестидесяти долгих лет.
Родился Владимир Свидзинский в семье священника, в священническом на протяжении ряда поколений роду на Подолье в 1885 году. Закончил духовную семинарию, в дальнейшем получил ещё два высших образования - в Киевском коммерческом институте и в Каменец-Подольском университете на историко-филологическом факультете. В 1916-1918 был на фронтах Первой мировой. При новом режиме работал архивариусом и вел научную работу, обучаясь в аспирантуре, публикуя научные статьи, там же в Каменце-Подольском вплоть до 1925 года. С 1925-го и вплоть до трагической гибели в 1941 году местом его обитания, средой и антисредой его творчества, его трудов ради скудного хлеба насущного на непрерывно сменяющихся редакторских должностях был столичный тогда Харьков.
При жизни поэт издал три книги стихотворений: «Лирические стихи» (1922, Каменец-Подольский), "Вересень"(1927, Харьков), "Стихи"(1940, Львов). Эти сборники, разумеется, сразу же были объявлены официозной критикой совершенно не нужными пролетариату и чуждыми по всем признакам стране великих строек. Вневременная интонация лирики Свидзинского совершенно не вписывалась в барабанный треск почти всего, что выходило тогда из-под пера верноподданных литераторов. По определению профессора Юрия Лавриненко, составителя антологии "Расстрелянное возрождение", если годы до 27-го были для Свидзинского годами относительного молчания, то время после 27-го стало уже временем абсолютного молчания. Хотя именно в последние годы жизни внутренняя творческая работа поэта была особенно интенсивной.
Много и продуктивно переводил Свидзинский на украинский классику мировой поэзии с древнегреческого, латинского, древнерусского (Аристофан, Овидий, Гесиод, "Слово о полку Игореве"), переводил с французского, испанского, польского, грузинского и армянского языков.
Осенью 1941 года, когда немецкие войска приближались к Харькову, НКВД судорожно бросало в свои тюремные подвалы ещё не эвакуированных жителей города, и в первую очередь, людей из среды украинской интеллигенции. Дочь Свидзинского Мирослава, которую он растил один после смерти жены от тифа в дни Голодомора в 1933 году, всячески оттягивала отъезд из Харькова. Причина была серьёзной - Мирослава, влюбленная в местного учителя, никак не хотела с ним расставаться. У отца уже был эвакуационный талон в Актюбинск, а дочь его всё ещё не получила. В конце сентября 1941 поэт Владимир Свидзинский был арестован - "чёрный ворон" чекистов среди бела дня увёз его из съёмного домишки на улице Лютовской на окраинной Новосёловке.
Вместе с другими обречёнными арестантами конвой погнал его 15 ноября на восток от Харькова. Скорее всего, ещё при выходе из города конвоирам от властных упырей НКВД поступила команда всех "ликвидировать". Знающие люди говорили мне, что это называлось в те дни эвакуацией "по первой категории". Официально тогда, объявили о угрозе окружения немцами. В селе Непокрытое Волчанского района под Харьковом, неподалёку от известного исторического раскопа Салтов, четыре сотни арестованных затолкали в заброшенный деревянный коровник, заперли двери и, облив стены бензином, подожгли с четырёх сторон. Всех запертых в строении людей заживо сожгли. То был день 18 октября 1941 года - страшный, но такой обыкновенный в своей подлости и жестокости, на фоне всего происходившего в последние десятилетия на Украине. Вся страна тогда была одной сплошной улицей Лютовской, или точнее, одной бесчеловечной Лютовской державой. И каждый без исключения из миллионов украинцев подлежал, рано или поздно, так или иначе, обработке "по первой категории".
Казалось, что большая часть неопубликованных стихотворений Свидзинского, подготовленных им в виде двух больших рукописей перед самой войной, навсегда утрачены. Однако небольшой круг людей, ясно видевших во Владимире Свидзинском поэта мирового масштаба (М.Свидзинская, А.Чернышов, Э.Соловей, О.Веретенченко, Я.Славутич), сумели сохранить и вернуть читателям его поэзию. В 2004 году, вслед за рядом локальных изданий 61-го, 75-го, 86-го годов, в Киеве, в издательстве "Критика", вышел большой двухтомник Владимира Свидзинского "Твори" ("Произведения"), подготовленный Элеонорой Соловей. Это издание позволяет сегодня по достоинству оценить творческий масштаб поэта, неповторимую индивидуальность и светоносность его лирического мира.
Воистину, как произнесено было когда-то о Гёльдерлине, и о поэте Владимире Свидзинском можно сказать, что его "породили испытания и поцеловала речь". И в контексте длящейся ещё и сегодня беспощадной истории его родины, его Украины, эти испытания наполняются и отсвечивают особым трагизмом, а этот "поцелуй речи" ощущается особенно солнечным и жизнеутверждающим.
Сергей Шелковый
2014
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Усталый, спелый, на холмы склонившись,
День спал и спал.
Казалось, никогда
Не проплывут глубины голубые
Над нивами. Ленивый, беззаботный,
И я прилёг, отдавшись власти сна.
Проснулся - день мой полноцветный, где ты?
Мгла тонкая с востока протянулась.
Двумя крылами обнимая поле.
В могиле солнце. Дерево замолкло,
И, пойманные в чашечках тюльпанов
Холодной мглою, занемели пчёлы,
Что славили так звонко дня рожденье.
1929
* * *
Где-то дождь идёт -
Не смолкают голоса кукушек.
Снова ли мальчик я?
Так хочу дотянуться рукой до гнезда.
Где молния лежит,
Словно укутанная шерстью змея.
Где-то дождь идёт.
* * *
Холодная тишина. Месяц надломленный,
Со мною будь и освяти печаль мою.
Она, как снег на ветвях, усмирилась.
Она, как снег на ветвях, и осыплется.
Три радости у меня не отнять:
Одиночество, труд, молчание. Тоски злой
Нет больше. Месяц надломленный,
Я виноград обновления в ночь несу.
На мёртвом поле стану помолиться,
И будут звёзды рядом со мной падать.
1932
* * *
- Грустно, тоскливо. Во мне всё завяло, как эта вот ветка -
Так ты сказала и к мёртвой листве прикоснулась рукою.
Месяцы, годы пройдут. Но останется мне до кончины
Каждый засохший листок твоим колким укором.
* * *
Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.
Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.
И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.
Вот добежала - ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.
* * *
Неодолимо нависла над мокрым окном
Ослеплённых будней муть.
Спокойна вещей суть,
Затаились горькие слова,
И тускнеет печаль моя,
Как подо льдом трава.
Зарастает зеркало пылью,
Память о нежной - забвением.
Пускай вещи спокойно живут
Под глухою корой молчания.
Ни вечерняя заря, ни ранняя
Ни с далёких, ни с близких дорог
На мой забытый порог
Милого голоса не приведут.
1932
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И, словно Божий дар, грядёт...
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
Неисчерпаемость
Крестом шляхи твои лежат,
В распятье бьёт ковыльный ветер.
Плечо - с востока на закат,
Второе - с полудня на север.
Так средь распятий и разрух
Огонь души ты не гасила.
Какой неодолимый дух,
Неисчепаемая сила!
Калечат, травят, гнут твой род,
Колдуют, нагнетают чары.
Не сгублен, кажется, лишь сброд -
Рабы, манкурты, янычары.
Но вот - Стефаник с Кулешом,
Вот Леся - возрожденья дети
В многострадании твоём,
В преодоления завете.
Гудит подземной лавы ход,
Вздымается вулканом раса,
И, словно Божий дар, грядёт
Дух Прометея, дух Тараса.
Шевченко
Не поэт - для боли песен мало,
Не трибун, послушный рупор масс,
И уж ни за что - "Кобзарь Тарас"
Он, кем ярость неба запылала.
А скорей бунтарь и расы зов,
Пламя по-над тьмою омертвелой,
Крови взрыв, что грозно закипела
Карой за обиды всех веков.
Лютый взор прозревшего раба,
Гонта, что врага с молитвой режет,
И степной, вздымающий гроба,
Пробуждённых мышц и воли скрежет.
Ну, а рядом - тихой ласки слово
И у белой хаты сад вишнёвый.
* * *
Навеки разорвали руки.
И даль пустынная легла
Холодной вечностью разлуки,
Степями морока и зла.
Вот цветом вишни, вешней песней
Опять сменяется метель,
Но вновь на жгучий зов "воскресни!"
Года лишь отдаляют цель.
И гасит вновь надежды пламя
Слепая, без просвета, твердь.
И перед нами, и за нами
Молчанье полнится и смерть.
1925
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Улица Арсения Тарковского (часть 2)
Улица Арсения Тарковского (часть 2)
* * *
«Страдание постоянный спутник жизни. Полностью счастлив я был лишь в детстве. Но существует какой-то странный способ аккумуляции сил перед достижением большой высоты. Я не скажу, как это делается: то ли надо внушать себе, то ли учиться себя видеть, но полностью счастливый человек, наверное, не может писать стихи… Знаете, это как в любви. Меня всегда привлекают несчастные Любови, не знаю почему...» - приводит слова Арсения Тарковского его дочь Марина в своей книге «Осколки зеркала».
Об этом же, о богоявлении и преображении своей великой любви, неразрывно связанной со страданием и утратой, пишет поэт в одном из вершинных стихотворений "Первые свидания", пишет в 62-ом году, вспоминая встречи с Марией 23-го года:
На свете всё преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твёрдая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
И совсем не случайно, начиная свою "Песнь песней" строками
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете,
Арсений Тарковский завершает их именно словами трагического предчувствия:
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке...
И вот, не могу ещё не повторить из того же стихотворения:
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Моё благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола...
Судьба, с веткой влажной сирени в одной руке и с безумной бритвою, - пусть даже и с бритвою Оккама, - в другой, разлучала их в 25-ом году в Елисаветграде, в 26-ом в Питере, в 29-ом в Одессе. И окончательно разлучила ещё три года спустя. В день 5 августа 1932 года, когда в Славянске умерла Мария Фальц, Арсений Тарковский, находясь за тысячу километров от неё, в семейном кругу, внезапно почувствовал гнетущую тревогу и невыносимую душевную тяжесть. Он не мог сказать ни слова никому из домашних и без сил лёг, отвернувшись лицом к стене. Лишь впоследствии, узнав о смерти Марии именно в этот день, он нашёл объяснение произошедшему с ним.
Не просто верю в это прощальное соприкосновение любящих душ через пространства в самые последние мгновения, но и доподлинно знаю об этом по собственному опыту. З августа 1996 года со мной произошло то же, что и с Тарковским на шестьдесят четыре года раньше. В момент, когда в Харькове в больнице, уже собираясь на выписку, внезапно умер от сердечного удара мой отец, в пять часов утра на балконе в крымском Кучук-Ламбате я проснулся от упорной давящей боли в сердце и сел на матраце, не понимая причин этой боли. Не спав практически всю предыдущую ночь, с мучением и поломками добираясь весь следующий день на машине в Крым, я бы должен был теперь вовсю отсыпаться. Но что-то мощно и неотступно сжало мне сердце и подняло меня в недоумении над постелью. Заснув через несколько минут ещё на пару часов, я снова был разбужен в семь утра - уже звонком из дому:"Папа умер. Сегодня рано утром..."
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
* * *
Хорошо помня о "Хуторе "Надия" под Елисаветградом, ещё со времён работы над первым своим очерком о Тарковском одиннадцать лет назад, о наследном поместье рода Тарковских, которое перешло к семье Тобилевичей, как брачное приданное тётки Арсения Надежды-Надии Тарковской, я однако не намеревался попасть туда в этот единственный свой елисаветградский день. Времени, казалось мне, было явно недостаточно. Инициативу поездки в поместье проявил Роман Любарский, любезно сопровождавший меня по городу, начиная с середины этого воистину необычного дня 27 июля.
"Не очень далеко, 26 километров туда ехать, но автобусы ходят совсем редко. А на такси дорого, просто так не повезут, бензин всё время дорожает" - сопровождал он мыслями вслух своё предложение: "А не поехать ли?" Варьируя все эти резонные сомнения, он тем не менее, словно, на автомате, подвёл меня к остановке такси в центре города.
Таксист, показавшийся мне похожим то ли на ветерана силовых служб, то ли на участника боевых действий, - как оказалось позже, я не ошибся, - согласился ехать до хутора и обратно за сто гривен, рассудительно озвучив свои расчёты, по которым эта сумма едва перекрывала расходы на бензин. Похоже, что он и вправду просил по-божески. "Годится, договорились" - сказал я. При этом мимолётно, но снова досадуя на человеческую жадность, вспомнил себя на одесском желдорвокзале четырьмя днями раньше. Тогда в Одессе за путь от вокзала до санатория "Хаджибей", составлявший семь километров, скользкого вида таксист потребовал сто сорок гривен. Повёз он нас с внуком и женой, прекрасно видя, что у мальчика немалые трудности со здоровьем, за сто тридцать и всю дорогу похвалялся своей "Волгой" и тем, что крутит руль уже сорок девять лет. Облезлый, с сизо-лысой, яйцевидной головой, ящер 50-го года рождения - почти мой сверстничек...
При всём том, что моя любовь к Одессе, к этому светящемуся городу над морем, с каждой новой встречей только крепнет, всё же во время всех четырёх моих приездов туда я непременно попадал, так или иначе, на фирменное здешнее "кидалово". Ну, недаром же Одесской юридической академией счастливо правит и доныне известный Кивалов-Кидалов, он же Кивалов-Пидра***. Из народной песни уж точно меткого слова на выбросить.
В итоге, сопоставляя одесские и елисаветградские тарифы на извоз, кивнул я ещё раз сочувственно одной из своих прежних строчек: "Вправду сказать, я провинций упрямый поклонник..." Сохраняется ещё, к счастью, в них, в провинциях, в отдалении от ненасытных столичных и околостоличных базаров-вокзалов, нечто первородно человечное, нечто сродни свежести дуновений с лавандовых плантаций Прованса. Доехали, с ветераном внутренних войск за рулём, довольно быстро, минуя не лавандовые, но не менее чарующие подсолнуховые плантации ридной Украины, арсеньевского первородного эдема. Пара аистов на уже сжатом и вновь перепаханном поле копошилась в чернозёме крепкими клювами. "Лелеки" - зовутся они в певучей мове Украины. Вслушавшись в одно только это слово, можно поверить, что именно эти края не могли не породить великого поэта.
Хутор "Надия" ныне - заповедник-музей, посвящённый истории украинского театра и выдающейся творческой семье Тобилевичей, трёх братьев - драматурга Ивана Карпенко-Карого, атёров Панаса Саксаганского и Миколы Садовского.
Но и присутствие семьи Тарковских остаётся здесь очевидным, хотя и не слишком педалируется на фоне основного статуса музея. Старшая сестра отца Арсения Тарковского Надежда Карловна была первой женой Ивана Тобилевича, собственно, её именем и названо поместье. И на центральной аллее усадьбы возвышается ныне во весь рост памятник хозяйке хутора, тётке Арсения Тарковского, счастливо прожившей с Иваном Тобилевичем одиннадцать лет, вплоть до своей ранней смерти и родившей ему двух детей.
Музейные комнаты уже закрыты, солнце движется под уклон. Но довольно быстро, после пяти минут поисков, убеждаюсь, что в дубовой роще поместья сегодня растут уже три дерева памяти Тарковских - давно уже, в 1964 году, посаженый дуб "Лыцарь", памяти отца Арсения, Александра Карловича, и более молодые деревья - в память об Андрее, сыне-режиссёре, и об Арсении, отце-поэте. Дуб в честь Арсения Александровича посажен его дочерью Мариной, которая после смерти отца не раз приезжала в Елисаветград, отчётливо ощущая, что памяти о её отце в этих краях остаётся во всех отношениях больше, чем где бы то ни было.
Кстати, в своей книге "Тропами хутора "Надия"(2007) известный украинский писатель и литературовед, профессор Леонид Куценко, к несчастью трагически погибший в 2007 году, убедительно излагает проведенные в последние годы архивные исследования о генеалогии польско-украинского рода Тарковских: "Тарковские. Они появились в Украине ещё в начале XVIII столетия. Тогда из Люблина на Волынь переселился Войцех Тарковский, который и основал украинскую ветвь своего рода. Примерно во второй половине XVIII века Тарковские завладели землями степной Украины, поселившись в селе Николаевке (это буквально рядом с "Хутором "Надия"). А в 1805 году майор Матвей Тарковский заслужил дворянский титул, приняв православную веру. Его сын, отставной ротмистр Карл Тарковский, вступил в брак с Марией Кардасевич. Поженившись, они объединили и сёла, которыми владели роды (Николаевку и Кардашеву). А в 1869 году против воли отца, Карла Матвеевича, Надежда Тарковская вступает в брак с Иваном Тобилевичем.
Через четыре года после женитьбы Ивана и Надежды в один день от холеры умирают родители Надежды Карловны. Под опеку Ивана Карповича переходят малолетние сёстры и братья Надежды и имение Тарковских вместе с долгами поместья, так как все 652 десятины земли находились в залоге. Ивану Тобилевичу пришлось спасать землю, взяв для этого заём в банке, заплатив срочные долги и расписав долговые обязательства на годы вперёд. Приглашённые юристы распределили поместье между наследниками, опекунство выпало на долю Ивана Карповича до совершеннолетия старшего сына Тарковского - Александра(1863 - 1924). Напомню сразу же, что это его сын Арсений(1907 - 1989) станет известным русским поэтом, а его внук Андрей(1932 - 1986) - всемирно известным кинорежиссёром."
Возвращались мы из имения Тарковских-Тобилевичей в Елисаветград уже в предзакатное время. Сразу же, через три минуты после отъезда, показалась на повороте небольшая, но живописная речка, которую на пути к хутору я как-то и не успел заметить. А сейчас не спеша проехали по мостку через неё, и почудилось в ней что-то давно знакомое. Золотился камыш в ярких лучах уже низкого солнца, синело небо, отражённое спокойной речной водой. "Та самая Сугаклея - воскликнул Любарский - из стихов Тарковского!" "Она, наверняка она. И вправду теряется в камыше" - только и смог я ответить, продолжая вглядываться в речушку, словно угадывая, где и когда мы уже встречались.
Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывёт по реке,
Ребёнок стоит на песке золотом,
В руке его бабочка и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И всё навсегда остаётся таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. А река? Утекла.
"Улетела, уплыл, утекла..." - повторяет всего только двадцатишестилетний на момент написания этих строк Арсений Тарковский, в полной мере ощущая непоправимость утраты своего первородного рая. Но и одновременно - "всё навсегда остаётся таким...", одновременно эти стихи полны благодарным ощущением первичного дара, оставшегося в душе поэта на всю жизнь.
А для меня аисты-лелеки на пути к родовому поместью, и золото-синь Сугаклеи на пути обратно остались словно бы двумя знаками восклицания, обозначившими ещё одно неожиданное прикосновение к истоку поэта, давно ставшего мне сокровенным и незаменимым собеседником. Словно бы двумя знаками восклицания, которые ставят темпераментные испанцы по своему обычаю - и в конце, и в начале горячей фразы.
* * *
Конечно же, не могу не вспомнить здесь, на фоне счастливо увиденного и запавшего мне в память города, на фоне окрестных подсолнуховых полей, того факта, что Елисаветградские края - совсем не чужие для меня. Не чужие и, - скажу смелее, - родные. Родные, по сути, уже с момента моего появления на свет. По материнской линии земные токи устремились ко мне, к моему младенческому кровообороту, как раз от этих тёплых почв центральной Украины - от чернозёмов, уже заметно клонящихся в этих широтах к югу, к эллинскому Понту Эвксинскому, турецкому Кара-Денизу, казацкому Чёрному морю.
Далее прадедов, как и в случае с отцовской половиной родового древа, мне мои предки и в этой половине родословной, увы, остаются неизвестными. Однако же с сохранившегося снимка начала ХХ века на меня и ныне не устают смотреть шестеро елисаветградских родичей, из которых лишь со своею бабкою Ольгой Ильиничной Гаркушей-Денисовой мне довелось общаться вживую. Прадед Илья Гаркуша - бухгалтер, государственный служивый человек в форменной фуражке, в белой сорочке с галстуком, в жилете и сюртуке. Смугл лицом, суховат фигурой, черноус и чернобров. На лице его с правильными чертами и во взгляде тёмных глаз несомненно присутствуют ум и достоинство, серьёзность и спокойствие.
Прабабка Анна Кулешова-Гаркуша, родом из Орловских краёв, напротив - светловолоса, пшеничнокоса. Румянолицая и пышнотелая, эта великоросская моя праматерь, помечена на снимке, пожалуй, некоторой цепкостью и властностью во взгляде. По семейным преданиям, отличалась эта наша орловская Кулешова, незаурядной энергичностью, и постоянно затевала всё новые деловые проекты. Вплоть до того, что сдавала одно время семейное жильё в аренду под иудейский молельный дом.
Трое старших дочерей на фотографии, Анна, Ольга и Вера, стоят рядом с сидящими родителями. Самая старшая, Анна, лет десяти, - явно хороша умным, открытым и словно бы ласково сияющим взглядом. Следующая по старшинству Ольга, будущая мать моей матушки - тоже яркоглаза и черноброва, породой явно в отца Илью Гаркушу. Она, также, как и белобрысая, удавшаяся в свою орловскую мать, Вера, наряжена в длинное клетчатое платье, подпоясанное атласным кушаком. И наконец с пышных колен восседающей на кресле Кулешовой смотрит прямо в объектив четвёртая сестра, Нина, - совсем ещё младенец, не достигший и года. А будущий пятый ребёнок этой елисаветградской семьи, наконец-то мужского рода, остаётся пока что за кадром семейной фотографии. Вот с ним-то, Владимиром Ильичём Гаркушей, славным генералом авиации, мне пришлось многие годы общаться вполне по-семейному, дружелюбно и уважительно, - в основном в Киеве, где он прожил последние пару десятилетий своей жизни после выхода в отставку. Был генерал Вдадимир Ильч голубоглазым, но чёрными собольими бровями удался, один к одному, в моего прадеда, своего отца, Илью Гаркушу, глядящего и до сих пор на меня с елисаветсого семейного портрета.
Анна, и тем более Ольга, сыграли заметную роль в стартовой раскладке моей биографии. Именно они вдвоём, двумя родственными семьями, переселились из Самарканда, в который эвакуировались вместе же из елисаветградских краёв в 41-ом, в уже послевоенный Львов. В преславный этот город Льва и приехала рожать меня матушка Валентина, двадцати двух лет отроду, к бабе Оле, своей матери, в 47-ом, весьма уже не близком, году.
Длился месяц стрижиных крыл,
окликал лепестками ало.
Ни за что я июль любил,
прикусив на ладони жало, –
лишь за случай добра и зла,
за тот час, когда в смерч-полове
мама с криком меня родила
в австрияцком и польском Львове.
Но до трудных родов голодного сорок седьмого года в галичанском и руськом (да, так!), украинском, австрияцком и польском, наконец, в советском и антисоветском Львове ещё несколько десятков лет от момента, запечатлённого на снимке. Вернусь к намеченному хронологическому пунктиру и гляну вперёд, отталкиваясь от наклеенной на картон елисаветградской фотографии, переломленной временем пополам. Та шестилетняя девочка в клетчатом платье, что стоит как раз по центру снимка, ещё только одиннадцать лет спустя, в 1925-ом, родит там же, в елисаветградской Долинской, мою мать Валентину. Родит, не достигнув ещё и семнадцати лет отроду, от некого залётного Владимира Яковлева из Тамбова. Об этом персонаже, одном из четырёх моих прадедов, никаких сведений от бабы Оли я так и не получил. Хотя и не раз пытался о нём спрашивать. Ответ моей Ольги Ильиничны звучал всякий раз даже не уклончиво, но, скорее, с явным протестом: "А воно тоби нужно?"
Уже с дочерью на руках баба Оля вышла позднее замуж за человека с огненным и пронзительным взглядом тёмных глаз. Вениамин Денисов, и вправду соответственно своему пронизывающему взору, работал прокурором в той же Долинской, где и мне, как выяснилось не так давно, довелось побывать на старте своей биографии. Точнее, в возрасте ещё до года, в начале 48-го, где елизаветградские родичи подкармливали меня, младенца, домашним козьим молоком, поскольку молока у матери для меня так и не появилось. В браке с долинским прокурором Денисовым Ольга Ильинична родила в 1939 году сводного брата моей матери, Валерия, единственного моего дядьку. Прокурор в 1942 году пропал без вести под Сталинградом, но остался на многих семейных фотографиях и, пожалуй, в твёрдости взгляда своего сына Валерия Денисова.
Валерий, прожил полвека во Львове, чуть было не защитив кандидатскую в тамошнем Политехе, оттрубил затем несколько лет на Кубе, устанавливая там линии электропередач, а в конце восьмидесятых годов, разведясь с женой, переселился в Киев, где обитает и сегодня. В однокомнатной его квартире на улице Ивана Кудри я не раз останавливался в последние десятилетия во время своих всегда коротких командировок в Киев. Сегодня, в свои семьдесят пять с гаком, Валерий Денисов всё ещё бодр, подвижен, полон энергии, даже не смотря на свою давнюю жизненную привычку - время от времени по-взрослому наведываться в гости к Бахусу. Разве что жалуется периодически, что болят суставы, растирает их разными снадобьями. "Да и то вполне понятно - натрудил он их изрядно", в молодости становился чемпионом Украины по гимнастике, будучи воспитанником известного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина, нашего, кстати, львовского родича.
Замечу ещё, что родившись во Львове 21 июля, сразу же вослед за двумя днями памяти Сергия Радонежского, 18-го и 19-го июля, я и был небеспричинно назван Сергеем. Однако, согласно семейному преданию, решающее слово по поводу моего имени произнёс тогда именно восьмилетний на ту пору Валерий, которому это имя решительно приглянулось.
Возвращаясь к основной теме очерка, к Елисаветскому краю, повторю, что на родине матери в Долинской, на востоке этого края, мне пришлось побывать в первый год моей жизни, о чём, увы, воспоминаний у меня не осталось. Послевоенный 1947 год был голодным, отправившим более миллиона украинцев на тот свет, и подмога долинского натурального хозяйства, думаю, пригодилась мне тогда на полном серьёзе. Уже в зрелом моём возрасте на глаза мне как-то попался маленький желтовато-мутный снимок, мой портрет того времени, где отъевшееся на долинском козьем молоке лицо младенца выглядело довольно серьёзно и внушительно. И, к сожалению, портрет этот тут же и запропастился среди тысяч и тысяч бумаг моей литературной, да и преподавательской, мастерской, не отыскавшись и до сей поры. Однако и стихи могут о главном, пусть и давнем, напомнить:
Клят волчиной, облаян лисой,
в захолустье бесхлебья-лета
вскормлен был я чужой козой
подле града Елизаветы,
чтобы склон, где Булыжный Брод
жижу пьёт на похмел из Лугани,
освежил бы навек мне рот
дикой ягодой иносказанья,
чтобы нёс я в губах имена
городов и родимых кладбищ
по земле, где весна хмельна
над камнями пропащих капищ...
Пятьдесят обмелело рек,
пять морей в океан сбежало.
Не убий меня, мил-человек, –
из-под кожи выдерну жало,
и врачуют мне дух и длань:
спелый луг материнства-млека,
ветки Льва, Лизаветы, Лугань –
вся душистая Тмутаракань,
не увядшая за полвека...
* * *
Да, и в завершение - о музее Арсения Тарковского, интернетовское сообщение о котором, собственно, и подтолкнул меня непосредственно к Елисаветградской поездке. Музей расположен на первом, на половину уже ушедшем в почву, этаже дома, где жила семья Марии Фальц, на нынешней улице Арсения Тарковского. Напротив этого дома - гимназия, где учился Арсений с братом Валерием. На стене гимназии - мемориальная, ныне каменная, доска поэту с его лицом в трёхчетвертном повороте. Предыдущая бронзовая доска несколько лет назад было украдена голодающими, точнее, жаждущими, люмпенами Приингулья.
В мемориальный музей поэта при Коллегиуме (как бывшее здание гимназии, так и бывший дом Фальц принадлежат ныне этому учебному заведению) попасть не удалось - все обладатели ключей оказались вне зоны досягаемости, как объяснила заместитель директора Коллегиума, оставленная на каникульной вахте. Не беда - Роман Любарский, принимавший участие в комплектовании музейной комнаты, перечислил мне её экспонаты: книги Арсения Тарковского, его фотографии, его портрет маслом и ещё одна картина того же автора - цветы, пришедшие к художнику на полотно из стихов Арсения Тарковского. Ручка отца, подаренная музею Мариной Тарковской, мебель начала прошлого века. Конечно же, не беда - эта нестыковка с музеем. Не могло же абсолютно всё в тот день идти только в одном направлении - по линии подарков и сюрпризов "очарованному страннику" от славного Елисаветграда.
А на родное, без преувеличений, лицо Арсения Александровича, не подобравшись к музейным фото, я всё же вволю насмотрелся, пройдя его улицу из конца в конец ровно дважды. Через каждые три-четыре строения его портрет, уже поздних лет, вырисовывался темно-синим свежим колером в верхней части белой таблички с номером дома и, - всё ещё не вполне верится! - с надписью "Улица Арсения Тарковского".
И вот, в завершение этих воспоминаний, отрывок из стихотворения, пару строчек которого родились у меня ещё там, на елисаветградских улицах, в тот самый день 27 июля 2013 года, полный золота-сини и звучания поэзии Арсения Тарковского:
«Вот и лето прошло» на две трети. Дорога к Арсению
уместилась в каких-нибудь тридцать с копейками лет.
На родной его почве стою под исконною сенью я,
и особенный льётся, сквозь зелень, Тарковского свет.
С ним и пешая поступь моя может статься крылатою
здесь, где память Ингула полна отраженьями душ,
где фортеция Елисаветы, без выстрела взятая,
мне дарует по-сестрински ветку шафрановых груш.
Поклонюсь его тени живой и крыльцу виноградному.
Не тускнеет Грааль его слов и гранение сот.
По мосту через реку его и по веку всеядному
за июлем вослед цельнокованный август идёт.
2014
Улица Арсения Тарковского (часть 1)
Улица Арсения Тарковского
Замысел побывать на родине Арсения Тарковского вызревал у меня давно.
Наверное, с тех самых пор, когда в самом начале восьмидесятых годов довелось мне прочесть стихи этого неповторимого лирика, тонкого мастера русского поэтического слова, стихи-воспоминания, стихи-молитвы, окликающие его незабываемую украинскую родину. Прочесть и сразу же почувствовать эти стихи своими, кровно родными, необманными. Годы летели один за другим и вместе с ними, торопящимися невесть куда и зачем, эта мечта перелетела из ХХ века в ХХI, из второго тысячелетия в третье. И вот летом только что минувшего 2013 года это давнее обещание самому себе приехать в гости к Арсению Александровичу, в места обитания его юного духа, мне наконец-то удалось исполнить.
Утром 23 июля я привёз жену и внука Мирослава из Харькова в детский санаторий "Хаджибей" под Одессой. И в тот же день, протолкавшись около четырёх часов на переполненном народом одесском вокзале, купил для них, точнее, добыл, вырвав из зубов хаоса, обратные билеты домой на середину августа. Себе же, уже без каких-либо отказов и возбуждённых дискуссий с кассирами, взял билет на 26 августа - на иной маршрут. Некий спонтанный импульс, словно посланный мне в одночасье тридцатью годами ожиданий, нерешительности и оттяжек "завтра, завтра, не сегодня", прямо там же у поездных касс, подтолкнул меня к мысли: "Вот, как раз сегодня!" И не противясь этому неожиданному решению, я уже через пару минут держал в руках билет до лежащего как раз на середине пути от Одессы до Харькова родного города Арсения Тарковского, который ностальгически воспет им в десятках вечнозелёных и полных солнца стихотворений.
Поезд пришёл в Елизаветград в начале шестого утра. Позволю себе в этом очерке, не насилуя собственного сознания и слуха, не произносить всуе, да и не по заслугам, имени мальчика из Уржума, Кирова-Кострикова. Деятель этот, персонаж сомнительных достоинств, явно насильно втиснут в нынешнее название города, который несомненно заслуживает лучшего, сказать бы, более справедливого наименования. Петрова дочь, императрица Елизавета, во времена которой началась постройка "маленького Парижа", должен признаться, симпатична мне, ничуть не больше большевистского временщика-прощелыги. Однако, опираясь не на имперские реалии, а на предания более далёкого прошлого о Святой Елизавете, в честь которой первично и была названа здешняя крепость, стану называть город здесь именно Елисаветградом.
Здесь камень в крепость заложил Суворов,
здесь Пушкин заложил за воротник...
Как по мне, так лучше уж поминать далёких страстотерпцев, чем недавних правителей-властолюбцев. Имя Святой Елизаветы и носил родной город Арсения Тарковского и во времена его счастливого детства, и в годы его юности, пришедшейся на долгую череду смут и переворотов.
Итак, поезд, идущий далее на Черкассы, тормознул на десять минут ранним утром 27 июля у перрона небольшого Елисаветградского вокзала. Подхватив чёрную бывалую сумку, чья пара колёс уже успела напрочь расшататься и растерять резиновые ободки в прежних походах, я поспешил к кассам, дабы не остаться без вечернего билета на Харьков. Автобус в центр, отходящий от небольшой привокзальной площади, был в это раннее время почти пуст. "А есть у вас скидки по пенсионному, для участников Куликовской битвы?" - спросил я на входе в подержанный ПАЗ у водителя, мужика лет тридцати, которому до счастья пенсии было ещё совсем далеко. "Вообще-то есть, но не в такое же время..." - прозвучал глубокомысленный ответ. Задумавшись над его тайным смыслом, я протянул водиле, видимо, очень желанные для него "в такое время" две гривны. Ну, не начинать же мне долгожданное гостевание у Арсения Александровича с мелкого выяснения денежных отношений.
"Здесь центр" - буркнул через десяток минут езды добрый водила, тормознув на остановке напротив гостиницы "Киев". Мысль о бессмертии совка на всей шестой части земной суши снова клюнула меня изнутри при взгляде на безликое, выстроенное "в дизайне коробки для спичек", гостиничное здание. "Неужели опять напрасно, неужели снова ландшафт славного города Конотопа?" - вяло и ещё довольно сонно, после пары часов ночного забытья в поезде, пробормотал мой внутренний голос.
Оглянувшись, я увидел, однако, слева от отеля вполне привлекательное сооружение, родом явно из прежних времён. Нынешний Художественный музей Елисаветграда, выстроенный в эстетике модерна, оказался и впрямь прежним Городским пассажем, согласно информации стенда, поставленного у входа в музей. Вход естественно оказался запертым в силу ещё совсем раннего времени.
"Ну, вот и замечательно - Пассаж, модерн, едва ли не югенд-стиль! И даже если ничего более здесь не отыщется, программу минимум своего десанта можешь считать реализованной, бродяга!" - подбодрил сам себя мой внутренний голос, отодвигая образ безликого и пыльного Конотопа, из командировки тридцатилетней давности, в недра архива памяти.
На том же стенде у входа в музей, оформленном и изящно, и информативно, сообщалось, что Пассаж (1897) - не последняя достопримечательность города, и что совсем неподалёку находится Преображенский собор, главный храм Елисаветграда. Перейдя улицу и двинувшись вдоль будок и лотков ещё не проснувшегося базара, через пять минут я и вправду увидел Преображенский храм. Приземистый, белёный, своим широким зелёным куполом он напомнил мне стеклянный купол капища киевской Верховной рады. "Тепло, тепло, уже почти горячо!" - пробормотал я вполголоса, вспоминая о том, что именно в Преображенской церкви Елисаветграда был крещён в 1907-ом году младенец Арсений Тарковский. Так же, кстати, как в храме с таким же именем, в Преображенской церкви полтавских Сорочинцев, почти столетием раньше, в 1809-ом, окрестили другого драгоценного младенца Украины и русского слова - Николая Гоголя.
Вслед за неизменной парой щелчков "Кэнноном", запечатлевшей крестильный храм поэта, что-то подсказало мне вернуться на назад к рынку и повернуть направо. Там при первом проходе почудилась мне на ходу как будто бы какая-то архитектурная старина в неброских домах, одноэтажного и двухэтажного калибра. Боковое зрение не обмануло меня, и по улице бывшего городского головы Пашутина я вышел в самый что ни есть исторический квартал, со старой дореволюционной застройкой, практически не испорченной вторжением новостроя.
К огромному, с многочисленными рельефными украшениями, краснокирпичному зданию Главной синагоги и его ухоженным цветочным палисадникам примыкало, оставаясь однако на уважительном отдалении, соседнее, аскетическое по обводам и по серому колеру стен, здание Портняцкой синагоги - молельного дома, сказать бы, для низших чинов. Против Главной синагоги столь же внушительно возвышалось, воплощённое в тот же красный кирпич, здание Высшего музыкального училища. Стены его украшали сразу две мемориальные доски, посвящённые местному уроженцу и известному пианисту Генриху Нейгаузу. Тому самому Нейгаузу, у которого, кстати, вдохновенный поэт Борис Пастернак умыкнул его жену Зинаиду Николаевну, киевлянку по рождению, полуитальянку по крови.
И раз уж здесь зашла речь об Италии, позволю себе некую, на мой взгляд, вполне безобидную шутку. Скажем так, что в этом умыкании черноокой Зинаиды Николаевны, в соперничестве двух однофамильцев, - поэта Казановы и музыканта Нойхауза,- победа осталась за первым. Да, за первым из однофамильцев, ибо, по совпадению, с итальянского и немецкого обе эти фамилии переводятся одинаково, и соответствуют, например, казацкому призвищу-прозвищу Новохатько.
За час, прошедший с момента моего появления в центре города, я уже девять раз обращался к различным прохожим с вопросом "Не подскажете ли, где находится в городе музей Арсения Тарковского?" Кто извиняясь и сожалея, а кто и без лишних слов, но все опрошенные граждане, отвечали однообразно - сие им, увы, неведомо. Однако как раз в момент, когда я завершил изучение двух настенных генриховых скрижалей, из здания Музыкального училища, прямо на меня, ловца и искателя, бодро вышел по ступеням центрального входа молодой человек лет тридцати с неизменным, символом прогресса, мобильником, прижатым к уху. Подробно и с энтузиазмом он рассказывал кому-то в трубку, что мобилу свою, забытую им накануне в училище, с трудом пробившись через субботнюю охрану, счастливо уже вызволил. И теперь по этой самой мобиле можно им, друзьям, общаться сколько угодно. Статус кво персональной сотовой связи, стало быть, полностью восстановлен.
Терпеливо дождавшись завершения разговора парня, я обратился к нему всё с тем же вопросом - "Как найти музей Тарковского?" К счастью, он отреагировал на мой уже десятый по счёту, юбилейный, вопрос неравнодушно, и даже с некоторым сочувствием - возможно, ещё и потому, что стоящий перед ним поседевший странник в тёмно-синей рубашке, серых бермудах и кроссовках, судя по его чёрной походной сумке на колёсах, был явно приезжим. И сразу же, словно обрадовавшись новому сеансу мобильной связи, выбрал нажатием клавиши нужный номер, проведя новый разговор очень лаконично и по существу: "Олег, а где у нас в городе музей Тарковского? Да, Арсения, поэта. Ага, понятно, улица его... Ну, спасибо тебе. Пока, Олег."
"Ну, вот, - обратился он ко мне, - здесь совсем рядом. Пойдёте вон туда, чуть вверх, направо, и через квартал будет улица Тарковского. На ней же, наверное, и музей. Спросите там ещё". Ещё пять минут хода - и вот я действительно стою на улице, носящей имя Арсения Тарковского, что подтверждает совсем ещё свежая бело-синяя табличка на угловом доме. Целью моего приезда в Елисавет (называют порой елисаветградцы свой город и так - короче и энергичнее) был музей Тарковского, открытый недавно в доме Марии Фальц, музей, о котором я прочёл только что, этим летом, в сети. Но оказаться вдруг на улице с именем по-особому близкого мне поэта, в его родном городе - это был воистину дорогой подарок. Это был тот самый случай, о котором сказано: "Ты больше, чем просят, даёшь", та самая минута, что именуется "нечаянной радостью".
* * *
Поэт Арсений Тарковский родился в Елисаветграде 25 июня 1907 года. Его родина, где он прожил первые 18 лет своей жизни, навсегда осталась для него лучшим местом на земле. Осталась не только утраченным раем детства и юности, но и неким мощным метафизическим источником самых важных Божьих и человеческих сущностей, истоком его светлого и высокого мироощущения, источником его поэтической энергии.
Никогда я не был
счастливее, чем тогда.
Никогда я не был
счастливее, чем тогда -
повторяет поэт свою молитву-мантру в стихотворении "Белый день", вспоминая отца, стоящего на дорожке среди вьющихся роз и молочной травы, вспоминая сад и отчий дом, данные ему самой судьбой здесь - на берегу Ингула, именно здесь, где от тёмной реки начинается улица, носящая ныне его имя.
"Счастливее, чем тогда..." - звучит в стихотворении координата времени первородного счастья, звучит, не в последнюю очередь, как раз по контрасту с чёрным временем создания стихов, с военным и кровавым 1942-ым годом. Но это "тогда" неразрывно слито в сознании поэта с его родным и незабываемым "здесь-там", с клочком земли на скрещении западного берега Ингула и елисаветградской, тогда ещё Александровской, улицы, сбежавшей наконец с возвышения поймы к её краю, -
Вернуться туда невозможно.
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Цветущий райский сад.
В поэзии Арсения Тарковского постоянно звучит интонация великой признательности Творцу за каждую минуту земного бытия, вернее, признательности за всю неразрывность этих минут в судьбе поэта. И также, как архетипом пространственным в его творчестве становится утраченный райский сад детства на берегу Ингула, архетипом времени высвечивается символ молодого и полного сил лета, 25 июня, день рождения поэта.
Тот день, который будто бы сам говорит словами Арсения Тарковского:
Я завещаю вам шиповник,
Весь в пятнах света, как фонарь,
Июньских бабочек рифмовник,
Задворков праздничный словарь...
Тот день-праздник, день-завет, в котором, как в "бьющейся розовой точке", что "странным светится огнём", заключено ощущение полноты мира, ощущение магического единства всех его бесчисленных составляющих:
Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но всё мне кажется, что разы на окне.
И не признательность, но чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне...
А если я не прав, тогда скажи - на что же
Мне тишина травы и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьёв, похожий
На объяснение в любви глухонемых?
Этот дом с садом на берегу реки, этот день обещания счастья лета и чуда жизни, 25 июня, явственно становятся координатами начала некой внутренней пространственной и временной бесконечности сознания поэта, придающей мощное дыхание всему его творчеству. Безмерности, которая, безусловно, имеет и ещё одно, более глубинное начало - в минус-бесконечности человеческой истории и Божественной космогонии. И это второе, метафизическое, начало тоже властно ощутимо в философских, и одновременно очень личностных, строках Арсения Тарковского:
Я человек, я посредине мира...
И вот я стою 27 июля 2013 года как раз на середине его, а сейчас и моего, мира - на освещённой щедрым летним солнцем улице его детства и юности. Не погрешу преувеличением, если признаюсь, - оживает в пространстве голографический образ поэта, не умолкает в моём сознании музыка его стихов. Стою на улице, носившей ранее имена императора Александра и революционного крутилы-жучилы Володарского, а сегодня обретшей имя поэта Арсения Тарковского. Ей Богу, подобный редкостный обмен терминами даже оживляет на миг шальную мысль, что наше общее противостояние онемению энтропии - не столь уже безнадёжно.
Примерно на середине нумерации улицы Арсения Тарковского счастливо сохранилось и здание Александровской гимназии, где учились будущий поэт и его старший брат Валерий, а напротив скромный двухэтажный, - а вернее, полутороэтажный, - дом Марии Фальц, женщины, которая навсегда оставила свет великой любви в душе Арсения Тарковского.
Здесь же, чуть ниже по рельефу улицы, и выше по вектору её нумерации, обнаруживается и тот самый Свято-Преображенский собор, в котором маленького Арсюшу крестили в 1907-ом году. И спускаясь ещё ниже по улице, минуя автокефальный собор Святого Владимира, мельницу Шполянского, здание хлебозавода, занявшего место прежней обувной фабрики, можно добраться почти до того самого места, где стоял некогда дом семьи Тарковских.
Почти, потому что пустырь, занимающий огромную площадь на берегу Ингула, глухо огорожен сейчас рифлёным оцинковованным забором. За оцинковкой беспорядочно свалены уже погрузившиеся в бурьян бетонные блоки. Некто прыткий и ненасытный из нынешнего безвременья успел застолбить себе территорию, не преминул приватизировать как раз тот участок земли, где стоял когда-то дом, воспетый Арсением Тарковским в десятках его стихотворений. Да и самого дома нет уже несколько лет - снесён в жадных предчувствиях новой рентабельной застройки. Снесён так же, как и вся, до камня, старая застройка огромного пустыря, зарастающего что ни год всё гуще хрящеватыми сорняками.
"Вон там был дом, примерно под теми двумя деревьями..." сообщает мне мой попутчик и советчик, спонтанно включившийся в мои поиски на их середине, местный литератор и журналист Роман Любарский. Да, как раз на подходе пустыря к Ингулу и осталась единственная на весь застолблённый "делаварами" шмат земли пара деревьев - высоких и крепких, украшенных темнолиственными кронами. Судя по их возрасту, и они нашептывали когда-то юному Арсению что-то своё - и небесное, и земное. "А я - наместник дерева и неба..."
Ну, что же, этот физически исчезнувший с лица земли дом воскресает и ещё долго будет воскресать в проникновенных, пронизанных незабываемыми красками, звуками и запахами, стихотворениях Арсения Тарковского:
У матери пахло спиртовкой фиалкой,
Лиловой накидкой в шкафу на распялке;
Всё детство моё, по-блаженному жалкое,
В горящей спиртовке и пармской фиалке.
Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,
Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.
Ванилью тянуло от города пыльного,
От пригорода - конским потом и дёгтем.
В сборниках поэта рассыпаны драгоценными жемчужными зёрнами его прозаические миниатюры и его стихи-воспоминания о родном городе, о временах, когда каждое мгновение, каждый изгиб и радужный мазок пространства входили в душу навсегда:
Ещё в ушах стоит и гром, и звон
У, как трезвонил вагоновожатый!
Туда ходил трамвай, и там была
Неспешная и мелкая река -
Вся в камышах и ряске.
Я и Валя
Сидим верхом на пушках у ворот
В казённый сад, где двухсотлетний дуб,
Мороженщики, будка с лимонадом,
И в синей раковине музыканты.
Июнь сияет над Казённым садом...
О судьбах наших нет ещё и речи,
Нас дома ждёт парное молоко,
И бабочки садятся нам на плечи,
И ласточки летают высоко...
Так же высоко и счастливо летают ласточки над елисаветградским летом и в нынешний мой день 27 июля 2013 года, сто лет спустя после оживляемых поэтом материнской фиалки и отцовского пледа (стихи о 1913-ом предвоенном годе). Так же неустанно мелькают касатки в горячей синеве над осыпающими спелые плоды вишнями, абрикосами и грушами улицы Арсения Тарковского. Уже ничуть не сомневаюсь в том, что весь этот день воистину подарен мне судьбою, а, может быть, и самой тенью поэта, с которым душа уже давно чувствует "самую жгучую, самую кровную связь". И вот ещё огромный вопрос на засыпку всем философиям и психологиям - сохранись отчий дом поэта в неприкосновенности, смог ли бы он предстать перед временем - истинней, выразительней, духовно состоятельней того образа, который оставлен памятью, любовью и даром гармонии в строках Арсения Тарковского? И если говорить о бессмертии, то, наверное, нужно вести речь в первую очередь именно о поэзии.
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идёт бессмертье косяком...
* * *
Ни одного изображения Марии Фальц, женщины, ставшей первой любовью Арсения Тарковского, ни единой её фотографии или портрета, не сохранилось. Шестнадцатилетнему Арсению в 1923 году судьба подарила счастье любви обаятельной и утончённой 25-летней Марии, вдовы погибшего в кровавой смуте Гражданской войны царского офицера Колобова. С мужем Мария прожила всего несколько дней после свадьбы в 14-ом году перед уходом его на фронт, не увидев его больше ни разу.
Свод шедевров любовной лирики, около двух десятков стихотворений, посвященных Марии Фальц, которые Арсений Тарковский создавал в течение всей своей жизни, на мой взгляд, является наивысшей вершиной этого жанра в русской поэзии. По многим причинам - и потому, что высок и неповторим был человеческий и творческий дар поэта, пронесшего счастье и утрату своей юношеской любви через всю долгую жизнь, и потому, что судьба самой Марии Фальц сложилась трагически - в 1932 году, ещё совсем молодой, она умерла от туберкулёза в "меловом и соляном городке" Славянске. И эта, уже повторная, урата Марии, оплаканная поэтом, преображаясь в его душе и направляя его существо к некому катарсису, словно придаёт любовным стихам-посвящениям Арсения Тарковского, вместе с их болевой пронзительностью, одновременно и величественные признаки сакральности и клятвенности.
Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд.
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы. В городе звонят.
Светает. Дождь идёт, и тёмный.
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад.
Этот "дикий виноград", прижавшийся к краснокирпичной стене небольшого дома Марии Фальц, эти памятные по строкам Тарковского ступени, через которые сбегала возлюбленная поэта "и вела сквозь влажную сирень в свои владенья", можно видеть ещё и сегодня на улице Арсения Тарковского в Елисаветграде. Дом, свидетель и хранитель великого чувства, за прошедшие девяносто лет лишь глубже вошёл в землю, но остался неизменным в своей простоте и неброскости:
Невысокие, сырые,
Были комнаты в дому.
Называть её Марией
Горько сердцу моему.
Три окошка, три ступени,
Тёмный дикий виноград.
Бедной жизни бедный гений
Из окошка смотрит в сад...
В дворике, бывшем саду, при доме растёт и роняет наземь спелые июльские плоды раскидистое грушовое дерево. От сарая-развалюхи из глубины двора движется мне навстречу, что-то приветливо бормоча, пожилая женщина. Сопровождает её недовольно ворча, и даже погавкивя на незнакомца, приземистая и лохматая дворняга. Псина послана провидением, как я понимаю, для равновесия вещей и характеров в природе. "Чтоб жизнь мне мёдом вдруг не показалась..." Однако тут же, добавляя щедрому для меня нынешнему дню ещё толику мёда, непритязательно одетая дама протягивает мне обломок доски, предлагая сбить с ветки несколько груш на пробу. Ну, что ж, не смог я отказать доброй женщине - признаюсь, что довёз собранный пяток груш до Харькова и уже утром следующего дня убедился в щедрости даров хозяйки двора.
Богам угодна звука чистота...
1. Язык
Цветком ацтека, жарким чернобрывцем,
с клинка кровищу стёр Эрнан Кортес.
Огонь и дым вздымались до небес,
и кто убит был сталью, стал счастливцем,
поскольку всех оставшихся до тла,
горячечной заразой инфлюенцы,
в мученьях умертвили силы зла,
одетые в кирасы ополченцы -
шестёрки длинномордых королей,
вмурованных в дворцовый мрак Мадрида...
Когда соврёт их рот змеиный "vida",
что значит "жизнь", названьям кораблей -
не доверяй! Но псы бродячей смерти,
прикрытые обманкою креста,
в насилье утвердились неспроста:
cквозь Монтесумы мёртвые уста
язык торчит испанский... Еrgo, верьте -
богам угодна звука чистота.
2. Эль кондор
Я – и здесь, у себя на ладони, и там, на плече
степняка-истукана, в полынной, до чресел, парче.
То ль я божья коровка на тыле десницы своей,
то ли пуля туза в белом теле семёрки червей…
Лишь вина я едок, не игрок, будто Герман какой!
Да и то – по чуток, по полкапли, всего по одной,
по бутылке на нос, мой товарищ и сводный мой брат,
мой, в окружность вчеканенный твёрдо, упрямец-квадрат!
Перепончатый Хронос иль ворох архангельских крыл
на бумагу, на порох, на компас меня вдохновил?
Как мильонный китаец, на босу я ногу встаю –
под счастливый свой ранец, под грубую лямку свою.
Не в руке брадобрея, в шершавой родной пятерне,
жменю камешков грею, добытых тобой на Луне,
из Ланкастеров Армстронг, – любезнее, чем Ариост,
«Аполлоном» скользнувший меж алых и девственных роз…
Но о Новой Зеландии – нет, не совру, промолчу:
эти птицы моа великаньи мне не по плечу.
В ярко-красных наколках маори танцуют войну.
Но возьму я лишь песню «Эль кондор», другую, – одну!
Песню – плату за кротость и верность от хищных богов,
плавный плач коренастых детей ледовитых клыков –
синевато-зеленых, безмолвно властительных Анд…
Я хочу слышать «Кондора», инка, иной музыкант!
Ибо сам я – в своей маете, словно в шкуре твоей,
в медном золоте кожи навеки певучих детей.
Ибо вновь пред свирелью древесною остановлюсь,
ощущая засечку на сердце, ранение-плюс…
Наша жизнь, Мачу-Пикчу, подросток, и днесь не плоха:
остывают, на жертвенном камне дымясь, потроха,
но от жадных жрецов и от жертволюбивых богов
отлетают к нам звуки, священней даров-потрохов.
Воспаривший «Эль кондор» над Старой Вершиной завис,
где шаманят внизу лицемер-популист с вице-мисс.
Наша быль, Мачу-Пикчу, зажата в чужой пятерне,
и она же – парит над ущельем, над руслом на дне…
В человеческом детстве поёт простодушно свирель.
Буду жить в кулаке восемь месяцев – кликать апрель.
И не все ли одно – твой ли «Кондор» восходит в зенит,
мой ли, – «степью да степью» глухой,– колокольчик звенит?
Но жадным, но неутолённым...
1. Привоз
На Преображенской - Успенский собор,
а рядом - язычество торга,
развалы арбузов, плодов перебор.
шаров с полосатою коркой.
Идёт по Одессе горячий июль
с подарками плодоношенья.
И полон дарёною радугой куль,
и знойны молекул круженья.
О, Броуна бренды, Привоза хаос!
От пуза - палёные вина.
Мы вздрогнем по капле, приятель Привоз,
зане наши мысли невинны.
Зане наши помыслы - в сфере услуг:
тебе - шахер-махера пассы,
а мне, с моей песенной торбою, друг,
всё легче - без денежной массы.
Мне б ало-зелёный кaвyн срифмовать
с соседним вокзалом белёным...
И снова - по склонам приморским сновать
тем взором, что ижицу помнит и ять,
но жадным, но неутолённым!
2.
Под цветущею софорой прячет спину бочка с квасом,
в гуще зелени круглятся ярко-жёлтые бока.
На тебя в упор, Одесса, я гляжу весёлым глазом,
чую гул витых рапанов, шорох моря у виска.
Слышу Бабеля с Олешей, Паустовского с Шенгели,
и на всех углах бульваров, окликающих Прованс,
с хрусталём в руке, поэты, в облаках цветного хмеля,
всё рифмуют с Молдаванкой постмодерн и декаданс.
Хороши над Ришельевской поднебесные платаны!
Вмиг сыщу и чашку кофе, и в подвале интернет,
чтоб во все концы планеты разослать тобою данный,
на ходу новорождённый, элегический сонет.
Будут знать: я вновь в Одессе, в контрапункте Одиссеи.
Я опять в тебя влюбился - раз, два три - в четвёртый раз!
Снова я, дыша тобою, белый шум средь сини сею,
раскрывая чарам чакры, зорко щуря третий глаз!
Где б я каялся, спасался, если б не было Одессы?
Средь каких воздушных улиц я бы духом прирастал?
Да продлится эта повесть, эта пьеса, эта месса:
звук уключины скрипичной, белый, с музыкой, вокзал!
В хвилі, що плине невпинно...
* * *
Чекай-но, запальний, завзятий!
Все буде добре, як колись.
Ще зійде ранок липня з м"яти,
чекай, але не забарись.
Ще рушить у серпанок потяг,
мов подих-протяг у метро.
Благословить перстом твій подвиг
суворий пращур твій Петро.
Неси свій хрест, не відступися,
твоя ж бо кров впада в буття,
апостольської прагнуть висі
твої - і розум, і чуття.
І буде все, як має бути:
піски та глини всмокчуть кров,
і зійде знов із м"яти-рути
світанок липня, гай-любов.
* * *
"Доброго часу доби" -
пише є-мейл чарівниця.
"Щирості та боротьбі" -
чую тебе, ніжнолиця.
Третя опівночі. Тож
я відповім не одразу.
Часу повільного вздовж
буду любить твою фразу.
Я б і тебе покохав,
як би на те - Його воля.
Запах би травня вдихав,
зойк молодої тополі.
Та все шепоче мені
досвід, премудра тварина:
"Скільки ще днів в сивині?
Скільки ще див у тім дні,
в хвилі, що плине невпинно?.."
* * *
Та нічого, все нічого -
дяка Богу, слава Богу,
Іісусові Христу.
З божевільного коріння,
від насіння до старіння,
схоже, й досі ще росту.
Подивись мені ув очі,
не дівочі, не жіночі,
в очі Гарольда-бійця.
Там лунке та довге світло,
там, немов Завіту титло, -
криця й праця до кінця.
Подивись мені у серце -
там, від віку-ненажерця,
за рубцем встига рубець.
Та нічого, дяка Богу, -
ще плека мою дорогу
непоступливий Отець.
Попри всіх - усе нічого.
Ми - ніхто, та й слава Богу!
Сльози, заздрощі, брехня
вдень прийдуть, вночі зникають.
Липня пахощі зітхають,
ніч ляга на груди дня...
Священнодействие возможно...
* * *
Когда всё звонче яблок мясо,
всё ближе летних дней исход,
в лазури яблочного Спаса
заметен бликов хоровод.
Подобно звукам Амадея
они в гармонии слиты.
Великодушна их идея
одушевленья пустоты.
Священнодействие возможно
смиренномудрию вослед.
Легко, легко, лишь чуть тревожно
дробится августовский свет –
как будто крохотная йота,
прозрачнокрылая пчела,
искала в воздухе кого-то,
не дозвалась и не нашла,
как будто мытари дидлайна
придут не завтра, а потом,
и Амадей, дружок ротвайна,
согрел бокал с живым вином.
* * *
Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке,
в оболочке твоей продолжает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста не измяты
наяву и во снах - в молочае, в чабре и во ржи!
Вот и в Яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою -
так прощением пахнут деревья, трава и родник.
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов и вернее имён - тишина...
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
что дорога видна - серебро, голубень, белизна...
* * *
Шпионскую яичницу-болтунью
яичница-глазунья, "по-чекистски",
ревнует. И вовсю цветут петуньи
весь август, и клубятся тамариски.
И "Естудей", по Битлам ностальгия,
желтеет вновь с утра на сковородке.
И отпускные помыслы благие
щекочут ум, и коротки, и кротки.
Серебряных маслин-дикарок грозди
жуют закатно-рыжие коровы,
и диско-бар всю ночь вбивает гвозди
в пространства Казантипа и Азова.
Полсотни фотокадров - и неделя
растает пеной на песке-ракушке.
И эти дни, без рейтинга, без цели,
свистульки, сувенирные игрушки,
я вряд ли приплюсую к веским суммам.
Но мы с тобою, мой походный "кэнон",
припомним зимним вечером угрюмым,
как август плыл, гремя пиратским трюмом,
а море пело "лав" - нежней, чем Леннон...
И снится дом с балконом...
Абрикосы Тарханкута
О. К.
А что до дней, где рдеет абрикос,
я вновь окликну Тарханкута лето. -
Давным-давно я слал тебе приветы
туда, где льдиной правил эскимос.
И ты мне письма длинные писал,
покуда с полуострова, с Чукотки
назад не прилетел к Тавриде-тётке,
в свой прежний тарханкутский ареал.
Мы встретились. Я вижу, как сейчас,
твоё авто системы "Запорожец" -
красней, чем "Манифест". И отсвет кожиц
оранжевых плодов не в бровь, а в глаз
влетал сквозь ночь. Я мерил шагом сад
в надежде звук поймать, а то и строчку,
поскольку день - я сам, жена и дочка
изничтожали на курортный лад.
За веткой рифмы прятались. Но там,
во тьме, в прохладе так легко дышалось!
Примято-нежный плод, награду-малость
бросала Ак-Мечеть к моим ногам.
И день за днём твой пыльный городок,
райцентр цикад, акаций, Тарханкута,
мешал цикорий и полынь-цикуту,
наперчивая воздуха глоток.
Доныне ноздреватый ракушняк,
желтея над зелёною водою,
рифмуется с былою-молодою
эпистолярной дружбой, скажем так...
А ярко-красный жук из-под колёс
пылит. И метит пеплом расставаний -
ресницы, занавески в окнах зданий,
двор с кошкой на продавленном диване
и кряжистый, в колючках, - абрикос...
С видом на море
Татар и Тартара гортанней,
пылает охра берегов.
А плечи полночи - желанней
благоволения богов.
Таврийской ночью на балконе
крепчает красное вино.
Сипит пластинка в патефоне,
жужжжит судьбы веретено.
Воркует Клава ли Шульженко
иль округляет зычно рот
в правах богатых пораженка
Русланова полков и рот? -
Поют. И на балконе снова
так молоды отец и мать!
Но не разнять мне губ для слова,
не дотянуться, чтоб обнять...
А лишь вдыхаю воздух чёрный,
во сне к перилам наклонясь,
и вижу с высоты дозорной
сквозь кипарис мелкоузорный
слоистых гор водобоязнь.
Удары волн и ласки пены
отломят от подножья шмат.
Но выше, вдоль речушки-вены,
на полном вдохе Ойкумены,
парит - полвека без измены -
в ночи белеющий фасад...
Родимые, до вздрога, лица. -
Она тонка и мощен он.
И снится дом с балконом.- Длится
догалилеева страница,
столпов парящих небылица -
балясины, слоны колонн.
* * *
Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья -
табак, горчащий нежностью нежданно...
В султанах, от луны и лампы тени,
на мел лачуги брошенные странно,
сплетаются причерноморской страстью
в любовные обманы-чародейства.
А лоз июльских пальцы и запястья
всё тянутся к белёным стенам детства,
где ничего - не поздно, не зазорно,
ни в брызги, ни в осколки не разбито,
где золотятся виноградин зёрна
сквозь мякоть, как зеницы неофита...
Уснула в доме Оля-оленёнок,
дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.
Слой кафкианской ночи Кафы тонок,
где - бархатцы, где сам я, байстрючонок,
пью пай свой меж хозяек лунолицых...
Когда героев новых долго нет...
* * *
Несебар, полис памятных камней,
известняков, с налётом новодела.
Когда-то здесь труба над битвой пела,
звенели сталь и бронза злобой дней.
Несебарских базилик череда
рябою византийскою окраской
устремлена к Босфору, к раке царской,
к завету патриаршьего суда.
Традиция бодрит иммунитет,
как, например, цветок эхинацеи.
Но дряхлый миф впадает в ахинею.
когда героев новых долго нет.
И суть ищу я в жертвенных камнях:
что есть в них днесь, помимо новодела?
И правда ли, что честь их не истлела,
в смертолюбивых выживая днях?
Сто километров с лишним - и пролив,
где дышит Истамбул-Константинополь.
Пойму ли дни свои, осмыслю тропы ль?
Гляжу на север, возвратясь в Созополь, -
и вижу Крым. И грязь разбойных грив.
А девушка-голубка на бульваре...
Иван Франко
(1856 — 1916)
Украинский писатель, поэт, учёный, публицист,
общественный деятель.
В 1915 году был выдвинут на получение Нобелевской премии,
но внезапная смерть помешала успеху этого выдвижения.
Из "Тюремных сонетов"
* * *
Сижу в тюрьме, как в зарослях охотник.
Передо мной зверьё всех видов скачет
И сущности своей ничуть не прячет,
Хвалясь, кто в чём маститый греховодник.
Здесь лис - прожжённый вор, а не святой,
И волк - не музыкант, а лишь убийца.
Медведь - без бубна, лютый кровопийца,
Смердящий ненасытною Ордой.
Здесь обнажённей каждого обличье,
Как будто, сбросив фраки и мундиры,
Они весь стыд, всю совесть и приличья
Отбросили. И я готовлю стрелы
В засаде. Я - стрелок. И правда лиры -
Мой выстрел дальнозоркого прицела.
1889
* * *
Тюремный мрак, удушье и рыданья,
Застенки пыток, казематы муки.
Сожми, входящий, зубы, стисни руки,
Отбрось надежды, узник, и желанья.
Тут полют сорняки средь жита, вроде,
Но тотчас те, что злей, и высевают.
Параграфами правду измеряют,
Но льётся кривда мутью половодья.
Тут власть оберегают, но основу
самих основ - свободу, мысль и слово, -
Вбивают в прах, мордуя арестанта.
Вы, что, попав сюда, в капкан, хотели
Найти здесь человечность, в самом деле? -
Lasciate ogni speranza* - молвил Данте.
1889
______________________________
* оставьте всю надежду (итал.)
* * *
Россия, край терпенья и печали,
Всё с тем же, что и прежде, сбоем зренья,
Где тот же угол лжи и самомненья
Созревшие умы облюбовали.
Дрожишь ты, в косной тяжести заклятой,
Когда летят бесстрашно - в бой за волю -
Сыны твои, как соколы над хатой,
И вновь костьми ложатся в снежном поле.
Россия, пустошь крайностей жестоких!
Твой витязь Святогор храпит в угаре,
Казачья воля спит в степях широких.
А девушка-голубка на бульваре
Платком, а не военною трубою,
Сигнал даёт кровавому разбою.
1889
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Бог нас не выдаст...
Миргород, лето 2014
Вдоль камышовых зарослей Хорола
кувшинки золотятся на плаву.
В похмелье зноя нищенка-виола
всё держит звук - во сне и наяву.
Горяч камыш, июлем разогретый,
тепла речная мутная вода.
Войной и бойней сгубленное лето
вползло на рваном брюхе и сюда -
в полтавские, сорочинские травы.
Аэродрома взлётный форсмажор
ревёт с утра. По экспоненте бравой
стартуют МИГи - с карком "Невермор!"
Летят на смерть дюралевые птицы
над ненькой, а подсолнуховый рай
к погибели так жертвенно клонится,
что лучше, - до рассвета, - умирай!
Так легче сердцу - меньше вражьей злобы,
предательства и душного стыда...
Смердит Орда несытостью утробы.
Журчит Хорола жёлтая вода.
Здесь, где под почвой вздрагивает Гоголь,
по миргородским виевым шляхам
бродя, и я открытой раной трогал
ту притчу, где отца бесчестит Хам...
Приспавший волю, сивый Киев-батько!
Распнись - но навсегда помолодей,
отбросив в ад и клан Скоробогатько,
и Богачёвых, бесовых людей.
Бог нас не выдаст. В заводи Хорола
Е г о кувшинки дышат на плаву,
и держит точный звук Его виола, -
про вышитые, в чернобрывцах, сёла, -
Его сверчок пиликает: "Живу!"
Великое лишь малым прирастает:
тем, кто родил тебя, не измени!
Над Миргородом рёв. Но рассветает,
но дарит Бог - до тридцати в тени...
Я ведь жил. И доподлинно знаю...
Игорь Муратов
(1912 - 1973)
* * *
Не сердись, не гляди удивлённо,
Если я не теряю сознанья,
Замечая внезапные слёзы
На глазах твоих ясных, родная,
Я ведь жил. И доподлинно знаю:
Горе смертное сушит всю влагу
До последней слезинки, а с нею
Навсегда убивает надежду
На росток возрождённого счастья...
Потому-то всегда его жертвы
Гибнут молча. С сухими глазами.
Оборотень
Ввалился ко мне оборотень в гости
Представить высшей магии полёт:
Раз! - Коршуном он стал и с хищной злостью
В затылок насмерть голубя клюёт.
Два! - Сам явился голубем небесным
В сиянье белоснежного пера.
А дальше что? - Клубком свернувшись тесным,
Гадюкой стал. - Окончена игра.
Я вырвал жало. Он притих мгновенно.
И только яд кипел в нём неизменно.
* * *
Лопухи расцветают. Не верится?
Лопухи... Неужели цветут?
Те, что зря благородством не мерятся,
Продолжая свой жилистый труд.
Их ломало, давило машинами,
Им колёсами мяло хребты.
Но встают. Но цветки лопушиные
Неприметной полны красоты.
Геннадий Литневский
(1951 - 1989)
* * *
Когда, на людях, ты проходишь мимо,
Держу себя в руках, невозмутимо
Отшучиваясь фразой безобидной,
Иль, отстранясь от всех, словно чужак,
Кричу в душе со страстью ненасытной:
"Я ль это? Разве я сумел бы так?"
Когда же, - так поспешно, так нечасто, -
Вдвоём мы, и опять ты вся - моя,
Я ль это снова? Ведь такого счастья,
Такой любви на выдержал бы я!
Осень
Листопадом брожу и натуру
Для картона ищу, для этюда.
Где мазок тот, который де юре
И де факто - осеннее чудо?
Под дождём возвращаюсь я, друже.
Вдруг блеснёт под ногами, в тумане,
Лист кленовый в синеющей луже,
Как Австралия в океане.
* * *
И когда мои грусти-печали
Улетят далеко за межу,
Вспомню я все былые причалы,
Усмехнусь и негромко скажу:
Ты ступай своей тропкой босою,
Не ищи себе поводыря.
Розовеет опять над росою,
Над душой расцветает - заря.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И почуяли все мы...
Олег Ольжич
(1907 - 1944)
* * *
Глухо рухнули храмы, осыпался щебень палат,
И обрушились стены фортеций, и, согнуты вдвое,
Люди в поле бежали, и брата растаптывал брат,
И бескровные лица катились угрюмой толпою.
Изумлённо смотрели мы, зло искривляя уста,
В обречённые очи бастардов Гоморры нечистой,
Виноградарей грубых, купцов, обезьян без хвоста,
Полководцев и консулов с душами канцеляриста.
В небе тучи рвались, словно мутно клубилась река,
Ветер с юга сгибал до предела нагие осины.
И почуяли все мы, как пламенем Божья рука
Нам на лбы возлегла и на стяги с эмблемою львиной.
1937
* * *
Синеет очей ключевая вода,
И зорок прицел твой сквозь дали.
И даже любовь твоя будет тверда,
Как бронза, рубин и эмали.
Она не введёт тебя в солнечный сад,
Где смоквами ветви обильны.
Ни шага с дороги, ни мысли назад,
Ни мига на месте бессильно.
Над бездной повис поколений пунктир,
И времени лик всё туманней.
Но сам ты - борением созданный мир,
Отвагой вершинных дерзаний.
Овцы
Чудесными овцами полон закут.
Забиты, несыты, ограду грызут.
И с голоду дохнут. А кочет клокочет,
И трупы их - братья голодные топчут.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Вне пряжи лилий...
Песни у моря
К., Л.
Созополь певчих ласточек качает
над виллою "Софи", на проводах.
и новый день улыбкой привечает
с арабикой душистой на губах.
И, если завтра я умчусь в Софию,
то, видит Бог, ещё вернусь сюда,
где в воздухе - Орфеи и витии:
в агаве - шмель, в касатках провода.
О чём щебечешь, ласточка в нирване?
Мир оскудел бы без легчайших нот,
живорождённых в крошечной гортани -
вне пряжи лилий, вне хлопот-длиннот...
Вернусь от Красимира из Софии,
и снова - на балкон гнезда "Софи":
встречать морской рассвет и горловые
признанья щебетуньи-визави.
Вернусь от Лоры, от Сафо софийской,
шмели средь роз - очей её наркоз!
Cизарь Созополь, да пребудет близкой
Вселенная за синеморья риской,
за тайным смыслом дней-метаморфоз...
Белый, с музыкой, вокзал...
* * *
Под цветущею софорой прячет спину бочка с квасом,
в гуще зелени круглятся ярко-жёлтые бока.
На тебя в упор, Одесса, я гляжу весёлым глазом,
чую гул витых рапанов, шорох моря у виска.
Слышу Бабеля с Олешей, Паустовского с Шенгели,
и на всех углах бульваров, окликающих Прованс,
с хрусталём в руке, поэты, в облаках цветного хмеля,
всё рифмуют с Молдаванкой постмодерн и декаданс.
Хороши над Ришельевской поднебесные платаны!
Вмиг сыщу и чашку кофе, и в подвале интернет,
чтоб во все концы планеты разослать тобою данный,
на ходу новорождённый, элегический сонет.
Будут знать: я вновь в Одессе, в контрапункте Одиссеи.
Я опять в тебя влюбился - раз, два три - в четвёртый раз!
Снова я, дыша тобою, белый шум средь сини сею,
раскрывая чарам чакры, зорко щуря третий глаз!
Где б я каялся, спасался, если б не было Одессы?
Средь каких воздушных улиц я бы духом прирастал?
Да продлится эта повесть, эта пьеса, эта месса:
звук уключины скрипичной, белый, с музыкой, вокзал!
2013
Но вот возмездье...
Яр Славутич
(1918 - 2011)
* * *
Отряды крыс в Андроповском астрале,
Во тьме подвальной изощряя нюх,
Гнобили день и ночь народный дух
И с ненавистью книги в клочья рвали.
Спокон веков былых эпох вандалы
Не ровня новым - пагуба разрух
Крепчала, и жучков шпионских слух
Вживляли в быт сыскных контор капралы.
Пируй, чумное племя! Дни расплат
Вам ныне в очи мутные глядят.
Не спрятаться убийцам в шорах, в бельмах.
С таёжных веж, из гиблых лагерей,
Из пыточных мешков, лесов расстрельных
Настигнут вас проклятия людей.
Напротив здания КГБ.
Киев, 1990.
* * *
Когда Каган, напутствуемый Кобой,
Посеяв всюду смерть-голодомор,
Казнил, долдоня людоедский вздор,
Мильонов семь для власти низколобой,
Когда, как мухи, мёрли хлеборобы,
И брёл поэт сквозь смертный коридор,
Где был Ты сам, небес амбасадор?
За что нас в глину зарывал без гроба?
Погнали люд Йегова и Аллах
В московский холокост, в несчётный прах.
А Ты всё проворонил, святый Отче!
И не смолчу я сквозь жестокость дней:
Час Судный и Тебе готовит корчи
За зло и кривду на Земле Твоей.
Киево-Печерская Лавра,
1990
* * *
Тьму мавзолея семь десятков лет
Пьёт, как вампир, усохшая фигура
Того, кто нависал над миром хмуро,
Озвучивая гиблых маний бред.
Кретина лоб, создавший диамат,
Без пейсов Маркса сьёжился де юре.
Но вот возмездье! - Идола фигура
В пыль сброшена - от черепа до пят.
Кровавого вождя смели во Львове,
Свалили, проклиная в горьком слове.
Исполнился народный приговор!
Но на востоке, в мороке простраций,
Влача своей агонии позор,
Средь гнили черви-ленинцы роятся.
Львов, Донецк, 1991
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Ибо время все бездушней...
* * *
Деревянные перила, деревянные террасы,
деревянные ступени грустным голосом поют,
ибо время все бездушней - год от года, час от часа -
перемалывает в пепел перепончатый уют.
И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,
плыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлен.
В летнем коконе веранды, в древесине говорящей
перламутровою жилкой трепетал легчайший сон.
Были в сетке переплета разноцветны ромбы стекол,
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...
Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щелкал?
Чья беседа по овалу вкруг столешницы текла?
Кто там в платье светло-синем загорелыми руками
над фамильною посудой рано утром ворожил?
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...
Я один на свете вижу те сосновые ступени.
На веранде - капли воска, брызги битого стекла...
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,
и записка поминанья одинока и бела...
В переводе на болгарский
* * *
Дървени са перилата, дървени тераси има,
дървени са стъпалата и припяват с тъжен глас,
времето е безсърдечно и година след година,
час след час променя в пепел крехкия уют край нас.
Зърнест, слоест, живораждащ, за искри смоли разтворил,
плува дом наследствен боров, клатещ се, одушевен.
На верандата пашкулът с дървесината говори
над седефената жилка на ефирен сънен ден.
Разноцветни и горещи ромбове стъклата срещат,
рой крилца на водно конче стаята ще облече...
Кой с лъжичка чая гони, кой ли чупи орех с клещи?
Чий ли разговор за нещо край трапезата тече?
Кой ли в рокля светлосиня и обляна с изгрев риза
над семейните съдини бае за безкрая бял?
Кой ли тежки стъпки рони, с великански крачки влиза?
Аз сега единствен помня кой бе в този дом живял...
Аз единствен виждам сини стъпала от бор. Разлети
капки восък – на веранда, блик от счупено стъкло...
В изоставена градина хладни дървени джуджета
и бележка от отдавна – спомен в светлото било...
Перевёл на болгарский
Красимир Георгиев
В переводе на сербский
* * *
Дрвене ограде, ступци, она дрвена тераса,
дрвени басамаци - поју сетно на стази,
време је све бездушније - године, час до часа,
префарбавају у прах окрљушћени азил.
И зрнаст, и слојевит, жив смолом која гори,
дом боров пловио је, мрешан и одуховљен.
У летњој чаури веранде, у дрвету што зна да збори,
бисерном жицом дрхтао је сан, овде лако ловљен.
Ко сплет мрежица беху ромбови шарених стакала,
трем - налепљен од борја и крила вилин-коњица.
Ко је звецкао кашичицом, крцао орах, каткада?
Чије је разговор над столом текао - с чијих лица ?
Ко је у хаљи светло-плавој, рукама ко зрацима
породично суђе, изјутра, мудрој чистоти привео?
Ко улазио, ступајући тешко, џиновским корацима?
Само ја данас памтим ко је, до смрти, у кући живео...
Једино ја на свету видим те степенице борове
на веранди - капље воска, стакла пуклог прштаје...
И у врту, давно обраслом, стабла која не могу да оборе,
и запис за сећање што, сам и бео, траје.
Перевёл на сербский
Владимир Ягличич
В переводе на украинский
* * *
Дерев'янії перила – з дерев'яної тераси
з дерев’яними східцями – нахилились в небуття,..
бо млини часів безжально – рік від року, час від часу –
перемелюють на попіл незабутній світ життя.
І кудлатий, і косматий, – живородний і брунькатий, –
плив наслідний дім сосновий, дихав щастю в унісон.
В шарі кокону веранди, в деревині шаруватій
перламутровим видінням тріпотів найлегший сон.
Грали в ромбах перепльоту різнобарвні стекол плями,
терем склеєний був з хвої і бджолиного крила ...
Хто дзвенів стаканом чайним, хто горіх колов щипцями?
І чия навкруг стільниці мова лагідна текла?
Хто там в сукні світло-синій брав засмаглими руками,
ніби скарб, фамільний посуд – на світанку ворожив?
Хто ходив, – ось-ось загрузне, – велетенськими шагами?
Тільки я і пам’ятаю, хто до смерті в домі жив…
Тільки я один і бачу ті щаблі, – видіння-човни…
На веранді – краплі воску, бризки райдужного скла...
А в саду, що став нічийним, у дерев – коліна чорні,
і записка поминальна так самотня і біла ...
Перевёл на украинский
Николай Сысойлов
Где в зное зреют гроздья островов...
Юрий Клён
(1891 - 1947)
Кортес
1.
В край сказочный, под пальмы и агавы,
Где в зное зреют гроздья островов,
Влекли тебя полотна парусов
И страсть добычи, авантюр и славы.
Саргассовы в борта впивались травы,
Звенели ветром крылья кораблей.
И звали сквозь безмерность волн и дней
Богатства экзотической державы.
Все годы ты мечтою жил - теперь
В огромный мир тебе открылась дверь,
где всюду - синь озёр, цветы по пояс.
Гляди же - вон в лучах зари горит
Тот Мехико, золотоверхий полис,
Что, как труба, в легендах прогремит.
2.
Наверное, и в давних детских снах
Печальные и странные ацтеки
Тебе являлись, опуская веки
На гордых затуманенных очах.
И видел ты сквозь мглу, тревогу, страх,
Как идолов оскаленные лики
Корёжились в огне, как слёзы-блики
Златились на узорчатых щеках.
И вот коня ты придержал в раздумье
Об изумруднопёром Монтесуме.
Неужто его царство - только сон,
Что отпылает и исчезнет с дымом,
И будет лишь цветком неповторимым
Цвести в столетьях - сельвы тайный трон?
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Быстрей забилось сердце ...
Яр Славутич
(1918 - 2011)
Херсонес
Быстрей забилось сердце - взгляд с парома
Поймал названье порта - Херсонес!
И, словно дальний гром среди небес,
Воскресла мова мамы, так знакомо:
"Мой род не прозвенел великой славой.
Скончалась рано матушка. Отец
В Манчжурии в бою нашёл конец...
А бабушка? - Была гречанкой бравой!"
И ощутил я, как в крови моей
Взыграли гены стародавних дней,
Былых страстей волнения и стрессы.
Гречанки юной тень, гибка, легка,
Плыла - из виноградника Одессы -
В любовные объятья казака.
На греческих
островах, 1977 г.
Наследникам
польских офицеров
Для вас - Катынь, Осташково и Харьков.
Нам - Винница, и Лаз, и Быковня...
Несчётно гиблых ям день ото дня
Москва копала посредь мирных парков!
И, не терпя на слух славянских карков,
И тыча в карту пальцем наугад,
Верховный вождь, волчина, серый кат,
Опричникам приказы харамаркал:
"Врагов Кремля, всех ляхов и хохлов,
Всех без пощады - в тридесятый ров,
Чтоб не осталось и воспоминаний!"
Запомним же могилы те навек,
Дабы мы все, в чаду кровавой бани,
Не стали свалкой мёртвых и калек.
Харьков, 1990 г.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И незыблемость смысла придёт...
* * *
Новак Джокович, рыцарь бэкхенда,
говорит на семи языках.
Чую сербского нрава крещендо,
тигра грацию, ястреба взмах.
Так и Дучич с кудесником Теслой
над Атлантикой властно парят,
так струят обновление в чресла
Нови Сад, Нови Герцог, Белград.
Так и хордой смарагдовой Котор,
тектонической бездны разлом, -
некий очень глубинный декодер
меж твоим и моим языком.
Пой по-сербски про Ярое море,
я ж, на русском храня Перворусь,
по-днепровски "співаю лавсторі"
и сплетения струн не страшусь.
Как врывался я в юные чащи,
как тенистые корты любил!
Низкий мяч, даже самый пропащий,
изо всех выцарапывал сил.
И доднесь, - мят и бит, но стожилен, -
я, как Новак-юнак, не сдаюсь,
ибо голос мой эхом обилен,
ибо светится в нём Перворусь.
Бледный червь напрягает объятья,
щерит Голем насильничий рот.
Но спаситесь любовию, братья, -
и незыблемость смысла придёт.
Новак Джокович - джокер в колоде
всеславянской, на вылет, игры...
Семь наречий у Господа в моде.
И цветны сны-псалмы на природе,
у подножья Печерской горы.
Диптих 31 мая
Диптих 31 мая
Маме, в её день
1.
Ау, гуманный увалень старинный!
Когда же ты устанешь, повзрослев,
оплакивать опавший цвет жасмина
и белый флёр каштановых дерев?
Всю ту красу, что наземь ливень плотный
сбивает... Слушай - крепнет вещий звон
о том, что ход событий безысходный
сжимает ныне круг со всех сторон.
И плач смешон по лепесткам, ведь завтра -
июнь, и беспредельщица-весна
сбежит, чтоб на когтях тиранозавра
вломилась в лето хищница-война. -
Чтоб весь июнь, июль и август зноем
разверстой пасти выморить до тла,
чтоб этот мир оставить не героям,
но хаосу безбожия и зла...
Покайся, ибо слаб. Пуста уловка
оправдываться путаницей вех.
Тот самый Суд. И рекогносцировка
окончена, и зверь сверкает ковко,
и смертен грех - уже один на всех...
2.
Стрижи летают высоко,
вещая ясный день на завтра.
До невесомости легко
парит над вязкой кривдой правда:
и ты уйдёшь, и все уйдут,
кто ныне жилы рвёт в запале.
Пребудут лишь стрижи минут,
что в небе и в душе летали -
одновременно здесь и там,
и в ярко-синей тайне Бога,
и вдоль химер наземных драм,
мятущихся без эпилога, -
над суриковой жестью крыш,
где за окном чердачным пыльным
ты, отрок, пёрышком скрипишь,
любвеобильным, семижильным.
И золотится девясил
внизу, одушевляя глину,
которой век ты дань носил,
чтоб все холмы родных могил
собрать любовью воедино...
Блеснула поступь маленькой гимнастки...
Голоса
1.
Негры в белых рубашках и в бабочках чёрных
с шумом-гомоном пиво на Пушкинской пьют.
Я же, труженик местный, из масс, обречённых
на копеечный,- даром, что творческий, - труд,
здесь в кафе у метро, под зонтом полотняным,
с чашкой кофе присел - и прочувствовать рад,
как студенты из Африки тембром гортанным,
нутряным, - между львом бы, сказать, и орланом, -
по-французски горланят, по-свойски трубят.
Ибо слышу я - этот же звук полнокровно
Александр-стихотворец в хорей свой внедрил,
а в ядрёный свой ямб - те же гулкие волны,
тут же пурпур упругий и киноварь жил.
Негры в белых рубашках, в очках фармацевты,
батареей бутылок уставили стол.
Не давал я за вход ни сантима, ни цента,
но вернулся, - тональностью ниже, - в Сорренто,
по безналу на праздник вокала прошёл.
2.
Небесный альт, дворовый чад резины...
Давно пора забыть, как Робертино
завидовал я долгих тыщу лет –
с тринадцати до паспорта врученья.
Был пресен вкус морковного печенья
и в линзе с глицерином мутен свет...
Бельканто и теперь в печёнке где-то
вибрирует. А прежде бела света
не видел я, когда уже сверх сил,
с душой саднящей, с кирзовой гортанью,
глотая угловатое молчанье,
опять пластинку певчую крутил.
О, солнечные трели Робертино!
У той любви был едкий зев ангины.
У ревности, меж тем, не чёрный цвет –
она, скорее, в ромбах арлекина,
в расцветке шахмат следственно-причинной,
за мной ступала верно след во след.
Бредя асфальтом, чуял я отчасти,
что в той кручине был задаток счастья, –
и фокус этот сладил царь Горох, –
и что душе для истинного пенья
куда нужней, чем голое везенье,
солёно-горький повивальный вздох...
А ветер дул то холодно, то жарко.
Водил я в парк чепрачную овчарку,
и незаметно из рутины дней
в соседнем классе – небесам в острастку –
блеснула поступь маленькой гимнастки,
и что-то чисто серебрилось в ней.
Была ли снова песня безголосой?
На все по геометрии вопросы
циркачке ты серьёзно отвечал.
И зыбко, словно дискант издалёка,
светился легконогий абрис сбоку,
у странного начала всех начал...
Небесный альт, с гудрона чад резины...
Любовь и ревность – юные кузины.
Не рассудить, кто краше, кто умней!
Жаль одного – заметить, как стареют,
добреют-расползаются, дурнеют,
дабы исчезнуть за чертою дней...
Не забыть, как серёжки черешен...
* * *
Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен
на июльской ладони мне жадина-жизнь подносила.
И когда прогрызёт мне кадык тупиковая плесень,
оживёт в переулке-струне молодильная сила.
Не сказать, как вишнёвых деревьев пунцовые кроны
над забором-горбом ни за грош, по любви, вызревали!
И когда упаду я обломком лепнины с фронтона,
карнавалы красавиц и дружных стрижей фестивали
мне качнутся вослед, догоняя, рифмуя, прощая…
Снова синь грозовая чернильною станет и чёрной.
Над простыми предметами и непростыми вещами
головою качну я в ответ, понапрасну учёной.
А проснусь ли живым – подпою! Ибо вечные звуки,
махи пчёл, махаонов, стрекоз , темперируют воздух –
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки
Фредди Меркури шалого – в тающих утренних звёздах…
* * *
Шпионскую яичницу-болтунью
яичница-глазунья, "по-чекистски",
ревнует. И вовсю цветут петуньи
весь август, и клубятся тамариски.
И "Естудей", по Битлам ностальгия,
желтеет вновь с утра на сковородке.
И отпускные помыслы благие
щекочут ум, и коротки, и кротки.
Серебряных маслин-дикарок грозди
жуют закатно-рыжие коровы,
и диско-бар всю ночь вбивает гвозди
в пространства Казантипа и Азова.
Полсотни фотокадров - и неделя
растает пеной на песке-ракушке.
И эти дни, без рейтинга, без цели,
свистульки, сувенирные игрушки,
я вряд ли приплюсую к веским суммам.
Но мы с тобою, мой походный "кэнон",
припомним зимним вечером угрюмым,
как август плыл, гремя пиратским трюмом,
а море пело "лав" - нежней, чем Леннон...
Пахнет морем и яблоком Ева...
* * *
А помнишь – в первый раз мы были в Херсонесе?
Не так уж и давно…
Всего-то тридцать лет
скользнули в небеса, сквознули в редколесье,
по зимним желобам скрипя, сошли на нет.
Недавно и давно… Ещё все живы были –
твои отец и мать. Мои.
И все тогда
друг друга, как могли – без пафоса – любили.
И каждый нёс свой фунт подспудного стыда.
Артель "Напрасный труд" благоухала резко
одеколоном "Шипр", копеечной едой.
И длинной речь была про куцые обрезки
под ряженной в кумач прожорливой звездой…
Но помнишь, как тогда над почвой-пеплом мыса
пружинила твоя июльская стопа?
Треть века унеслось, но цвет не изменился –
бела над синевой античная тропа.
Треть века истекло, но звук остался прежним.
Средь греческих руин алеет алыча.
Остался тем же зов – невыдуманно-нежным,
легчайшим, как загар любимого плеча…
Александру Грину
Ветер занавеси клетчатые треплет
за распахнутою дверью у крыльца.
Трепет утра, молодильный солнца лепет
у ключиц, у полусонного лица.
Ветер стенами дощатыми играет –
и, качнувшись корабельной плотью, дом
в полудрёме угловато уплывает
за магнитный Зурбаган и Меганом.
Киммерия, я плыву, твой гость нечастый,
я не плачу об утерянном ключе!
Зорок ястреб, желтоглазый, голенастый,
на костлявом капитановом плече.
Киммерия, из лилово-дымной сини
веют свежестью имбиря юг и вест…
Итальянские глаза Карассарини,
чёрно-мраморный феодосийский крест…
Хороши арбузы в Кафе на базаре,
но недолго кофе пакостный хлебать –
вислоусый обоюдоострый парий
цепью якорною звякает опять.
Он забросит вновь рябую злую птицу
на костлявое и твёрдое плечо…
Будет то, что воле Божьей пригодится. –
Полдень! – Ветрено, лазурно, горячо!
Гаспра
Старокняжеские алебастры
тронул розовым светом восток –
земляничное дерево Гаспры
мне в ладонь уронило листок.
Меж ветвей почивает прохлада.
Ранний воздух на вкус – Парадиз.
И полны благозвучья и лада –
имена: Симеиз, Кореиз…
Золотая уколет примета –
только краем ресниц позови.
Дорог дар красноплодного лета –
растворенье июля в крови.
Дорог дар переменчивых странствий –
в райских кущах сверкнула змея.
Как ты светишься в смуглом убранстве,
загорелая Ева моя!
Повтори же, смеясь, своё имя.
и, спустившись по склону к воде,
в поцелуе умрём молодыми,
чтобы в старом воскреснуть вине!
Пахнет морем и яблоком Ева.
Зноен грех наш до дрожи колен –
перепутано право и лево,
и шумит земляничное древо
подле княжьих облупленных стен…
В год колокольца и в месяц шмеля...
Стихии
В год леопарда и месяц хоря,
в эру пустынного календаря
явлен на свет я, и пламя не зря
лоб обожгло мне печатью царя.
В день раскалённый мне дал Зороастр
герб свой – сургучный сосуд-алавастр,
что, в обрамленье бессмертников-астр,
вставлен в налоговый рыжий кадастр.
В год одуванчика, в месяц ольхи
стали сбивать мне дыханье стихи.
Ветер раскачивал сада верхи,
падали яблоки глухо во мхи.
Там и звенел я, в воздушной стране,
на кровяной, но ненужной струне.
Исподволь ласково вторили мне
ветки во влажной своей глубине.
В месяц кувшинок, в судачьем году
лил-заливал я за ворот бурду.
Непросыхающих зим череду
в Красную армию слал по винту.
К Троице всё-таки спас меня Понт,
синью отмыл мне лицо горизонт.
Перекрестившись, трезвей, чем виконт,
вновь добровольцем пошёл я на фронт,
ибо ещё оставалась земля
в лоне стихий – покаяния для.
В год колокольца и в месяц шмеля
обнял во сне я отца-коваля.
Дочери очи оставил и дом,
сыну – реченья о свете ином.
Грех мой отпущен во храме земном
глиняным хлебом и чёрным вином.
О да, я пью всю жизнь народное вино...
В Созополе
О да, я пью всю жизнь народное вино –
то «Мечу* кровь» болгар, то «Кьянти» из Тосканы,
а то и «Инкерман». И если впрямь смешно
мне форте, то засим пою я тихо-пьяно –
без клятв и буффонад, без воспалённых фраз
о том, что хан орды – властитель всей Вселенной…
А если «Карнобат» подарит мне Бургас,
спою про карнавал багряной влаги пенной.
И здесь, на берегу, где правит царь Газпром,
где слышен, что ни шаг, Москвы спесивый говор,
мне солнце плечи жжёт, и слух ласкает гром,
и помидор сечёт по-шопски смуглый повар.
И вот уже несёт в тарелке расписной
Боряна то да сё. И в очи Византии
гляжу я, чтоб опять все искры до одной
передарить псалмам влюблённого витии.
Здесь, впрочем, всё – путём: Созополь и Бургас
вдыхают нефтехим и кашляют в тумане.
«Лукойл» не дует в ус и, щуря цепкий глаз,
перегоняя нефть, смердя, качает мани.
О нет, не заросла имперская тропа
в края балканских роз. – Молись, Константинополь,
и трепещи, Стамбул! Державников толпа
лелеет миру дар - за «Искандером» «Тополь».
И Кремль поклоны бьёт железной «Сатане» -
не Богу. Дни пришли, когда предельно ясно,
что из ордынских рвов не выбрались оне,
братьЯ да кумовья, адепты бражки красной.
Но тот, кто вздымет меч на мать, на Перворусь,
тот сам же от меча… - и далее по тексту.
Созополь, сизый птах, прощай, я не вернусь.
Сквозь призму крыл твоих – надежды дрожь и грусть.
И чайки крик: "Ищи среди своих невесту…"
----------------------
* медвежью (болгарск.)
Крепись, моя бродяжья сила...
Велико Тырново
Крепись, моя бродяжья сила, -
не пить, не петь мне без тебя.
Спасибо, что меня хранила,
неведомо за что любя,
на всех путях. Крепись, сестрица:
в руке - трофейный ятаган,
лазурный крестик у ключицы
и перевитый змейкой стан.
Вот так и Тырново обвито
змеёй смарагдовой реки.
Искрит его ущелий мыто:
и римской бронзы пятаки,
и пять веков казны турецкой...
Над сменой принципов и вех
вселенской волей веет грецкий
широколиственный орех.
Белеют вертикали-скалы,
мчит по излучинам поток.
И генерал Гурко устало
у камня на траву прилёг.
Его фамилия, вестимо, -
примета царского хохла...
Всё мимо Божьей воли, мимо
свободы - вечность унесла.
Остались дикие ущелья
и хаток лепка-лепота,
Великотырновское зелье -
азы молитвы и поста.
Всё поле маков-фесок алых
янтарной Янтрой снесено.
И зреет на отвесных скалах
каких-то новых войн вино.
Остановлюсь - вокруг старинный полис...
В Пловдиве
Остановлюсь - шелковицей болгарской,
щедротами пупырчатых плодов,
осыпан я по-пловдивски, по-царски
и к дежавю счастливому готов.
Она черницей-дудой здесь зовётся -
та ветка ягод, что среди двора,
в мальчишестве моём, опять смеётся,
жива, как всё, что было - там, вчера...
Белей же, лиловей, черница-дуда!
Играй, моя попутчица-дудА, -
и здесь, у гор Родопских, и повсюду,
где рдеют черепицей города.
Июньский полдень солнцем переполнен,
и полон Пловдив плодоносных чар.
И долгий путь мой, что к исходу склонен,
ведёт туда, где деньги и товар
пред чем-то невесомым вес теряют,
пред тем, чья суть - глубинней, и верней,
пред искрой, что из антики играет
цветною силой молодильных дней.
Остановлюсь - вокруг старинный полис.
Филиппов Пловдив на семи холмах -
древней Афин и Рима. Притча-опись
всё длится, всё алеет вязью повесть
о срубленных драконьих головах…
В июньский день двадцать четвёртый...
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея, то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака. –
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, –
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но снившееся! Где ты, где ты?
Аэробус взлетает над ливнем...
Вода, огонь
Аэробус взлетает над ливнем,
опираясь на рокот турбин.
Роет Хаос зазубренным бивнем
ров неровный для кровных былин.
Каин, Каин! Где Авель, твой младший,
приглянувшийся Господу, брат?
Проломившись кровящею чащей,
не отыщешь дороги назад.
В аэробусе "триста двадцатом"
над потопом Бургаса взлетев,
путь держу, заклинаемый братом,
на межу, на фамильный посев.
Возвращаюсь к тебе, Украина,
Сечь казачья, варяжская Русь!
Но в сюжете жестокой былины
ни строки угадать не берусь.
Хлещут Варну июньские воды,
и грохочет над Тырново гром.
И в разливах балканской природы
ясно виден мне огненный дом -
тот, былой мой, эдемская повесть,
дом над ряскою речки Лугань,
первоцвет, первородство и совесть,
тот - всегда ясноглазая рань...
И лечу я туда, где грозою
только множится кара огня,
где зеницей, натруженной, злою,
снова целится снайпер в меня,
где грозит из-за тына бескровный,
зашифрованный казус лица...
Крепнет пламя над сушей греховной.
И агнешки, болгарские овны,
кротко просят воды у Отца.
В переводе на сербский
Вода, ватра
Аеробус узлеће над пљуском,
ослоњен не штектање турбина.
Копа Хаос оштрозуб у уском
рову - бајку крвавих дубина.
Каине! Па где је Авељ, млађи
твој, Господу привијени брат?
Ма колико честом крви зађи
пута натраг нема кад је рат.
Аеробус, „триста двадесети“.
Док облак на Бургас потоп баца,
заклет братом, летим својој мети,
на границу, на посед отаца.
Враћам ти се, крај сече козачке,
Украјино, варјашка Русијо!
Ал из бајке сурове, отачке,
такве строфе ја нисам уснио.
Док бичују Варну јунске воде,
и док урла над Трновом гром,
кроз изливе балканске природе
ја привиђам, јасно, огњен дом -
некадањи, из едемске јаве,
кућу, реку, башту крај Лугања,
првородство, првоцвет и савест:
јасноока првина израња.
Летим тамо где се бура буни,
казна огња стиже до обиља,
где зеницом, коју зло натруни
опет снајпер мене оштро циља,
где бескрвно прети с тла, док пловим,
лик шифрован у мрачног бдиоца...
Јача плам над копном греха овим.
И агњеци, бугарски овнови,
кротко моле за воду, од Оца.
Перевёл на сербский язык
Владимир Ягличич
И с каждым маем всё любимей...
* * *
Рвутся к небу - напряженье тока,
энтропия и цена бензина...
Троица, дожди твои до срока
осыпают белый цвет жасмина.
Троица, и всё-таки свершилось
Празднество - ветвями и громами -
чтоб взошла Апостольская милость
над семижды, над семью холмами...
А как спелась речь Святого Духа
с пешим ходом пастыря Андрея,
так и я, грозою-медовухой
надышавшись, во хмелю добрею
что ни год - в июньском переплеске,
в свежине-гульбе кленовой новой.
Сыплется жасмин и мака фески...
Но, вздымая купол Брунеллески,
день стоит, как запах хлеборезки,
дочиста промытый, лепестковый!
* * *
Зелёной Троицы венок,
чуть вязкий привкус травной сказки.
Подковы, цокот конских ног
и чётко-бодрый стук коляски. -
Осанистая, словно лорд,
детей катает в фаэтоне
кобыла - яблоки апорт,
ранет на крутозадом фоне.
Звенят привольные стрижи,
и с каждым маем всё любимей
их ярких крыльев виражи -
ребяческие и во Имя...
Каштанов свечки отцвели,
но, право, к ним слабеет жалость,
когда и флот твой на мели
и слово в междометье сжалось...
Но вновь у самых окон - гроздь
акации, невесты лета!
И значит, многое сбылось
без соучастия куплета.
Тепло. И Троицы венок
сплетается к исконным срокам.
Звенит стрижа крыло-клинок!
И над стаккато бодрых ног,
искрит кобыла карим оком.
И вот взгляну в глаза тебе - понять...
30 мая 2014
Когда и сам Вольтер стихи писал,
морщинистый, синильно-кислый, едкий,
Господь простит нам, брат, базар-вокзал -
наш суп из топора и табуретки,
где ловится, средь щепок, жизни суть,
когда её подденешь ловкой ложкой,
добавив соли с перцем по чуть-чуть,
а также сдобрив силикатной крошкой
зыбучий супчик, варево времён,
родимый харч, фамильную отраву...
Всё крепнет "вечный погребальный звон"
в ушах моих - по праву и во славу.
Кто здесь, в Содоме, не клепал стихов, -
абрек Сосо, арап голубоглазый, -
иллюзий искупления грехов
не оправдав, похоже, ни полраза?
Везде измена, драгоценный брат, -
во мне, седом, в тебе, молодцеватом.
Весь синий от тату, дегенерат
опять кувалдой расщепляет атом.
Повсюду сети, добрый мой поэт.
Гляди - и ты меня сегодня кинул.
Добро, что не сужу, что шлю привет
с индифферентным ароматом примул.
А что до снов, в которых вновь сирень
благоухает юной волей мая,
то, право, и она на пятый день
предаст, увянет, спешно умирая.
И вот взгляну в глаза тебе - понять,
где Бог, где твой порог, и скоро ль сгину
в краю, где каждый - Каин или тать,
где пьёт отвека деспот "исполать"
над суицидом и Отца, и Сына...
Как к лицу Вам диплом инженера...
* * *
Разведенью вуалевых рыбок
посвятивший четырнадцать лет,
стал ты ныне в суставах не гибок,
и лекарства от этого нет.
Разве, рюмка целебной текилы.
Или две, например, или три.
Ослабев батарейкой мобилы,
зарядись и не сразу умри!
А воспой эти стройные ноги,
что по кампусу нынче прошли
озарённые в майском чертоге
красным платьем, цветами земли.
Любо, дорого. - "Здравствуйте, Лера!
Как Вам цвет ярко-алый идёт,
как к лицу Вам диплом инженера
и очерченный нежностью рот!
А о Ваших глазах с поволокой
я и вовсе опять промолчу.
Не идти же мне с травмой жестокой,
с лихорадкой душевной к врачу..."
Пусть скрипит мироздания остов
в заусенцах, занозах, сучках. -
Ярко-выпуклы вуалехвостов
очи честные в линзах-очках.
И врастает в небесную притчу...
* * *
Пишут добрые люди с Алтая:
"Вы дышите - да будут стихи!"
И, над зеленью мая взлетая,
я вдыхаю каштанов верхи.
Пишут издали Божии люди,
с луговин золотистых коней:
"Голова Иоанна - на блюде.
Где ж воспрявшие духом над ней?"
Мало их. И всё множится Ирод,
млечных чад о каменья мозжит.
Ров окопный вдоль времени вырыт,
полон жертв, до сих пор не зарыт.
О, узреть бы Алтайские горы -
ровный ряд философских голов,
где витающий Будда к укору
даже краем ресниц не готов!
Где рассветная бодрость спокойно
ранний инь сочетает и янь...
А вот счесть ли мне здесь мои войны,
Боголюбский, Таврида, Лугань?
Претерпеть ли мне в сердце безумье
родовых вырожденческих лет?
Чую, зреют в зазубренном чуме
сорок чум, сорок судных побед...
А певучие люди с Алтая,
что Уралом укрыт от Кремля,
кличут. И откликаюсь - летаю,
пустоглазого аспида зля.
И над Киевом, над Мачу-Пикчу
пролетая средь облачных стай,
постигаю фонетику птичью,
и врастает в небесную притчу
лебединой гортанью Алтай.
Над сердцем молодым и честным...
Конец мая, 2014
Любвеобильный, благодатный,
схлестнувшийся с железом крыши!
Как чувствую тебя я, брат мой,
как страсть твою, мой ливень, слышу!
Петь о "грозе в начале мая"
звал школьника философ Тютчев.
Но вот, не лирике, внимая, -
войне, - ещё и ныне влюбчив,
пью я полынь грозы на сломе
времён, на блокпосту июня...
Средь потрясений, в зле-Содоме,
глотаю судный дым - не втуне,
но вслух молясь, открытым текстом:
"Да станет искупленьем пепел,
да вспыхнет над погостом крестным,
над сердцем молодым и честным,
терновник - после ливня светел!"
Белой пернатою розой, махровым пионом...
* * *
Голубь грудастый, - мохнатые белые шпоры, -
радужной шеей сияет, как выигрыш-кубок,
глупый оранжевый глаз многоженца-мажора
пучит в надежде на новых весенних голубок.
Сей доминантный петух, ненасытная птица -
весь аллегория о человеке и хлебе:
тот, кому выпало дутышем пешим родиться,
умкою-турманом не разгуляется в небе.
Белой пернатою розой, махровым пионом
не развернёт лепестков в турбулентном полёте
Крохи пайка - курам на смех, дворам приземлённым.
Вам же, летучие, - всё, что средь высей найдёте:
аквамарина размах на все стороны мира,
облачных нив под крылом лучезарное море.
Полнится май, и стрижи, копьеносцы эфира,
свищут, паруются в небе, в пространстве лав стори...
* * *
Густой электризованною влагой
лилово тяжелеют небеса.
Воздушной дрожью,
чувственною тягой
бежит по саду близкая гроза.
И ты спешишь,
пугливых роз вязанку
поспешно вносишь в захмелевший дом.
Малины лист,
серебряный с изнанки,
трепещет на ветру предгрозовом...
Это слёзы псалмов, это жизни тревожная треба...
* * *
Опускаешь глаза - а вокруг золотые монеты,
на траве, на асфальте, на вызревшей почве лежат.
То алтын, то пятак, то полтинник, горячий, как лето.
А отдашь иль возьмёшь - урожай и посеян, и сжат.
Поднимаешь глаза - над тобой безмятежное небо,
а минут через десять сгущается гроздью гроза.
Это слёзы псалмов, это жизни тревожная треба.
И ни крайнему сдаться, ни выстрелить первым - нельзя.
Отче на небеси, да приникнет к земле Твоё имя,
да пребудет в душе моей великотрудный завет.
Я давно среди тех, кто ушли навсегда молодыми,
и уже среди тех, кто упорствует выслугой лет.
Догоняет война, и на спину бросается подлость -
с правоверным лицом родовой узнаваемый зверь.
И вишнёвою кровью кириллицы полнится повесть,
и распахнута сызнова в ад черноротая дверь.
Настигает война, но весна её перегоняет,
и царит над убитыми меченный вечностью май.
Страстотерпица мать лишь короткое Имя рыдает,
то, что помнил и ты. А забыл, так умри - вспоминай!
На сто пудов, на семь цветов - Винцент...
В университете
Опять средь мая дождевую воду
у окон ректората сладко пьёт
из люка - рыжий, желтоглазый кот,
без всякого намёка на породу.
Остановлюсь и мирно пошучу:
"Не перепей, приятель полосатый!
Я сам с тобой гулял бы, братец мятый,
будь мне твоя свобода по плечу.
И я тебя, бродягу, возлюблю
куда верней, чем жулика из ЖЭКа,
в овчине волка, икса, имярека,
козла в капусте, зайца во хмелю"...
А мыслящий - да в храм наук спешит
и в стужу, и по оттепели тоже,
и в день, когда блеснёт, в свежайшей коже,
май-искуситель, искрою прошит!
В нём рыжий зверь, с глазищами в абсент,
вчерашний дождь из чугуна лакает,
и светотень по кампусу летает,
на сто пудов, на семь цветов - Винцент!
Из прошлого
Резвый котёнок хвостом материнским играет,
сфинксу подобная, мать восседает недвижно.
Май вызревает, каштаны соцветья вздымают,
тысячеруки, как Шива, воздушны, как Кришна.
Два котофея кайфуют на тёплом асфальте,
ближе к ступеням – дворняга сосцами лоснится.
Благость, умиротворённая нота Вивальди,
дядюшки Брэма, с цветною картинкой, страница.
Дышится. Схлынул народ на воскресные дачи.
Город пустынен: деревьев шатры да собаки,
бодрые галки седые – и вряд ли иначе
явят тебе небеса чадолюбия знаки.
Так и должно быть вслед зимней апатии долгой:
щедрая манна, настой тополиной теплыни.
Нимфа к сезону плечо освежила наколкой.
Нежится сфинкс у подъезда. Три дня благостыни.
И вновь ковчег мятётся, непричален...
* * *
От гризли до гюрзы - недалеко:
змеится ложь, и щерит пасть насилье.
Когда нас на руках отцы носили,
младенцами, дышалось им легко -
в предчувствии, что ждут их впереди
трудов аркады, грозы-грозди счастья...
Сбылись их ожиданья. Но - отчасти:
все пятна пятниц на земном пути
достались им, все нетели-недели.
Вот на погост отцу цветы несу,
вскипает май, но ныне - ни в глазу
каштаново-сиреневого хмеля...
Лишь стужа бесконечности дурной
теснит гортань мне над родной могилой.
Всё то, отец, что жизнь твою гнобило,
сгущается теперь и надо мной.
И, как ломал хребты рябой Хозяин,
так ныне петли вьёт бесцветный червь.
Разорвана связующая вервь,
и вновь ковчег мятётся, непричален.
От гризли до газели, парный зверь
тревожно корм жуёт в дрожащих трюмах.
Надежда умирает в трудных думах,
но ты, мой сын любимый, молча верь! -
Будь жив, хоть и довлеет над весной
итог, что лишь один спастись достоин,
что Бог опять - потопа грозный воин...
Не плачь, любовь, с тобой - и я, и Ной.
Мы идём по Уругваю...
* * *
«Мы идём по Уругваю - пели пионеры хором
в лагере завода «Поршень» - ночь, хоть выколи глаза!»
А в пропащем Парагвае - врали «Правда» со спецкорром -
злой диктатор, карлик Стресснер по ночам рубил леса,
ром лакал, гнобил народы, ел сограждан доброй воли,
день за днём все соки-воды лил на мельницы врагов...
«Мы идём по Уругваю!» - сладко пить текилу с солью,
в поезде ползя чумазом вдоль мазутных берегов.
Здесь, в краю, где сверхсекретный ядерный бомбардировщик,
прикрывая серп и молот, серый морок бороздит,
где наряды по рубль сорок пишет хмурый нормировщик,
и закат пунктиром режет огнедышащий болид,
здесь - вовек не мытый поезд и не будут мыть, похоже.
Но вдоль радуг Уругвая держит путь мой паровоз.
В нём плыву я вдоль по сельве, по отчизне краснокожей,
тот же прежний - отрок с песней, терминатор майских гроз...
Тетрадь апрельскую листая...
* * *
Среди омел – гнездо сорочье
на самой верхотуре клёна.
Холодный ветер режет очи,
но март теплеет потаённо.
В нём смесью зелени и сини
сорочьи отливают перья -
так на зеркальной гильотине
играют радужные звери.
И вместе с птицей я надеюсь
на послабленье энтропии.
Термодинамика – не ересь,
и тяжелеют веки Вия.
Но чувство есть, что будет длиться
метафор солнечная стая,
что грозоносные зарницы
ещё прочтут стихов страницы,
тетрадь апрельскую листая.
Синяя ваза
Снова май, переплеск светотени,
дрожь луча на овале стола,
снова влажные ветки сирени
над индиговой гранью стекла.
В старой вазе - прабабкины слёзы,
труд алтынный, фамильная честь...
Всех помянутых в майские грозы,
всех, окликнутых Пасхой, - не счесть.
Мокрый куст перед храмом клубится,
и качает сирень головой. -
Чьи ж витают над куполом лица,
в свежей сини с лиловой каймой?
Чью записку, в три строчки, читает
стародавней огранки кристалл?
И витает виденье, не тает.
И никто ещё не умирал...
* * *
Влажные майские переулки,
мальчик с собакою на прогулке.
Крашена солнцем песочная шавка,
школьник – без шапки
и город – без шапки.
Множатся стаи ребячьего писка,
женской ладони белеет записка…
Отрока дискант ломается альтом,
марево дышит над мокрым асфальтом.
Солнцем в авоське качается булка,
небо синеет глубинно и гулко.
Город – как вольная зона озонов.
Месяц сирени – до самых балконов.
Вымыты окна, распахнуты двери. –
С новым дыханьем,
с цветеньем доверья!
На лавочках всех набережных мира...
* * *
Дней жизни Адамовой
было девятьсот тридцать лет...
На лавочках всех набережных мира
мы пили тёмно-красное вино.
Я гнал, - через Чаир и до Каира,-
на синем арендованном "рено".
Искрила, - по цветам, по разнотравью, -
соблазна бирюзовая гюрза.
Сияли на айлавочке "ай лав ю"
её пелопоннесские глаза...
И снова майский дождь ласкает поросль
уже иных лилейно гибких дев.
Но ты, по слуху спевший жизни повесть,
и в девятьсот, ничуть не постарев,
ни сил души, ни любопытства ока
ни на один не растеряешь грамм.
Гремит гроза, и трубы водостока
поют, как долго жил отец Адам.
А ты, синдромом влюбчивости болен,
опять готов взлетать и наяву
чудить, смеяться с майских колоколен:
"О да, и до Адама доживу!"
Апостольское число
Апостольское число
«Дванадесять» - книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский. Стихи сорока шести поэтов из двенадцати славянских стран я переводил более года, обращаясь к этой работе едва ли не каждый Божий день и несомненно ощущая в себе при этом некую внутреннюю потребность уже постоянной, вдумчивой и истовой, беседы со своими собратьями-поэтами. Пусть даже, зачастую, эти беседы проходили, в силу реального положения вещей, на немалом временном и пространственном отдалении.
Современное сообщество славянских культур охватывает сегодня более трёхсот миллионов людей, наследников уже более чем тысячелетнего общеславянского духовного взаимодействия. Взаимодействуют и взаимообогащаются люди, идеи, языки, произведения литературы и культуры в целом. Об этом длящемся и имеющем глубинные корни человеческом и творческом взаимном притяжении мне хотелось напомнить ещё раз нынешней своей книгой переводов с символическим, на мой взгляд, названием «Дванадесять».
Пожалуй, сейчас, когда я пишу эту вводную статью к уже завершённой книге, у меня есть ощущение, что те двести с небольшим переводов из «Дванадесять», в которые я стремился вложить и свою душу, и свой более чем полувековой опыт писательства и стихотворчества, могут влиться теперь с неподдельным сыновним чувством, с чувством благодарного и благодатного притяжения, в значительную и дорогую для меня общность славянских культур. В нечто большое и значительное, что может быть названо духовным лоном. В нечто не только метафизическое, условное, историческое, но живое и плодоносное, дарящее дополнительные надежды.
В первом разделе «С печалью радость обнялась…» я поместил переводы из двадцати двух украинских поэтов двадцатого века. Некоторые из них продолжают свою поэтическую работу и сегодня, после смены столетия и миллениума. Но биографии большинства из выбранных мной для этой книги поэтов отражают драматическую, и часто полную жестокого трагизма, историю Украины минувшего века. Достаточно привести лишь нескольких цитат, не оставляющих места равнодушию:
Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём - без страха и стыда.
Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах… -
это строки из Олександра Олеся о Голодоморе 1932-1933-го годов на Украине.
А вот строчки из стихотворения Василя Симоненко о третьем по счёту украинском голоде проклятого минувшего века, о голоде 1947-го года (к слову, того самого года, в котором довелось появиться на свет и мне самому):
И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, «обеспечить план».
И плакали вдовицы, дети «хлеба!»
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотно, в небо
скелеты шли, герои трудодней…
Большая часть украинских поэтов начала ХХ века, наиболее талантливые представители плеяды «украинского возрождения» двадцатых годов, были уничтожены людоедским режимом большевиков в тридцатые годы. Так же, как были целенаправленно уничтожены и многие другие выдающиеся личности из круга национальной интеллигенции. Из представленных в этой книге украинских поэтов в долгий список имён «расстрелянного возрождения» вписаны зловещим безвременьем: Микола Зеров, Евген Плужник, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Михайль Семенко, Владимир Свидзинский. Вынуждены были долгие годы оставаться в эмиграции и окончить жизнь на чужбине Олександр Олесь и Евген Маланюк.
Прошли долгие испытания адом большевистских лагерей Василь Мысык и Василь Боровой. О своём аресте, ещё в юношеском возрасте, о смертном приговоре, заменённом рабством ледяной каторги, вспоминает живой, слава Богу, и ныне, сегодня почти уже 91-летний поэт-тираноборец Василь Боровой:
Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.
Но вот скрипит горбун: «За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь - московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом ».
Прочёл - и хищным высверкнул оскалом…
Но воистину «С печалью радость обнялась…» в менталитете украинских поэтов, в звучании их слова. И конечно, кроме протестной, правдоборческой линии украинской лирики, благодарно прослеженной мной в этой книге, я стремился всякий раз подчеркнуть и иное - жизнестойкость и жизнелюбие этой поэзии. Стремился передать и в выборе стихотворений, и в переводах, как выразительно звучит стихия гармоническая, шедро образная, живописная и музыкальная, иcконно свойственная самому украинскому народному характеру:
Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.
Страна души, весенних взгорий слово, -
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом! –
Так поёт о своих неповторимых карпатских краях молодой Богдан-Игорь Антоныч, словно переполненный драгоценными полнозвучьями песен от самого своего рождения, поёт молодой и ушедший из жизни непростительно молодым, двадцатидевятилетним.
И переводя с украинского, родного мне языка, на котором у меня выходили и публикации, и книги стихов, я словно делюсь здесь с более широким кругом читателей талантом «своих» поэтов, кровно мне близких и понятных - до каждого отдельного звука, до каждого ритмического поворота. И с гордостью осознаю при этом, что есть, чем поделиться. Изысканно тонкий лиризм Владимира Свидзинского и юный, полный влюблённости в мир, романтизм Михайля Семенко – певца тихоокеанской Горы Жёлтых лилий и далёкой антиподной Патагонии.
Классически ясное, полное эллинистических аллюзий слово Миколы Зерова и невероятная творческая энергетика, пульсирующая едва ли не в каждой строке харизматичность Евгена Маланюка. Чарующая напевность лирики Богдана-Игоря Антоныча, воистину соловьиная песня, оборванная смертью так рано. Неутомимые поиски новых форм и глубин стиха в верлибрах Владимира Затулывитера, с которым, как и ещё с целым рядом авторов этой книги, мне приходилось общаться, начиная с восьмидесятых годов минувшего века.
Нет уже, - и нет, увы, целых четверть века, - моего доброго друга и сверстника, степняка, а затем киевлянина, Василя Моруги, нет и моих киевских собеседников Игоря Рымарука и Владимира Затулывитера. Реальный ход событий никогда не выстраивал режима благоприятствования для личностей творческих, открытых, неординарных, выбивающихся из всеобщего ряда. Обстоятельства ухода из жизни каждого из этих трёх поэтов, наших современников, были драматичными. Но голос их поэзии жив, ярок и выразителен. И я воистину благодарен небу и земному стечению обстоятельств, которые позволили мне сегодня снова напомнить о продолжении их творческого присутствия в нашей жизни.
Второй раздел книги «Дванадесять» включает переводы с белорусского, болгарского, боснийского, македонского, польского, сербского, словацкого, словенского, хорватского, черногорского, чешского языков. И назван этот раздел стихотворной строкой сербского поэта Владимира Ягличича: «И Бог сказал: «Живи, если жив...»
Думаю, что в этих словах звучит важное напоминание о том, что вся литература, все книги и стихи возникают преимущественно как ещё одна возможность для нас - вернуться, и в творчестве написания, и в творчестве прочтения, к самой жизни, к её неповторимым ощущениям и переживаниям. Да, «в начале было Слово», но именно человеческая жизнь, постигаемая нами, - всеми рецепторами, всеми клетками нашего естества, - жизнь бесконечно красноречивая уже в самом своём пред-молчании, порождает мысли и слова на всех языках. Именно она, принимая в сердце дар Божьей искры, рождает искусство и литературу во все времена, закольцовывая, но не замыкая, а ведя всё дальше и дальше витки бытийной спирали.
Творчество славянских поэтов этого второго раздела книги также, как и первого, представляет только что миновавший, но никак не оставляющий нас во множестве аспектов, двадцатый век. Год рождения самого старшего из представленных здесь поэтов, польского лирика Адама Асныка, 1838-ой, отделяет от даты рождения самой молодой в этой книге, болгарской поэтессы Лоры Динковой, ровно полтора столетия. Лора Динкова, кстати, стала одним из лауреатов впервые проведенного в 2013 году творческого конкурса для молодых поэтов разных стран «Международная Славянская Поэтическая премия».
А диапазон сущностный, открываемый творчеством этих поэтов, - и очерченный в этой книге, в переводах, в силу многих ограничений, конечно, лишь пунктирно и точечно, - представляется мне существенно большим, чем названный временной диапазон полутора веков.
В этих стихах оживают не только столетия истории родного, в каждом случае неповторимого, славянского края, но и тысячелетия всеобщего духовного и культурного контекста, всечеловеческого мироощущения и миропонимания. Об этом же, о всеобщем и по сути безграничном, контексте творчества, о природе и истоках поэзии, вдохновенно пишет, Владимир Ягличич:
Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом - и смертною мукой, и счастья истомой,
разом - и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,
словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.
Из жития возникают, из охры пещеры, -
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи,-
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.
Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.
Ни один из двух дюжин поэтов второго, интернационального, раздела этой книги не появился в перечне перевёденных случайно. Для каждого отдельного выбора у меня были свои резоны и основания. И не останавливаясь в деталях на других предысториях, должен сказать здесь непременно более подробно об авторе процитированных выше стихов, известном сербском поэте, прозаике и переводчике Владимире Ягличиче, который успел выпустить в свет уже не один десяток книг поэзии и прозы.
Поэт Бахыт Кенжеев, публикуя свои переводы стихотворений Владимира в журнале «Иностранная литература» в 2013-ом году, писал о нём коротко, но ёмко: «Я слышал о Владимире Ягличиче как об известном переводчике русской литературы. Познакомившись с его собственным творчеством, был поражен глубинною мощью этих стихов, их бескорыстием и самоотверженностью».
Именно неутомимость Владимира в его трудах переводчика поэзии и духовного спонсора культурных обменов несомненно дала исходный толчок моей работе над нынешней книгой переводов «Дванадесять». Дело в том, что в минувшем 2013-ом году Владимир Ягличич перевёл на сербский язык более полусотни моих стихотворений, которые и вышли в том же году отдельной книгой «Днесь»-«Данас» параллельно по-русски и по-сербски.
Вслед за этим появились и переводы двадцати пяти стихотворений Владимира, сделанные мною. И, безусловно, эта ответная работа была не только выражением признательности и благодарности Владимиру, но и выражением моего неподдельного интереса к его действительно высотному и размашистому поэтическому миропостижению.
Эти двадцать пять переводов с сербского, помещённые здесь, и несколько моих давних переводов с украинского, опубликованные мной ещё в восьмидесятых годах, и послужили начальным капиталом в трудах над нынешней книгой. Ещё раз хочу произнести здесь слова признательности сербскому поэту за его энергетическое и творческое спонсорство – именно его «ау» в тот момент, когда мы ещё и не были вовсе знакомы, именно его письмо-сюрприз в новогоднюю ночь 2013-го с первыми переводами - подтолкнули меня к интересной, и ставшей для меня очень важной, работе над нынешней книгой.
Радостно было узнавать в этих ежедневных и желанных трудах новые имена, новые поэтические голоса. Отрадно было ощущать звучание иных славянских языков как нечто очень знакомое и родное, угадывать в лексических вариациях те или иные повороты прапамяти и праистории. Лексический, образный, смысловой, человеческий космосы изо дня в день расширялись и просвечивали, один сквозь другой, словно пульсирующие анаксимандровы сферы.
Снова и снова приходило ощущение того, что световое и силовое поле мировой культуры, по большому счёту, едино. Да и частные импульсы узнавания и угадывания своего родного в соседских языках не уставали радовать слух и глаз. То сербские «сунцокрети», то бишь наши соняшники-подсолнухи, явственно аукались кряжистостью, крепостью и даже креативом могучего солнцелюбивого цветка. То вдруг звучало давно забытое тобой, но живущее своей глубинной правотой, уже целое тысячелетие, единение болгарского «хора» с русским «людом, людьми».
Или вот ещё радость узнавания – когда в миниатюре «О гречкосее» Десанки Максимович снова оживает пушкинская интонация, пришедшая из самой сердцевины народной мудрости, оживает речение «Сказки о попе и его работнике Балде»:
Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю –
день косит с рассвета рано.
второй – пускай за лозой следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день – ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,
ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.
И строки славянских поэтов, и самые их имена, - Каштелан и Костич, Незвал и Горов, Сейферт и Стафф, - не могли, конечно, не оживлять в моей памяти тех прежних живых встреч с их землями и городами, которые и сегодня стоят перед моими глазами – встреч c Чехией и Словакией, с Польшей и Белоруссией, со Словенией, Черногорией и Хорватией. Всё так же волнует воображение заново и неповторимая Прага, и дикие ущелья Монтенегро, всё так же зовёт к себе неодолимо солнечная, виноцветная Адриатика хорватов.
А вот и ещё нечто совершенно незабываемое – глубочайшая на всей Адриатике бухта черногорского Котора, изумрудное лезвие бездонного тектонического разлома:
Южная кромка славянства – за Ульцинем склоны.
Смыслы сгущаются, и откликается колер
то узнаваемо-памятно, то потаённо –
белая Будва, клинково-смарагдовый Котор...
И так хочется сегодня надеяться, что и Сербия с Болгарией, и Македония с Боснией-Герцоговиной ещё дождутся меня в гости! Даст Бог, дождутся и в этом непредсказуемом году. Если, конечно, не пойдут вразнос кромешные демоны войны. Войны, которая, по сути говоря, уже два месяца стоит у порога каждого дома здесь, на Украине, где перевожу я стихи с апостольской дюжины славянских языков на русский, где пишу по-русски и эти строки в конце далеко не мирного апреля.
Сказать ещё прямее, война эта уже два месяца, с начала аннексии Крыма, идёт – необъявленная, предательская, гибридная, ползучая, диверсионная. Но война вполне беспощадная. Продолжается нападение закусившей удила разъярённой империи на Украину, посмевшую наконец открыто заявить: «Свобода или смерть!», отдавшую в жертву более сотни молодых жизней своих сыновей – ради лучшего будущего многострадального народа. Продолжается война Каина против Авеля. «Каин, Каин, где брат твой, Авель?»
Авель, говорящий сегодня в Украине-Перворуси и по-русски, и по-украински, и в равной мере, независимо от своего языкового предпочтения, любящий свою родную землю, так и останется при любом повороте событий на своей земле, со своей извечной работящестью и певучестью, среди своего золота и лазури. А скоро ли будет он здесь счастлив, будет ли счастлив вообще?.. Промолчу сейчас – останусь с этим безответным вопросом, ставшим сегодня комком в горле не только у меня.
И ещё несколько завершающих слов об Апостольском числе, о «дванадесять», о дюжине. Двенадцать учеников было у Иисуса Христа. Ушёл из их числа Иуда, и место его было занято впоследствии Матфеем. Так что не всё сразу устоялось и в Апостольской дюжине. По-украински «выздороветь» звучит как «одужать». Всем сердцем желаю сегодня своей Родине полного выздоровления - вослед жестоким и жертвенным дням. Очень надеюсь, что и славянская дюжина языков, стран и народов, к которой я здесь, с благодарностью и братским чувством, попытался, хотя бы символически, прикоснуться, сможет выдюжить, одолеть в ближайшем будущем все вызовы исторических сломов и человеческих несовершенств.
Одужаем, выдюжим. Сохраним и Христа, и Апостольскую дюжину - в душе, в помыслах и поступках.
2014
Пусть уж работает на себя самого...
Десанка Максимович
(1898 - 1993)
О гречкосее
Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю –
день косит с рассвета рано.
второй – пускай за лозой следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день – ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,
ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.
Владимир Ягличич
(1961)
Cтихи
Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом - и смертною мукой, и счастья истомой,
разом - и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,
словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.
Из жития возникают, из охры пещеры, -
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи,-
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.
Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.
Перевёл с сербского
Сергей Шелковый
Не успеешь оглянуться, братец...
В апреле
По апрельской Пушкинской мальчишка
носится на роликах в угаре.
Ножку одуванчика мартышке
в лапу дам - пронырливой Варваре.
Пальцами-младенцами бандитка
схватит жадно - так по-человечьи! -
млечный цветик, зад почешет прытко
и скакнёт к хозяину на плечи.
Уличный фотограф, друг-знакомый,
помнишь, той весною, с игуаной
на плече, сновал ты? Здравствуй, гомо
сапиенс, гомункул неустанный!
За год сдохла игуана Инна,
с ходу укатал её бардак наш.
Вроде, и живучая скотина,
а не одолела здешний шабаш.
Пропадают здесь экзоты-звери,
мы же, по привычке, выживая,
вдоль завалов мусорных мистерий
добредём, мой зверолюб, до мая.
Не успеешь оглянуться, братец, -
вспыхнет май сиренью нежно-горькой!
Что там, ухватив тебя за палец,
Варя тарахтит скороговоркой?
Молодильною догмой любви...
Мост Риальто
Чую след Тициана с Джорджоне,
но Венеции норов люблю
и за то, что её миллионы
моему подпевают рублю.
И за то, что узорам палаццо,
преломлённым в вечерней воде,
мне нисколько не стыдно признаться
в нашей общей сквозной правоте.
В двуединстве певучей повадки,
в перламутровом сбое волны...
Благо, грифельной птицей в тетрадке
мы, сестрица, разниться вольны!
Не белю кобеля Казанову
и не праздную кроличий лик,
но к игре маскарадного слова
я изломом Риальто приник.
Ибо ибисы, цапли, удоды,
изогнувшие клювов обвод;
перьев радуги, крыльев разводы,
чёрных бархатов алый испод,
блеск зениц через прорези масок,
серебра и предательства ток,
сцепки пряжек, объёмов и красок,
судей, ведьм, арлекинов садок...
Бьющий в миндалевидные щели,
вдоль личины, соблазна флюид,
догарессы, шуты, менестрели,
искры брошей и бледность ланит...
Это всё осветило мне разом,
догорая над чёрной водой
золотым и сиреневым газом,
дряхлый город и мост молодой. –
Альт Риальто, сей мраморный выгиб,
альбинос, напружиненный кот
все червонцы из прошлого выгреб
и в ларец прорицанья кладёт...
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я –
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся статысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, – волею высшею, –
что ни март – колокольни стройней!
Там мысль летит вдогонку за стихами...
Десанка Максимович
(1898 – 1993)
Бранковина
Словно в небо погляжу из-под руки
на село своё в свечение рассвета –
вижу миску расписную в мальвах лета,
вижу пашни - хлеба пышного куски.
И узрю ещё, как в миске той, на дне,
вишни ранние алеют соком солнца,
то румянец кровель в зелени смеётся;
а с холма, а от могилок грусть прольётся,
словно пара голубков порхнёт ко мне.
А в глубинах, распростёртых предо мною,
что-то издали мне искрою блеснёт,
словно свадебный дукат в июльском зное, -
не церковки ли навершье золотое?
И поля пшеницы, спелых нив приплод….
Голоса ночи
В ночном лесу витают звуки зла,
как будто стоны старцев гибель кличут,
как будто филин ухает и кычет
из логова ведьмацкого дупла.
Ломает ветер гниль, крушит сушняк.
А ключ бурливый из-под мшистой ветки
на волю рвётся, словно зверь из клетки,
грызя скалы шершавый известняк.
Нигде не видно даже искры малой.
Над буреломом – чёрных туч угар;
в расщелинах томятся тьмы завалы,
Лишь в сердце пня мертвеет вязкий жар;
и глохнут звуки возгласов молящих
в безжалостных непроходимых чащах.
Перевёл с сербского
Сергей Шелковый
Владимир Ягличич
(1961)
Разговор
Николе Живковичу
Дух германский взявший за основу,
славянин по сердцу и уму,
издали пришёл ты, чтобы снова
возвратиться к долгу своему.
Ты принёс рассказ о мощном звуке
Вагнера, где смерть любви равна,
и о Ницше, что верней науки
ведал змей и грифов имена.
Говорили мы весь день с тобою
о путях Европы и о том,
кто какого миру дал героя,
взмывшего над временем мостом?
Вслушивались в собственное сердце -
где мы ныне? И коль Дух един,
как сравнить железный гений немца
с нежной силой музы Апеннин?
Где теперь в духовном изобилье
мира наше место, где наш след?
Всё ль идти нам к сумрачной могиле
по распутью иль забрезжит свет?
Нам и дня с тобою не хватило,
вслед и ночь, грустя, к исходу шла.
Было жаль родной земли, что силы
собственной ещё не поняла.
Потому что сын забыл об отчей
вере, колыбель забыл мертвец.
Или нам судьба - слепые очи
пагубных вождей, глухих сердец?
Могила Волошина
Там мысль летит вдогонку за стихами.
Там, в Киммерии, нужно жизнь прожить,
пройдя пешком холмами и горами,
и притяженье почвы полюбить.
И там, когда в одно большое время
сольются все пунктиры зим и лет,
ты в чуде смерти, в каменном Эдеме
поймёшь - лишь имя есть, а плоти нет.
Иди же ввысь, пока земною осью
поблескивает посох твой в пути,
И холм могильный Макса встретит гостя
уже небесным воздухом в груди.
И силу даст, от почвенных щедрот,
чтоб продолжать и снов, и яви ход.
Перевёл с сербского
Сергей Шелковый
В здешнем узоре Господней тоски...
Альгамбра
О Гранаде, печалясь и радуясь, выдохни слово
там, где смешан влюблённости день с вековечной тоской,
где восходят к дворцу с Торровьехой вдвоём Терранова,
и на холм с Калатравой весь род поспешает людской.
О Гранаде, в лиловых и розовых ветках цветенья,
там, где солнце - в соитье с дождём по-над майским холмом,
где под шлемом седин моложавого чувства смятенье,
паче чаянья, сходится ныне с прицельным умом.
О Гранаде - без скорби! Ведь нежная птица Альгамбры
плещет в небе крылом кружевным и узорным пером.
Носят пчёлы с багрянца Иудина дерева амбру,
белый "Боинг" счастливо садится на аэродром.
И из мраморной чаши фонтана с проточной водою
чёрный дрозд жёлтым клювом аллюзии вечности пьёт.
О Гранаде - всем голосом, всею душой молодою,
мавританский целуя, пропитанный магией рот.
Все потоки пороков и жертв, реки все Реконкисты
остаются за кадром. Журчит в арабесках ручей,
так напевно-молитвенно, так целомудренно-чисто,
что любовь - есть воистину Бог по-над тьмою ничьей.
Белый лайнер "Иберии" мчится по ленте бетонной,
снежной стражей очерчены Сьерры-Невады клыки.
Но смиренно-мудры Халифата почившего склоны.
Об Альгамбре от счастья заплачь. Ибо путь твой исконный,
человеческий - в здешнем узоре Господней тоски.
Plaza de Toros
Гумилёв конквистАдором конкистадора нарёк -
не для жеста, пожалуй, для вольнолюбивого спора.
Так и ты бы - в крещендо быков андалузских облёк:
не в грамматику - "торо", а в полногремучее "торро"!
Вот он, бык смоляной, вылетает из красных ворот,
словно чёрт из коробки с пружиною, Зорро-задира,
и ноздрями раздутыми воздух предгибельный пьёт -
майский воздух Севильи, любовницы Гвадалквивира.
Вот он роет копытом песок, чёрный Авель, литой
из бойцовой, не помнящей братова имени, плоти...
Верхний ярус арены чадит ядовитой махрой,
и оркестр многотрубный в бравурной сливается ноте
чуть правее тебя, но всё в том же, доступном, ряду,
где курцы табака апплодируют бурно мулете,
в 3-ем тысячелетье, в 12-ом кряду году, -
реконкисты и Каина жертволюбивые дети.
И закланье - изысканно, и позумент золотой
облегает в обтяжку плечо и бедро матадора.
Между алой мулетой и мутно-зелёной водой
к небесам отлетает душа терминатора-торо.
И в бодрящем и праздничном рвенье квадрига коней -
благородные головы в бело-багряных султанах -
мигом тушу увозит... И трубы поют всё пьяней
над весенней Севильей. И полнится летопись дней
Андалузии - в кодах-загадках, желанно и странно...
Лишь гребцу - пару медных монет...
Красимир Георгиев
(1948)
По ту сторону реки
Приготовься к короткому плаванью
в безмятежность, в забвения край.
На челне над космической гаванью
понесётся душа твоя в рай.
Спор со смертью - занятье пустое,
да, похоже, и времени нет.
Ни забот, ни кредитки с собою
не бери в измеренье иное,
лишь гребцу - пару медных монет.
Из поэмы "Последний болгарин"
О, Болгария - горы в лесах, кипень рек, белых хаток соцветия.
Прах руин над добром и над злом. В язвах - Книга спасения.
Рвусь всей жизнью к тебе, но дороги - длинней, чем столетия.
Половина души нашей - свет, а вторая - и грех, и смятение.
Вот мы, дети заветной земли, а над нами - мутанты-правители,
груз стервятников в жажде пожив. И всё щерятся
бесы прошлого в очи грядущему. Лику Спасителя
об Отчизне молюсь. И по вере, по вере - отмерится...
Елка Няголова
(1952)
Подсолнух
Я ныне - словно сентябрьский подсолнух.
на плечи склонила отяжелевшую голову,
и сыплются мысли -
семенами наверняка уже зрелыми...
А что ни ночь снится мне снова
зелёное платье на стройном стебле
и золото минувших дней - уходящее...
Птица по капле выклёвывает слова,
повторяет их потом по слогам -
сбиваясь, пересказывает солнцу вести
из чужой жизни -
почти уже безразлично...
Первый снег над Варной
...А случилось это так:
Божья матерь в небесах
крошила наибелейший хлеб,
чтобы приготовить Господу пудинг.
И посыпался вниз первый снег -
укрывая
и берег, и мосты, и море,
и моряков, что, отплыв вдаль,
уже едва
могли видеть
свою Итаку...
Перевёл
с болгарского С. Шелковый
Рыгор Бородулин
(1935 - 2014)
* * *
Больше мыслей - тревожнее сутки.
Зреет мудрость и множит печаль.
Крутит время туман-самокрутку,
лиловеет лугов пастораль.
Луч познанья и зорко, и зримо
в разнотравье дробится, цветёт,
в мотыльке, пролетающем мимо,
ловит смысл и душе отдаёт.
Но почувствуй, горчащей приправой,
привкус лета, уплывшего вдаль.
Над покосом, над лугом - отавой
всходит поздняя мудрость-печаль.
* * *
Идущие на смерть - да будут жить!
Они приходят, чтобы тьма исчезла
и чтоб клыки ощеренного беса
отвагою возмездья сокрушить.
Дай, Боже, воли воинам добра.
Бесстрашные не могут быть рабами.
Пусть челядь в ноги бухается лбами
тирану - безнадёжна их игра.
Да не померкнет праведников свет,
их кровь в веках продлится без забвенья.
Униженной Отчизны возрожденье -
её сынов и клятва, и завет.
2011
Перевёл
с белоруccкого С. Шелковый
И все, кто выжил, живы...
* * *
Заросший пруд и селезень зелёный,
разбрызгавший по крыльям изумруд.
Над тихой ряской, над водою сонной
утиные супружества снуют.
То – снова тягой продолженья рода
охвачена пернатая весна.
И перезимовавшая природа
легко пьяна и благостно ясна.
Апрель, тепло.
И все, кто выжил, живы.
Скворец, взлетая, чуть качнул ольху.
И светятся две вековые ивы
в нежно-зелёном солнечном пуху.
Вдова
Взглянув в глаза вдове солдатской,
апрель могилы отогрел.
И снова стало ей казаться,
что мир немного подобрел.
Что там, в сорок шестом, в апреле,
она, как прежде, - рядом с ним,
ушедшим на Страстной неделе
несдавшимся и молодым,
успевшим в муке госпитальной
вдохнуть ещё глоток весны
из глаз мальчишки, из печальной
улыбки на губах жены...
И снова солнце подсушило
бугры промокшие могил,
коснувшись вешней вещей силой
живых и тех, кто не дожил.
И над кладбищенским пригорком
лепечет первая трава.
И, наклонясь над камнем горьким,
метёт надгробие вдова...
И девушка прячет лицо на плече у героя...
Ярослав Сейферт
(1901 - 1986)
Май
Дозорная башня без устали дарит кому-то
белейшее облако и ясно-синий Синай.
И всё, как обычно, - воздушен, и нетто, и брутто,
поэт осеняет стихами свой месяц, свой май.
И он же вздымается в бронзе над Площадью Рынка,
и пара влюблённых глядит, с любопытством в глазах,
как в бронзовый лист он врезает пером, словно финкой,
надзвёздные притчи и сведенья о чудесах,
стихи гравирует о доле людской и печали,
о том, что минуют напраслины всех перемен.
А может, о лучшем - о женственном грезит начале,
о благоухании роз, преклоненье колен.
То Дворжак вструбит, то охотничий рог над горою,
жар-цвет одуванчиков в Пражский вливается Град.
И девушка прячет лицо на плече у героя,
где верность упора знавал и ружейный приклад.
И вправду, Маэстро, призыв Ваш - прекрасен и вечен.
Воскликнете "Май!" - и пронзает до дрожи приказ.
Вот время любви наступает, магический вечер,
и нежной команде никто не изменит из нас!
Лампочка
Вокруг застеклённого огня
клубится
рой мерцающих крылышек.
И Томас Алва Эдисон,
отрывая взгляд от книги,
молча усмехается.
Боже!
Мистер Эдисон -
Вы спаситель мотыльков!
Перевёл с чешского
Сергей Шелковый
С душою, полной странствий и созвездий...
Душан Костич
(1917)
Заветная книга
С душою, полной странствий и созвездий,
уйду я - всё равно, куда, когда.
Жизнь - это книга славы и бесчестий,
надежд, преодоленья и труда.
Её читаю редко, лишь в минуту,
когда нисходит полночь с Чёрных гор,
когда, одолевая в сердце смуту,
вступаю сам с собою в разговор.
А над золою будущее зреет,
и в нём, с всей своей мечтою, я.
И вижу - даль озёрная синеет,
и пью из драгоценного ручья.
Пусть звонницы, работницы столетий,
осели и лишайником взялись.
Но поезда восторженно, как дети,
кричат из дальней дали: "Здравствуй, жизнь!"
И книгу я ношу в себе живую,
заветную - о том, что не уйду,
останусь в чувстве, в слове, в поцелуе,
останусь здесь, где жил и знал не всуе -
отчизны, скал и неба высоту.
Перевёл с черногорского
Сергей Шелковый
----------------
Вислава Шимборская
(1923 - 2012)
В аэропорту
Бегут друг к другу с раскрытыми объятьями
и кричат смеясь:"Наконец! Наконец!"
Оба в тяжёлой зимней одежде,
в грубых шапках,
шарфах,
в рукавицах,
сапогах,
но только для нас.
Ибо друг для друга - обнажены.
Ладонь
Двадцать семь костей,
тридцать пять мышц,
около двух тысяч нервных клеток
в каждой мочке наших пяти пальцев.
Этого вполне достаточно,
чтобы написать "Майн Кампф"
или "Приключения Винни Пуха".
К собственному стихотворению
В наилучшем случае будешь,
моё стихотворение, внимательно прочитано,
комментировано и выучено наизусть.
В худшем случае -
только прочтено.
Третья возможность -
сначала написано,
но через минуту выброшено в корзину.
А есть у тебя ещё и четвёртый вариант -
ненаписанное, ты исчезаешь,
довольно мурлыча что-то себе под нос.
Принуждение
Съедаем чужую жизнь, чтобы жить.
Свиной труп с покойницей капустой.
Меню - это некролог.
Даже самые лучшие люди
должны что-то убитое грызть и переваривать,
чтобы их деликатные сердца
не перестали биться.
Мне не легко совместить это с добрыми богами,
разве что легковерные,
разве что наивные,
всю власть над миром они отдали природе.
Она же, безумная, ловит нас на голоде,
а там, где голод,
там невинности конец.
К голоду сразу подключаются чувства:
вкус, обоняние, осязание, зрение,
ибо нам не всё равно, что за блюда мы едим,
и на каких тарелках.
И даже слух задействован
в том, что происходит,
поскольку нередко трапезы
сопровождаются весёлою беседой.
Перевёл с польского
Сергей Шелковый
Вижу Вильяма Блейка...
Адам Загаевский
(1945)
Блейк
Вижу Вильяма Блейка,
встречающего что ни день
ангелов в кронах деревьев,
Бога-Отца на ступенях скромного дома
и замечающего свет в грязном закоулке,
Блейка, умирающего
с радостной песней,
в многолюдном Лондоне,
городе шлюх, адмиралов и чудес,
Вильяма Блейка, труженика-гравёра,
живущего в бедности, но не в унынье,
принимающего пламенистые знаки
от океана и звёздного неба
и не теряющего надежды, ибо надежда
всегда рождается заново, словно дыхание:
вижу тех, кто подобно ему,
идёт всё более сумеречными улицами
к розовой орхидее рассвета.
Эмигранты
В чужих городах появляемся на свет,
называем их родными и недолго
восхищаемся их стенами и башнями.
Едем с востока на запад, а перед нами
катится огромный обруч пылающего солнца,
сквозь который легко, словно в цирке,
прыгает дрессированный лев. В чужих городах
вглядываемся в творения давних мастеров
и без всякого удивления узнаём свои лица
на старых полотнах. Мы уже приходили
в этот мир и даже знали в нём страдания,
нам только не хватало тогда слов.
В православном храме в Париже последние белые,
седые русские молятся Богу, ставшему моложе их
на целые столетия и такому же беспомощному,
как они сами. В чужих городах мы и останемся,
словно деревья, словно камни.
Философы
Хватит обманывать нас господа философы
труд не радость и человек не высшая цель
труд это смертельный пот
Боже когда возвращаюсь домой хочется спать
но сон лишь трансмиссионный пас
отдающий меня следующему дню
а солнце подобно фальшивой монете
поутру оно раздирает мои веки
слепленные как перед рождением
мои руки это пара гастарбайтеров
и даже мои слёзы мне не принадлежат
принимая участие в общественной жизни
в качестве ораторов с обветренными губами
и сердцем сросшимся с мозгом
Труд это не радость а неизлечимая мука
как болезнь чистой совести или новые селения
по которым в высоких кожаных сапогах
проходит местный ветер
Перевёл с польского
Сергей Шелковый
О, мёртвая ласточка, алый обломок коралла...
Юре Каштелан
(1919 - 1990)
Уснувшая гитара
Пусть ветер коснётся тебя невесомой ладонью,
разбудит, певунья-гитара, рассветной порою.
Пусть ветер, напившийся хмелем маслины спросонья,
разбудит тебя - серебристой, зелёной игрою,
гитара, уснувшая в чёрных слезах Леопарди.
О, мёртвая ласточка, алый обломок коралла!
У самого моря, в пустой далматинской мансарде,
ты - гроздь винограда, ты - ветка шипов астрагала.
О, песня, невеста-гитара, средь пены и гула,
как точно ты целишься в львиное сердце поэта!
За что, моя музыка, с кем ты меня обманула?
О, белого ветра ладони в прохладе рассвета!
Кровь и буря
Я вены вскрыл себе, и к вящей славе
небесный гул по жилам полетел.
На море, на Балканах и на Саве
нажрался ворон мяса мёртвых тел.
И смутный страх удушливой петлёю
больней верёвки сжал гортань мою.
И кровь моя дымилась над землёю
Хорватии - в возлюбленном краю.
Я вены вскрыл в воинствующем слове
и семенем взметнулся через край.
Взвывай же, буря, над разгулом крови,
над пеной Адриатики рыдай!
Перевёл с хорватского
Сергей Шелковый
Вскочу на скакуна из бешеного мяса...
Мак Диздар
(1917 - 1971)
* * *
Сожму узду коня - под самою улыбкой.
На солнечном лугу зеленогривый конь
касается небес летучей рысью зыбкой
и сыплет из ноздрей желания огонь.
Вскочу на скакуна из бешеного мяса,
из лёгких облаков просторного чела.
За девушкой-судьбой, с кобыльей негой глаза,
несётся чур-ручей из золота и зла.
Настигну я её, красавицу. А птицу
на волю отпущу. Я в воду и в огонь
с годами всё верней готовлюсь превратиться.
Гашу ресницы звёзд. Смотрю в родные лица:
ручей, ночной костёр, чабрец и брат мой, конь.
Гармонь
По улице Сараева - слепой
брёл с пыльною изношенной гармонью.
И нотных кнопок скрип и разнобой
рождал почти что плач в надрывном тоне.
А уличный бродячий мальчуган,
смеясь, под эту музыку печали,
плясать пустился, счастьем обуян,
в своём, ему лишь ведомом, астрале.
И он плясал, как будто пел: "Живу!",
под жалобу слепой гармони зыбкой,
пока, уже без сил, не лёг в траву
и не уснул с блаженною улыбкой.
Перевёл с боснийского
Сергей Шелковый
Будет то, что напролёт всю зиму снится...
* * *
Перламутровая табакерка,
Воронцова исламский дворец,
сарацина скрипучая дверка
в зазеркалье, в изнанку колец.
Мёртвый граф с подбородком холёным
с потемневшего смотрит холста,
а над морем, прозрачно-зелёным,
твердь клыка - ледовито-чиста.
Грань лилового, в дымке, алмаза,
светопад поднебесной горы
не спасли побережье от сглаза,
от разбойничьей в кости игры.
Бесноватая мутная сила
пронеслась и по здешним горам
и Архангела свет-Михаила
на лету обезглавила храм...
Но остался жемчужного цвета
мавританский поддельный дворец
и на страже вельможного лета
шесть натруженных львиных сердец.
Здесь под вечер дикарка-голубка
в арабеске стенает резной,
и по-тюркски селенье Алупка
окликает лазурь белизной...
Александру Грину
Ветер занавеси клетчатые треплет
за распахнутою дверью у крыльца.
Трепет утра, молодого солнца лепет
у ключиц, у полусонного лица.
Ветер стенами дощатыми играет –
и, качнувшись корабельной плотью, дом
в полудрёме угловато уплывает
за магнитный каменистый Меганом.
Киммерия, я плыву, твой гость нечастый,
я не плачу об утерянном ключе!
Злюка-ястреб, желтоглазый, голенастый,
точит клюв на капитановом плече.
Киммерия, из лилово-дымной сини
веет свежестью имбирною зюйд-вест…
Итальянские глаза Карассарини,
чёрно-мраморный феодосийский крест…
Хороши арбузы в Кафе на базаре,
но недолго кофе пакостный хлебать –
вислоусый обоюдоострый парий
цепью якорною звякает опять.
Он забросит оспой меченную птицу
на костлявое и твёрдое плечо…
Будет то, что напролёт всю зиму снится,
то, что промыслу Господню пригодится. –
Полдень! – Ветрено, лазурно, горячо!
* * *
Инжир, виноград и гранаты
над крышами сизых лачуг,
воздушные крылья пассата
и яркой воды полукруг.
И ты, и Гурзуф мой – со мною!
Сентябрьские смоквы желты.
В смешенье прохлады и зноя –
искренье запретной черты.
Как солнечна дрожь пограничья
осенних и летних времён,
как солон Гурзуфа обычай –
крутой к синеводью уклон!
Как пенны цветные повадки –
трущобных проулков спираль!
Гаремные ягоды сладки,
и забран решёткой сераль.
И хан, красношёрстою хною
украсивший жирную грудь,
пленён моей юной женою
и слюни не в силах сглотнуть.
Не выдам красы супостату! -
Напрасны все звоны кольчуг,
и зря, словно пурпур граната,
пылает на солнце бунчук!
Берут на прицел - и тебя, и меня...
Лайзе Кракар
(1926–1994)
Украденное сердце
В полночь весь город - созвездий обитель.
Стража на башнях боролась со сном.
Шёл я по зябким камням, похититель,
пьяный волшебным любовным вином.
Вдоль переулков, под звёздною притчей,
шёл я, разбойной окутанный тьмой,
тать, осчастливленный редкой добычей, -
сердце твоё уносящий с собой.
Злодей на пенсии
Преступник седой благоденствует. Рентой
доволен в добротном костюме старик.
Покой. Мемуары. Из банка проценты.
И школит он внуков, и холит цветник.
Убитые им, из астрала иного,
с печалью глядят на беспамятство дня.
...А внуки злодея, без лишнего слова,
берут на прицел - и тебя, и меня.
Перевёл со словенского
Сергей Шелковый
И каждый смертник - брату брат...
Андрей Плавка
(1907 - 1982)
Слышанье
Дома мне говорили:
Андрейка, погаси лампу, -
ночь уже,
и все приличные люди спят.
Вот так я стал неприличным
на долгие годы,
до самой старости.
Теперь никто мне не скажет:
Андрейка, погаси лампу.
Все приличные уже поумирали.
Но - светает!
И жив ещё поэт.
Отлёт ласточек
Ещё один хор,
ещё один последний напев,
пока горизонт
не сложит крылья в печаль.
Моё гнездо,
слепленное из грязи
под крышею небес,
уже начинает чувствовать
тёплую страну.
За селом
копают мне "швабочку",
над ботвой уже поднимается дым.
За щебетом, за красотой
всегда приходит прощание.
А что там дальше, у осокоря?
Кротость моя непокорённая.
Павол Горов (Горовчак)
(1914 - 1975)
Взгляд с высоты
Альп осенних утренние гряды. -
Скальные стоглавые химеры
облачились в снеговые латы.
Щерит ящер клык. И блик баллады
брезжит на челе Аполлинера.
Словно лбы мыслителей, вершины
держат высь космического плана.
Радуга стиха - не хвост павлина.
А поэт - гранит и млечность глины,
и снега целебные на рану.
Осень в городе
Помеченные кровью рты -
багряной осени потери.
Темны бульвары и пусты,
но я в огни восстанья верю.
Вот грозным рокотом рабов
тревожно полнятся предместья.
И местью веет от оков,
не сгубленной в неволе честью.
И каждый смертник - брату брат
там, где сквозь долгие секунды
горят в отваге баррикад
карминовые ветви бунта!
Перевёл со словацкого
Сергей Шелковый
В часи наснаги, зради та наруги...
* * *
Ось чого хочу я в найтяжчі дні,
в часи наснаги, зради та наруги:
жадаю, щоб наснилась Ти мені,
Твої минулі, в рідних зморшках, руки.
І щоб Твоїх очей свята блакить -
серед надій, натхнень, смертей та згуби -
торкнулась мого серця ледь на мить,
аби одвічність правди відродить:
"Живи! Бо я з тобой, дитино люба..."
Взлетай же, острокрылый ястребок!
Витезслав Незвал
(1900 - 1958)
Игра в кости
В казино, где на ткани зелёной
продолжаю я игры с судьбой,
мне Химера с улыбкой кривой,
снова хвалится картой краплёной.
Так целуй всё пьянее меня
сквозь цветные фантомы гашиша!
Я, свой "вальтер" на флейту сменивший,
на вороньей готической крыше
поддаю каждой ноте огня.
Бой часов - выстрел громкий и меткий.
С нежной кожицы марионетки
ткань прозрачная соскользнёт.
Ночь не даст на письмо ответа,
глаз поранится риской света.
А Химера, с ухмылкой, ждёт.
Носовой платок
Я еду прочь. Тебя сквозь слёзы вижу.
И вот уже платок кладу в карман.
Весь этот мир, цветной плакат бесстыжий,
сорву, сомну и брошу в океан.
И в реку слёз нырну, в смятенье духа,
и в сотый раз ландшафт переломлю.
Прости мне, певчий дрозд, провалы слуха -
то хрипну, то заикою скриплю.
Платок трепещет. Городские норы
гротеском ночи втянуты в туннель.
Увы, но смерть - не лабиринт, который
под утро приведёт в чужой отель.
И ты, любовью мечен, как дель Сарто,
прекрасной даме возврати платок.
А смерть - кульбит, лишь краткий миг азарта.
Взлетай же, острокрылый ястребок!
Перевёл с чешского
Сергей Шелковый
Сто газелей вытканного счастья...
Три подъёма на Ай-Петри
1.
Прохлада и чабрец. Набыченный козёл
наследовавший нрав заржавленной пружины,
стеклянные глаза, грязно-седой камзол
и лучшие рога Ай-Петринской вершины.
Лачуг дырявых свист. Навалом мусор-вздор
насыпал раб земной у входа в поднебесье.
И будто бы шепча младенческий укор,
трепещет на ветру поодаль редколесье.
И этот березняк уже не смерд садил:
когда-то и сюда, знать, поднимались люди –
кто с саженцем в руке, кто с ковшиком белил,
а кто с глотком вина в охотничьем сосуде.
Дыхание чабра. Прохладно-жидковат
обрывистых вершин предсумеречный воздух.
Там где-то, у подошв, скликают газават,
но тишь небесных трав настояна на звёздах.
Распахнут окоём. – Ракушки городов
нанизаны внизу на нити побережий.
За веком век плывёт над яйлой без следов,
и лезет на козу лупатый здешний леший.
2.
Коньяком «Ай-Петри» угощали
на макушке этой же вершины
Тюрки при бочонке и мангале –
крымско-мусульманские мужчины.
Скалы ли, зубцы, клыки, отроги –
подпирали купол мирозданья…
Вежливый вопрос звучал в итоге:
удалась ли сочной снедь баранья?
Оттого ли, что пунцовой феской
оттенил я шрамы и седины,
был смягчён хрящом гортани резкой
клёкот из воинственной щетины?
Потому ли, что, от лоз чуть пьяный,
отражался я кальяном медным,
синий вечер яства дастархана
оживлял в орнаменте приветном?
Снова на вершине воздух хладен
вопреки теплыни у подножья,
и в изломе скал и скальных впадин
светится пунктир узора Божья.
Вновь пасутся на Ай-Петри кони,
жеребёнок губы тычет в вымя
матери. И привкуса погони
нет в шашлычном поднебесном дыме.
Хромом брезжит, никелем прохладным
звон стремян или ключей от рая.
Если б время не было всеядным,
можно было б жить не умирая…
3.
Мы с тобой вдвоём придём на Суд,
станем над бескрайними гробами,
белый опечаленный верблюд
с плотными шерстистыми горбами.
Истрепал халат багдадский вор,
борода слиняла, пооблезла.
Но цветёт узором твой ковёр,
что кладёшь ты всаднику под чресла.
Вновь я на престол Ай-Петри влез,
сел Тимуром меж горбами брата.
Ты и я - лишь прах у стоп небес,
даже если бисером богата
тюбетейка на моей башке
и твоя узда с кольцом сквозь ноздри.
Каждой жилкой, в каждом корешке -
чужаки мы козьей коза-ностре.
Жуй колючку или "Китти-кэт",
всё равно в глазах - табу и мыто
у трудяг, которым места нет
близ щедрот овечьего корыта.
Мы с тобой придём на скорый Суд
в долгом и упорном несогласье...
Над травой крапивницы снуют,
и каймой вокруг седла цветут
сто газелей вытканного счастья.
Воскресаем - вовеки, вовеки...
На двух языках
* * *
Революция длится и снится:
множат свет сине-жёлтые стяги -
в чёрном небе трепещут страницы
со стихами библейской отваги.
В низшем слое кружится полова.
Вот он - взлёт над бесчестием слоя,
вот Спасителя грозное слово -
жертва вечноживого героя.
В чёрном небе - Небесная Сотня:
молодые, с огнями-глазами,
пули псов принимаем сегодня,
дабы век и чело были с нами.
Наземь падаем, дети Господни,
ради выси в земном человеке.
Умираем - сегодня, сегодня.
Воскресаем - вовеки, вовеки.
* * *
Програвши власну Батьківщину,
не можна виграти життя.
Будь мужнім, України сину,
стійким - заради майбуття!
Дави раба в собі та зовні,
жени байдужість, лінь та страх.
За крівну долю дні безкровні
не вийдуть на слабких ногах.
Геть від очей злочинців влади,
геть на останній, третій, строк!
Тримаймося незламно, брате,
бо з нами - правда, з нами - Бог!
Той, самой большой...
* * *
А помнишь, щегла покупали мы, в клетке царя,
певца пятицветного, крестника чертополохов?
И дюжина лет пролетела, и лёд января
вмерзает в февраль, баррикадные горы отгрохав.
Как дюжиной зим отстрелялись - уже не сказать.
Молюсь что ни день, но невнятны земные молитвы
Господним высотам. И в смертников-родичей рать
всё злее вгрызаются сталью-колючкой ловитвы.
Чадит уголовная знать, тараканьи князья,
бароны зловещих могил посреди терриконов.
И ясно, как день, что без жертвенной крови - нельзя,
что страшен закон человечьих и Божьих законов.
Нет, не на коленях молиться нам - на животе
виниться в грехах - не семи, сорока! - поколений,
чьи Каины долгой идут чередою, а те,
кто Авелем мечен, обмякли в холопстве и лени.
Мы - здесь, моё чадо, где век бессердечен и туп,
где склеены губы с рожденья погибельной глиной...
И всё же о главном скажу тебе, мой жизнелюб:
я рядом с тобою, мой певчий сообщник щеглиный!
Опять к нам на плечи щеглы и синицы летят,
и зяблик садится - июньские щёки в румянце.
И всякий, кто лёгок и взлётен, - доподлинно свят.
А щебеты слабых - всесильного неба посланцы.
Ты помнишь, щегла выбирали мы? Август сиял.
И ты, мальчуган, улыбался невиданной птице.
Прости же мне зимы-расстрелы. Прости, что позвал
тебя в этот рай баррикад, где опасно родиться.
Я вновь прихожу к тебе, чадо, - зови, не зови,
понеже меж нами живёт необъятная тайна.
Мы выстоим и средь безвременья даром любви -
той, самой большой, что отмерена нам неслучайно...
Три кукушки на хлебе,...
Иван Малкович
(1961)
Ключ
Я потерял свой ключ: сосновую иголку
назвал своим ключом и обронил в траву.
И вот который день без карты и без толку
прочёсываю лес до позднего "Ау".
"Найду иль не найду" - терзаюсь, словно Гамлет.
А был ли ключ? И дом, стоящий на песке?
Опять ищу весь день. А вечер хвоей пахнет,
сосновою иглой, растёртою в руке.
Страна солнца
Убийца варит знахарское зелье,
вахтер безглазый стережёт короны,
банкир играет рифмой-канителью,
и шьёт поэт на бедность панталоны;
путаны, тенора и футболисты
седлают трон. Отличница умело
для спонсоров на льду танцует твисты.
И, словно сыч, хохочет Кампанелла.
Сон со свадебным хлебом
Три кукушки на хлебе, но есть недопёк - потому
бричка с князем-княгиней просела в провал паляницы;
и мягчайший, высокий, увлёк каравай в свою тьму
жениха и невесту, кукушек, свидетелей лица
и всё то, что назавтра загадано свадьбой ему;
и когда долетит от той брички подков перезвон,
всё, что в тесто запало, воскреснет порою ночною,
и над хлебом насущным с княгинею князь, словно сон,
закружат, будто хлеба душа закружится со мною...
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Я тёплый пепел их прочту...
Ацо Шопов
(1923 - 1982)
Прочтение пепла
Пылай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобою.
Когда слова моей души, сгорев, уйдут в золу,
я тёплый пепел их прочту, завещанный судьбою,
дабы вернуть и век челу, и новый взмах крылу.
О, песня, ты - из клювов птиц моих кровей летучих,
ты - из багряных облаков и воспалённых вен.
В непримиримости начал, в быстро-мятежных тучах
восходит солнце как завет грядущих перемен.
И я, ушедший от икон, от смутного их гнева,
опять - воитель той мечты, что словно остриём
копья, на камне чертит суть, скрипичный ключ напева -
не по канону, может быть, но о своём, живом.
Мой звук, мы вновь - два мира, мы - две разные планеты,
мы - два воюющих клинка из стали голубой.
Кто победил? Кто побеждён? Кто пьёт из губ рассвета?
Сгорай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобой.
Перевёл с македонского
Сергей Шелковый
Оригинал
ГЛЕДАЧ ВО ПЕПЕЛТА
Изгасни песно во огнот што го запали сама.
Прска зборот и исчезнува во пепел од кремен.
Гледачу во пепелта, ја препозна ли во неа исконската драма
што доаѓа од дното на овој извор темен.
Песно, те откинав од клунот на птица во крвта што ми лета,
од црвеното небо на запалените вени,
од тие далноводи на два непомирливи света,
тие изгрејсонца со неодгатнати мени.
Те откинав од гневот на иконите, тие неразбирливи гами,
од громот врз копјето на воинот со камен што е сраснат,
од сонот на тие повисоки што се од сонот што ги мами,
и што се раѓаат пак откако еднаш згаснат.
Сега сме два света, два врага, две завојувани страни,
сега сме војна без излез и кама против кама.
Кој е победен? Кој е победник? Кој е изгрев на осмислени рани?
Изгасни песно во огнот што го запали сама.
Настоян на коричневом меду...
Владимир Затулывитер
(1944 - 2003)
Алхимия инея
Цветастым шагом ямбовым иду,
скрипит, поёт стихами
снег крахмальный.
Тебя качают сосны на лету,
тебя в себе,
во мне заколыхали.
И в этом сне, у яви на виду,
ты голубеешь золотом
сквозь воздух.
Настоян на коричневом меду,
шумит мой бор
в мажоре мачт морозных.
И подголоском шуму - звонко бьёт
в студёный бубенец
юнец-синица.
Счастливый бор! Он снегом заметёт -
мой след и сон,
и явь, что только снится...
Памяти Ояра Вациетиса
Рыбацкий хуторок.
Тут нету неба и земли.
Тут море высоко. И высь глубинна.
Язычества зелёных молний
железо цедят из меня.
И тем железом да по мне же пишут
искрящие стрибожьи имена.
...Но не к тебе я шёл,
скороговор грозы.
Я, неосторожный,
нашёл то, что хотел:
костёр на берегу песчаном.
...И я не твой двойник, огонь.
А просто - я пришёл спросить,
что так безмолвно, как в ушке иголки,
что так безмолвно стало вдруг
у Вациетиса в стихе?
Вот в этих строчках:
Нет, я не стану есть свой хлеб
так, будто жрёт костёр сухие ветки...
* * *
Во всём - земля. И в брызгах чёрной грязи
у яблок на густом румянце щёк,
в сентябрьской тропке на моих подошвах
и в ласточкином брошенном гнезде.
И даже в пыли той, что мхом покрыла
нечитаные книжки, - всё земля.
* * *
Заточил карандаш -
словно сердце оголил:
промерзает оно
до чёрного уголька -
на вихрях радиоволн,
на сквозняках неуютной
розы ветров.
Пусть бы нашлось
такое-сякое,
наименьшее,
наитишайшее,
да хотя бы немое
нелукавое слово -
одеться во чью-то душу.
* * *
Шёлковая ласточка любви
слепила у меня в груди
из медовой глины детства
тихое гнездо сердца.
Пощекотала усы крыльями,
высидела слепые, беспёрые,
в жёлтых заедах
воспоминания:
сивый воронок везёт в село
арбу снопов,
такую высокую,
что колосья остями
цепляются за ветки созвездий
и осыпают меня, поднебесного,
зернистыми метеорами.
А конёк,
раз за разом останавливаясь,
долго и сладко пьёт
росяные родники
ласковых, как подорожник,
девичьих следов.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Жив ли тот город, усыпанный снегом...
Каникулы, январь 61-го
В старом Ваганькове дремлет Никола,
Сергий-отец во Кропивниках спит.
Снегом ночная усыпана школа,
бдит у дубовой двери инвалид.
Ты бы пустил меня поночевать бы,
строгий полутораногий боец!
Кружит Московщина вьюжные свадьбы,
зябнет в Кропивниках Сергий-отец.
Жив ли тот город, усыпанный снегом,
береговой острогранный гранит?
Группа подростков - в мышином и пегом -
адрес ночлега найти норовит.
Брызжет январь нереального года
свежею бронзой декретных монет.
Два мертвеца, не уйдя из народа,
пьют сквозь хрусталь электрический свет.
Штык подмерзает, Блаженный Василий, -
краснокирпичная пыль на зубах, -
к небу вознёс, вне законов и стилей,
сорок шеломов, тюрбанов, папах.
Живы ль пловцы допотопного часа? -
Пар на Волхонке, купальни огни
там, где собор первородного Спаса
сломан во дни чечевичной стряпни...
Где-то здесь, рядом, ночлежная школа -
двор, весь в сугробах, на вахте старик.
Снова играет каникул виола
снежное что-то: Сибелиус, Григ?
Или же просто московские ночи
дуют в метельный и бодрый рожок,
гонят по вене гормоны, пророча
завтра — стальное, как дизель-движок?
Был ли тот мальчик? Что с девочкой будет?... -
По истечении множества лет
те, кого утром будильник разбудит,
очи промыв, не припомнят ответ...
Только лишь те, из чертёжного класса,
кто по дороге в сугробе замёрз,
там, на Волхонке, в музейную кассу
сызнова станут — сержанты запаса,
волчьих пальтишек повытертый ворс...
* * *
Пионерского рапорта лжегосударственный пыл.
Активистов румяных напыщенная вереница.
С кумачовою грудью плеяда наставниц-кобыл:
ноги в кедах китайских, распахнуторотые лица.
Сколь несносен я им и себе самому незнаком,
сколь убогой сумятице верных шагов непокорен!
Вскормлен жижей компотной, перловым жлобом-черпаком,
карбонарием мечен и смутою порчен под корень…
И когда нас под флаг барабанное утро ведёт,
в черепахе приблудной отрядной сгущается ужас –
под фанерною тумбочкой синей страдалица яйца кладёт,
и морщинистой шеей, и битумным панцирем тужась.
Размягчает мозги лазаретно-карболовый быт,
серебрянкой замазаны шрамы цементных горнистов.
-Оторвусь! – чем сильней их казённое тело свербит,
-Улечу! – тем натужнее взор их бараний неистов.
Убегу – за шершавым забором, в лесу, я уже не один.
Там дубовую кровь пьют жуки, рогоносцы-олени.
Атакующих лбов напряжён густо-красный хитин,
что бодает ладонь и прохладою входит в колени.
Улечу и на лагерный час, и на целую жизнь убегу –
как хмельны эти соки в кленовых и вязовых жилах!
Бык вишнёвый молчит опьянев, - ни шу-шу, ни гу-гу…
Только я-то всё знаю о взлётных подпочвенных силах.
И будет Днепр светиться синевой...
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
* * *
Сыну
Уже почти привык, что мне досталась
Разлука с домом, что за годом год -
Всё горше, всё смертельнее усталость.
Что век мой, горбясь, под уклон идёт.
Уходят сутки, новый день рождая.
Его зенит не я увижу - ты.
Круг сужен. Лишь полоска огневая
Осталась от небесной высоты.
И солнце опускается багряно
За ту черту, в холодный океан...
Не я, но ты произнесёшь "Осанна",
Иного дня, иных людей пеан.
Памяти Т.Осьмачки
Прости - я не приду. Пусть с высоты
Лишь чёрный ворон крикнет, хрипло плача,
Что в землю лёг неповторимый ты,
Осьмаче-символ, Вий от мук незрячий.
Нет, не увязнет в холоде чужбин,
В бездушье глин твой пепел, жар сакральный.
Ведь правнук, что всей сутью - снова сын,
Перенесёт домой твой прах опальный.
Посадит дуб. И в мае над тобой
Опять взойдёт чабрец благоуханно.
И будет Днепр светиться синевой,
А в Киеве опять шуметь каштаны.
* * *
Бледнеет Апокалипсиса зверь,
Стирается, сникает чёрный абрис.
Час предрассветный - щебень бывших вер,
Дух пустоши и полумёртвый пафос.
Ещё чуть-чуть - и в резком свете дня
Предстанут в наготе бесстыдно-смело
Безликость масок и страстей возня,
И ложность обескрыленного тела.
И ты себе назначишь лишь одно -
Собрав все силы в узел, сбросить узы.
И превратится снова кровь в вино,
А шум и хаос - в вещий голос Музы.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И выси в ответ продолжают молчать...
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
N.N.
Между нами - пространство и темень,
И на разных мы клятвах стоим:
Вы в нарцисс влюблены, я же - в кремень,
Вам - Эллада, а мне - только Рим.
Где-то дали, моря, океаны,
Счастье вольных ветров наяву.
Только я, только я, окаянный,
Неотступной тревогой живу.
Вам - весь мир ярко-синий без края,
Ну, а мне - воспалённый вулкан,
Эхо, гул, где, дрожа и пылая,
Степь казнимая гибнет от ран.
Ars Poetica
Юлиану Тувиму
3.
Вечно сжатый в пружину и хмурый,
В миг улыбки к тревоге готов,
Morituri литературы,
Гладиатор безжалостных слов.
Вечно - чернь и жестокость арены,
Вечно - падая, снова встаю.
И язвят своры взоров надменно
Иссечённую душу мою.
Так горю, ибо неодолимо
Входят в кровь мою через века
Заклинанья кандальников Рима -
И варяга, и казака.
5.
Эллады сыны и сыны Иудеи,
Враждой разделённые дети земли
Крестом и железом и ядом идеи
Возводят и рушат все Римы, Кремли.
От греков и римлян, провинций, колоний
Гремели столетья меча и огня,
И к Богу вздымая бессильно ладони,
Молили напрасно великого дня.
И месть не жалела ни крови, ни яда,
И дымом руин упивались ветра.
Два лютых врага - Иудея, Эллада
От Тибра и Рейна и вплоть до Днепра.
И я средь чужих в нестихающей скорби,
И ты (на всём мире - чужбины печать)
Даруем всю боль свою urbi et orbi,
И выси в ответ продолжают молчать.
Думы
Всё сломалось. Уже не прощу и не склею.
Вяло тянутся донными рыбами дни.
Лишь квадрат синевы над провалом Бродвея.
Волны камня и стали. Бессонниц огни.
Мёртвый идол явился железной машиной,
Обезьяной и роботом, скрежетом зла.
Как посмею забыть о далёкой Единой?
Как живую порву пуповину узла?
Будут годы хромать, и змеиться дорога,
Будут взрывами полниться прОклятый век.
Будешь видеть, как вновь - без Природы, без Бога -
Возвращается в прах человек.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И, будто ненасытный Голем...
Олександр Олесь
(1878 - 1944)
Голод
Проклятый, вызванный громами,
Он страшно над землёй восстал
И ненасытными зубами
В кровавой мгле заскрежетал.
Пошёл притихшим сникшим полем
На сёла, словно камнепад,
И, будто ненасытный Голем,
Всех жадно грыз и ел подряд.
Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём - без страха и стыда.
Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах.
Влез на гору, посредь пустыни,
И выжег, криво глядя вниз,
Огнём на каменной вершине:
"Хлеб, мир, свобода - наш девиз!"
* * *
С печалью радость обнялась.
В слезах, как в жемчуге, мой смех.
И с юным утром ночь слилась
Над чередой тревожных вех.
В объятьях радость и журба -
Едины в круговерти дней.
И не стихает их борьба,
И я не знаю - кто сильней...
* * *
Лебеди ль, гуси по небу плывут
Там, в синеве, надо мною,
Cолнца потоки лучистые пьют?
В брызгах цветы-самоцветы цветут,
Как в Украине весною.
Тучи ли, лебеди, гуси ли там
Реют в небесной купели?
Сердце своё вам, крылатым, отдам,
Снова с мольбой обращаясь к ветрам,
Чтоб на Украйну летели.
Ой, полетите к любимой, к родной,
Чёрной печалью напейтесь.
Сердце моё отнесите домой
И над цветущей степною весной
Кровью моею пролейтесь!
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Не убий меня, мил-человек...
* * *
Спасибі, що у схемі випадковій,
в фантазії Господньої руки,
я справді був нарождений у Львові
в червоно-сірі бісові роки.
Два міліони з голоду сконали
у сорок сьомім. Пильний більшовик
тримав ствола. І всі живі ховали
у дупу покалічений язик.
Без молока і майже без надії,
мов левеня у колі ста вовків,
в тім давнім липні розліпив я вії
і до нестями жити захотів.
Мовчали церкви, табори й вокзали.
Та в Божім серці сльози і слова
мене - немов чекали! - зустрічали.
І вигукнув я їм назустріч: "А!"
Из биографии
Вдоволь спето неверных слов,
вволю выпито жгучей дряни,
на майдане пяти углов
меж фасадами стёрлись грани.
Полдень лета звенел от жал –
сатанели от зноя осы,
и пшеничный запах влетал
в ноздри улиц с погоста-покоса.
Длился месяц стрижиных крыл,
окликал лепестками ало.
Ни за что я июль любил,
прикусив на ладони жало, –
лишь за случай добра и зла,
за тот час, когда в смерч-полове
мама с криком меня родила
в австрияцком и польском Львове.
Конь под маршалом гнулся, дюж,
сокол сталинский зло был молод,
и ещё миллионом душ
под завязку ужрался голод. –
И в погибельном 47-ом,
подле Сяна спасясь от Дона,
огласил я псалмом роддом
в день Пречистой Казанской иконы.
Там пылало лето из лет,
над Юрой раскаляя кровлю,
где пробился я в зной на свет,
закипевшей измазан кровью...
Клят волчиной, облаян лисой,
в захолустье бесхлебья-лета
вскормлен был я чужой козой
подле града Елизаветы,
чтобы склон, где Булыжный Брод
жижу пьёт на похмел из Лугани,
освежил бы навек мне рот
дикой ягодой иносказанья,
чтобы нёс я в губах имена
городов и родимых кладбищ
по земле, где весна хмельна
без вина над камнями капищ...
Пятьдесят обмелело рек,
пять морей в океан сбежало.
Не убий меня, мил-человек, –
из-под кожи выдерну жало,
и врачуют мне дух и длань:
спелый луг материнства-млека,
ветки Льва, Лизаветы, Лугань –
вся душистая Тмутаракань,
не увядшая за полвека...
До серця невблаганно близько...
* * *
Замріяний, на мить завмерлий,
ти прислухаєшся, чи справді
ховає Марс живії перли
занурених прадавніх стадій,
чи ще під помаранчем шкіри
забутих марсианських хронік
пульсує-грає спогад щирий -
стрибучий золотавий коник,
той, що ми з ним перестрибнули
в земне ковилля кимерійське,
все ще тримаючи минуле
до серця невблаганно близько.
То ж навіть вірші молодії
летять до нас насправді звідти,
де віяли нам сном надії
ласкаві вії Аеліти...
* * *
Ти гойдай мою люлю, зазибель, моя наречена!
Бо, хоч інших жінок я - чи перший, чи другий - забув,
крізь уривчастий сон плине спогад і тихо, і чемно,
що насправді я був.
Ти гойдай сивий кокон, де гусінь в бавовну завита,
де в пітьмі-напівсмерті вже сяє метелик живий...
І за те воскресіння дві краплі солоного мита
ти візьми в мене з вій.
То ж гойдай рівно-щиро соснову труну чи колиску
з білотілої липи. Хто був, той насправді вже є!
Затремтів махаон. І тягар атмосферного тиску
ані смужки крила, ані згадки про літеру-риску
на льоту не псує.
Триптих Востока
1.
* * *
Где похоть-страсть ехидны с трубкозубом
сползает, извиваясь под откос,
трясёт хохлатый дятел рыжим чубом,
и до смерти ревнует утконос.
Там, где со стоном падальщица-птица
в объятья принимает дикаря,
от блуда их зловонного родится
такая тварь, по правде говоря,
что непременно президентом станет
твоей навеки проклятой страны,
где мак цветёт и конопля не вянет -
согласно всем заветам старины.
И если, упаси Господь, с душою
ты явишься сюда в свой день и час,
то здесь, за гранью, за глухой межою,
плачь о себе. И о немых - о нас...
2. Никаб
Люля-кебабу я по-свойски рад,
но ляля плюс никаб почти зловеще
стыкуются. Похоже, в краткость вещи
включён причин и следствий долгий ряд.
Сквозь щель никаба – Вавилон, шахид,
шумер, Искариот и цезарь Тит,
смешавшись, словно в дьявольском коктейле,
сулят семь чёрных пятниц на неделе.
Да так, что брезжит в ближней параллели
усач Усама, олигарх-скиталец
с оленьим грустно-масляным зрачком, -
любовник смерти, чей не в силах палец
со спуском «Калаша», с курком-крючком
ни наяву расстаться, ни во сне…
Бен Ладен с молодой женой в никабе. –
Как живо входят в мой расклад оне!
И чёрный автомат на чёрной бабе
всего лишь длит багровый ток знамён
кровоточивых, - всклень моих! – времён…
Когда-то с «Калашом» на юной вые
я клятву маме-мачехе давал.
Но грянули откаты роковые
с кончиной мамы. Чернозёмный нал
вовсю питает корни паханата.
Трещит душа по швам, а с краю хата
куриной лапой рвётся мне в карман,
поскольку волчий криминальный клан
удавкой дожимает коммунальной
свой люд – овечьих, видимо, кровей….
По дедовской шкале, по пятибалльной
кол пишется чернухе смутных дней
сообществом, чуть бурого окраса.
Но в целом масса без боеприпаса
не в силах одолеть сама себя,
подспудно, вдоль генетики, любя
своё же вековечное холопство…
Усама же приносит неудобства
всем тем, кто сам с усам, кто по слезам
спешит в шузах из кожи страусиной.
И мне всё чаще снится кол осины…
И прав Коран: достойней во сто крат
безбожия, стяжательства и жлобства,
достойней беспредела – шариат!
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?
И что никаб? – В очах его: «Свят, свят…»
3.
Жестокая метафора возмездья:
правитель, но не лев, - скорей, грифон,
вцепившийся когтистой лапой в трон,
архангел-гриф на прибыльном насесте,
ещё недавно – символ местных вер,
сиятельный, на сто карат, бербер,
укутанный до пяток златотканью
раис-алмаз, властитель нефтебаз, –
сегодня брошен навзничь в пыль и грязь,
и залит чёрной кровью надруганья…
Ещё вчера надменный шахиншах,
теперь он, с гиблым ужасом в глазах, -
комком белка, моллюском-василиском, -
размазан, в знак возмездья, по песку
и тут же - по мобильникам ливийским...
За изыск власти - веско платят взыском,
обвалом в преисподнюю-тоску…
Однако ж, и над нами - та же свора,
достойная такого же разбора:
и днём и ночью грабят, в три руки,
и распинают Бога неустанно...
Им – не указ, что напоказ тирана
рвёт челядь в ходе шоу на куски,
что те же клочья, так же по-простецки,
уже мелькали – здешний Брюховецкий,
а чуть пораньше Цезарь и Нерон,
в ад сброшены, - по линии ротаций, -
с нюансами правленья разбираться…
«Харам!..»*- тоскливый, обречённый стон
мятётся над казнилищем пустыни…
Но сей «харам» летит ко всем херам,
ко всем минувшим и грядущим дням,
где проступают капища сквозь храм,
где месть сладка, но нету благостыни…
-----
* харам - запрет (арабск.)
Валенсия! - Вселенство вдоль виска...
* * *
Валенсия, скучаю по тебе,
когда бы не сказать сильней - тоскую!
И вновь, нарваться на отказ рискуя,
я обращаюсь к скаредной судьбе:
"Продли дыханье примаверы той,
хотя б на тот один апрельский вечер,
где просветлённый дух мой, как тинейджер,
исполнен взлётной силы молодой,
где чёрно-золотой просторный мир
вовсю распахнут мне с крыла балкона
Валенсии, где звуки Морриконе
так тихо льются издали в эфир".
Валенсия, скучаю по зубцам
твоих Ворот, по Лонхе-де-ла-Седа
и вновь во сне к тебе на встречу еду,
к твоим навек речистым мертвецам
из бронзы. Твой Льоренте рифмовал
навряд ли ярче прочих и смелее.
Но днесь под сводом фикусной аллеи
достойно он венчает пьедестал,
когда в апрельской влажной полутьме,
загажен сизарями шалой стаи,
стоит, не дрогнет, дорогое зная:
"На каждый звук - миллениум в уме!"
Парит вдали стрекозий новострой
искусника Сантьяго Калатравы,
Нет, не избыть мне здесь любви-отравы -
под плавной апельсиновой горой,
здесь, под шатром эпических ветвей,
что брызжут сквозь изломы млечным соком,
здесь, где я полнюсь рокотом и роком...
Лети же, ветер из Магриба, вей
по городу, чья Турия-река
озеленила русло райским садом,
чей гений-дух, струясь по анфиладам,
всю ночь лепечет мне, что счастье рядом.
Валенсия! - Вселенство вдоль виска...
Мохито-бар плюс бармен-шоу...
* * *
"Мохито-бар плюс бармен-шоу!
Всем девушкам - бесплатный вход!" -
Тут ни одна не скажет "ноу",
тут молвит "да" Мальвины рот.
Мохито-бар - во льду и в мяте
крепчает капельный наркоз.
И пожалеешь о растрате,
но будет поздно, будет поз
и жестов поздний зов. И пряность
движений, и в грудине пыл.
Сезона хит, мохито данность -
в крови, как жидкий хлорвинил.
И будет счастье очень близко
там, где сквозь шахер-махер-бар
плывёт, смеясь не по-английски,
но, словно пылкий Эскобар,
соблазн. Где в дымке тамариска
горят шмели ярчайших глаз,
где гибель подойдёт так близко,
но поутру, но не сейчас...
И что за яд долил ты в мяту
за стойкой, в бабочке делец?
Непостижимо, непочато,
парят невенчаные чада -
сердца и пальцы без колец...
Время - очень большая вода...
Рождество в Скандинавии
1.Пролив Каттегат
Зимний ливень, сплошной, беспросветный,
хлещет, словно пришёл навсегда.
Ёрник-Йорик и Гамлет мой бледный,
время - очень большая вода!
Время водоворотом свернётся
в штопор-кукиш и тут же - в цветок.
Или в парус дыханьем толкнётся,
чтоб челнок ободрить на чуток.
И пройду в декабре по проливу,
где на скалах молчит Эльсинор,
где датчанин на шведа бодливо
век за веком взирает в упор.
О, как страстна волна ледяная
в этих холоднооких местах!
Шёл я, зимние воды сминая,
с благодарным теплом на устах.
До сих пор на губах моих оклик
меланхолии той не угас -
грустный Гамлет, усмешливый Йорик,
со свиданием, стало быть, нас!
С повстречаньем, разбойные воды,
бодрый гребень варяжской волны!
Деды-Одины, внуки природы,
бычьи шапки со звоном казны!
Предрожденственский ангел в каюте
копенгагенского корабля
лепетал, золотясь, об уюте,
но в снегах островная земля
за свинцовым проливом белела.
В серый день - лишь на йоту светло,
но двурогий варяг споро-смело
надвигал крутогрудое тело
там, в тумане времён, на весло...
2.Сочельник в Лунде
Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.
Неделя Рождества – и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.
Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье «Вифлеемская звезда» –
живой огонь, берущий за живое…
И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –
с рождественской свечою и цветком
за каждою оконной рамой Лунда…
И в воздухе – то чёрном, то цветном –
не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.
3.
* * *
Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!
За что твой абрис помню и люблю?
За то ли, что, - без лишних слов, по сути, -
я путь всё тот же, неизбежный, длю,
за годом - год, за шагом - полстолетья,
связуя с непрерывностью пунктир,
неловко тычась в мировые сети,
толкаясь красной буквицей в эфир?
И не за то ль, что, слепленный отважно
по Отчему подобью пешеход,
дороге друг я, - порассыпав брашна,
она меня в Сочельник приведёт
к заснеженному шведскому порогу? -
Скрипит камнями башен Лунд-чернец
в морозной тьме и посвящает Богу
зажжённых свечек Праздничный венец.
В громадном стылом храме пахнет хвоей,
мерцает в яслях сено Рождества,
и свечек огнеглазье золотое
являет дух живого существа.
Но вдруг средь гулкой стыни отголоском
настигнут слух удары молотка,
как бы взметнув над гиблым перекрёстком,
в пространстве, ставшем на секунду плоским,
чад гарпии, угар еретика...
Украина, Россия, Болгария, далее - везде
Украина, Россия, Болгария, далее - везде
3 декабря 2013 года в уютном каминном зале писательского клуба Харьковского отделения НСП Украины прошло торжественное награждение победителей и лауреатов первого конкурса "Международной Славянской поэтической премии", учреждённой в минувшем 2013-ом году Харьковскими отделениями Национального Союза Писателей Украины и Фонда Культуры Украины, Государственной Научной библиотекой им. В.Г. Короленко и Объединением Предприятий «Корпорация Гидроэлекс» для поддержки и поощрения литературного творчества молодых поэтов в возрасте до 30 лет.
Слава Богу, в этот декабрьский вечер, не щедрый на снега, как и все последние здешние зимы, с хмурых харьковских небес посыпался почти невесомый снежок. Так что живописным фоном для праздничных красных гвоздик литературного торжества всё же послужила не безнадёжная тьма за окном, а некое диалектическое сочетание быстро тающего белоснежья и уверенной в себе черноты городского гудрона. В качестве же звукового фона вполне уместно, и ничуть не навязчиво, потрескивали аккуратные чурки дубовых дров в камине видавшего многие виды писательского зала на Чернышевской улице.
Международное жюри Премии принимало для рассмотрения конкурсные поэтические подборки из семи стихотворений от авторов поэтических книг или объёмных публикаций в журналах, альманахах, сборниках. Особенность этой вновь учреждённой премии, отличие её от множество иных ныне существующих литературных наград состояло в том, что рассматривались подборки стихотворений от авторов, пишущих на любом из тринадцати государственных славянских языков: белорусском, болгарском, боснийском, македонском, польском, русском, сербском, словацком, словенском, украинском, хорватском, черногорском, чешском. Уже одно только это обстоятельство речевого многозвучия и полихромности произведений участников требовало от членов жюри конкурса и нестандартного набора лингвистических знаний, и особого языкового чутья, и уважительного, заинтересованного отношения к творчеству представителей разных языковых ветвей многовекового и раскидистого древа славянской культуры.
В жюри «Международной Славянской поэтической премии» вошли: Виктор Бойко (Украина) – поэт, лауреат литературных премий, Красимир Георгиев (Болгария) - поэт, прозаик, переводчик, лауреат литературных премий, Олег Комков (Российская Федерация) – поэт, переводчик, критик, доцент МГУ, Игорь Лосиевский (Украина) – поэт, критик, лауреат литературных премий, доктор филологии, Константин Савельев (Украина) – поэт, заслуженный работник промышленности Украины, Сергей Шелковый (Украина) - поэт, прозаик, переводчик, критик, лауреат литературных премий, председатель жюри, Владимир Ягличич (Сербия) – поэт, прозаик, переводчик, критик, лауреат литературных премий. Все члены жюри - специалисты в области нескольких славянских языков, авторы многих книг оригинальной поэзии и сборников поэтических переводов.
В конкурсе приняли участие около тридцати молодых поэтов из четырёх стран - Украины, России, Болгарии, Чехии. И творческий девиз конкурса, объявленный в Положении о «Международной Славянской поэтической премии», - гуманизм, духовность, гармония; интеллектуальный и эстетический поиск в поэзии; взаимодействие и взаимное обогащение культурных пространств разных стран, - по-своему, индивидуально и неповторимо, нашёл своё отражение в поэзии каждого из участников, в звучании каждого из языков.
Победителями Первого конкурса «Международной Славянской поэтической премии» 2013-го года были признаны молодые талантливые поэты из трёх стран - Любовь Якимчук из Украины, Максим Бессонов из Российской Федерации и Лора Динкова из Болгарии. Им торжественно были вручены дипломы лауреатов и денежные премии в снежный декабрьский вечер в клубе Харьковского отделения Союза писателей Украины, в присутствии заполнивших зал представителей творческой интеллигенции города. При этом денежный размер «Международной Славянской поэтической премии» составил: за первое место – эквивалент суммы $500 по курсу Госбанка Украины, за второе место – эквивалент $300, за третье место – эквивалент $200.
Конечно, при определении лауреатов Конкурса у семи членов жюри возникали разные мнения и оценки, что было естественно и неизбежно. Но в обретении взвешенного общего мнения, в достижении консенсуса заключалась априори и творческая задача, и немалая работа международного профессионального жюри. Работа эта продолжалась по сути в течение многих месяцев, начиная с мая, когда стартовал приём рукописей, и вот в этот декабрьский вечер завершилась наконец на вполне мажорной ноте.
Вот, к примеру, выдержка из заключения Олега Комкова, представлявшего в жюри Российскую Федерацию, поэта, переводчика, опытного педогога и исследователя в области филологии: "К сожалению, украинским и болгарским я не занимался и не работал с ними, поэтому звучание стихов, написанных на этих языках, от меня всё-таки ускользает. Однако поэтическое мастерство и проникновенность авторов видны и в письменном слове. В стихах Любови Якимчук многое показалось мне в чём-то родственным поэтике Веры Хорват, которую я сейчас перевожу с сербского. Тексты Лоры Динковой в очередной раз подтверждают глубинное родство поэзии и философской мысли - подлинной, не "научно-системной", затерминологизированной, а живой, простой и глубокой в этой своей простоте. Максим Бессонов пишет на родном для меня языке, поэтому здесь я слышу и музыку, и мысль достаточно полно. Не все строки его мне близки, но то, что поэт знает "особое состояние слов" (Седакова) - очевидно и слышно, равно как и искренность лирического высказывания".
В итоге решение о трёх призёрах Конкурса было принято единогласно. И в дополнение дипломантами «Международной Славянской поэтической премии» стали молодые интересные поэты - О.Воробьева, И.Кива, С.Куликов, В.Карпюк, М.Лаюк, А.Минакова, получившие свидетельства дипломантов Конкурса и свои порции аплодисментов от собравшейся в праздничном зале публики. Время для лаконичного выступления и чтения своих стихотворений, вместе с гвоздиками, особенно ярко алеющими в этот чёрно-белый декабрьский вечер, получили, как лауреаты, так и дипломанты Конкурса. Церемония награждения лауреатов и дипломантов записывалась представителями радио, телевидения, информационных областных сайтов, и записи о праздничном вечере, интервью с победителями конкурса, их фото оперативно появились в эфире.
Наверное, есть определённая закономерность в том, что этот новый, и обладающий существенными признаками новизны, творческий конкурс стал проводиться именно в Харькове. Многое говорит о том, что это город - и помнящий, и способный умножать свои богатые научные, культурные, литературные традиции, город, открытый для активного международного сотрудничества. Не просто полуторамиллионный мегаполис, пятый по населению город Восточной Европы, - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Варшавы, - но и средоточие большого человеческого, интеллектуального и творческого потенциала. По числу ВУЗов, в частности, Харьков долгие годы оставался третьим городом в Союзе, сразу же вслед за Златоглавой и Питером. Харьков - город нобелевских лауреатов биолога И.Мечникова, физика Л.Ландау, экономиста С.Кузнеца и множества других выдающихся деятелей науки и культуры, его исследовательским институтам и университетам принадлежит немалое число мировых научных приоритетов.
Так, в частности, если говорить о гуманитарной сфере деятельности, то широко известными строителями духовности славянского мира, работавшими в Харьков на протяжении последних трёх веков, были поэт и философ Григорий Сковорода и выдающиеся филологи Александр Потебня и Юрий Шевелёв. Их исследовательские и мировоззренческие идеи, органически вошедшие в общеславянскую культуру, являют собою и сегодня некий святящийся, питающий последующие поколения, путеводный пунктир, протянувшийся через три столетия и через множество пространственных границ.
Конечно же, Харьков, был и остаётся одним из важнейших духовных центров, связанным с формированием и развитием украинской и русской литературы и в Украине, и в более широком контексте. Достаточно назвать ряд славных имён украинских писателей и поэтов, создававших свои произведения в Харькове: П.Гулак-Артемовский, Г.Квитка-Основьяненко, М.Кропивницкий, П.Тычина, М.Рыльский, В.Сосюра, М.Семенко, Е.Плужник, О.Вишня, М.Кулиш, В.Свидзинский, Г.Эпик, В.Полищук, О.Досвитний, В.Пидмогильный, М.Йогансен, Л.Курбас, А.Довженко, В.Эллан-Блакитный, М.Хвылевой, Г.Тютюнник, О.Гончар, В.Мысык, В.Боровой, И.Муратов, Р.Третьяков.
Накрепко связаны с Харьковом своими творческими биографиями и известные русские поэты и прозаики: Г.Данилевский, Н.Костомаров, Н.Гнедич, И.Бунин, М.Арцыбашев, А.Аверченко, Б.Савинков, Г.Шенгели, В.Хлебников, О.Мандельштам, Б.Пастернак, В.Нарбут, С.Есенин, В.Маяковский, Н.Асеев, А.Ахматова, М.Цветаева, Д.Бурлюк, И.Северянин, В.Катаев, Ю.Олеша, Г.Петников, К.Тренёв, Н.Островский, А.Макаренко, Е.Ланн, Г.Владимов, М.Кульчицкий, А.Введенский, Д.Кленовский, Б.Слуцкий, Н.Воронель, В.Дудинцев, Э.Лимонов, Л.Копелев, В.Мотрич, Ю.Влодов, Ю.Даниэль, Б.Чичибабин, В.Козовой, В.Бурич, Ю.Милославский, Е.Евтушенко, Л.Яковлев.
Работая летом и осенью минувшего 2013-го над двумя статьями о Георгии Шенгели, открывая всё новые для себя материалы о харьковской литературной жизни начала ХХ века, я ешё раз убедился в том, что книга под названием "Харьков и Серебряный век русской поэзии" непременно должна быть когда-то написана. Собственно, - пока ещё без букв, слов и предложений, - эта книга властно и выразительно существует в пространстве бытия и истории - полная живых красок и звуков, символических и незабываемых событий. Дело за малым - перо и бумага. Де ещё - любовь, понимание, небеспамятство и благодарность будущего автора.
В своих строчках, возникших параллельно с написанием очерков о Шенгели, в опусе "Стихи в Харькове", я называю, к примеру, троих частых гостей, и более, чем гостей, - обитателей, харьковских пространств начала прошлого века:
Отчалил вдаль тридцатый день осенний,
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,
читал стихи и бражничал Есенин,
где Хлебников пророчества бубнил.
Почил сентябрь, но скоро Маяковский
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,
октябрьский громогласный гость московский,
огромный пленник собственных острот...
И вспоминая далее в этих же стихах о Мандельштаме и Мариенгофе, о Шенгели и Чичибабине, я по сути называю лишь ключевые камертонные имена, сохраняя при этом в своём внутреннем поле зрения всю эту славную плеяду из названных выше десятков имён, доподлинно ощущая всё это, "намоленное" раздумьями и поисками, образами и рифмами, ритмами и прасодиями, духовное пространство города, который, скажем прямо, вполне заслуживет сегодня намного больше того, чем реально располагает. Заслуживает так же, как и все родные земли Украины и России, так же, как и шестая часть земной суши, тоже навсегда не чужая душе, рождённой в её пределах в не столь давние годы.
В случае же с Харьковом, думаю, особенно правомерно говорить о не крикливом, но спокойно-величавом гении места. Говорить, конечно, без фанатизма, начинающегося на конкретную заглавную букву, но так же, как и в случае с другим большим творческим городом, строящим себя и своё внутреннее ядро, в смене поколений, на перекрёстках языков и культур, традиций и новаций. Существует ощущение того, что некая критическая масса честно и истово наработанного здесь духовного достояния уже просто-напросто не позволит явному и постыдному оскудению, ретиво прущему сегодня наружу, возобладать на сколько-нибудь долгое время:
Все были здесь и все слышны доныне.
Озоном слов их - лечится душа.
Ползвука от святыни до гордыни.
И, взвешен во всемирной паутине,
так и живёшь - и каясь, и греша...
Но не только нитями современной мировой паутины интернета и не только трассами прямых, - наконец-то! - авиарейсов связан Харьков с собеседниками, коллегами и единомышленниками из других славянских земель, государств, городов. Не теряются во времени и не теряют своего значения линии многовековых культурных и человеческих связей, прочерченные на исторической карте города. Так очень заметный вклад в развитие культуры и общественной жизни Харькова внесли на протяжении более чем трёх столетий представители ещё одного славянского народа - польского. Одна из улиц в центре города названа именем полковника Г.Донец-Захаржевского, который более 20 лет противостоял турецким войскам на рубеже Северского Донца ещё в 17 веке. Навсегда вошли в контекст истории города имена попечителя и одного из основателей Харьковского университета С.Потоцкого, живописца Г.Семирадского, поэта Л.Стаффа и драматурга Ю.Коженёвского, композитора К.Горского, фотографа и "отца украинского кинематографа" А.Федецкого, врача В.Франковского, имя которого носит ещё одна из харьковских улиц. В Харьковском университете учился в конце 19 века и будущий первый руководитель возрождённой Польши Ю.Пилсудский. В 1825 году Харьков посетил Адам Мицкевич, в память о его встрече с П.Гулаком-Артемовским на старом здании Харьковского университета установлена мемориальная доска. Здесь же, на Университетской улице, другим мемориальным знаком отмечена и память Северина Потоцкого. С 1991 года в Харькове работает Общество польской культуры, выпускающее ежемесячную газету на польском языке "Полония Харькова".
Действует в Харькове и Общество болгарской культуры им. М.Дринова и организованный им Центр болгаристики и балканских исследований. Ежегодно с участием Центра ко Дню славянской письменности и культуры проводятся международные конференции молодых ученых - Кирилло-Мефодиевские чтения. При Центре создана также обширная библиотека болгарской и сербской научной литературы и фонотека балканской музыки.
В топонимику харьковских улиц вошли и имена чешских воинов Людвика Свободы и Отакара Яроша, проявивших героизм в боях под Харьковом в 1943 году. А поэтические строки Георгия Шенгели и Владимира Мотрича, созданные в Харькове, несут на себе особый отпечаток адриатического хорватского генома, к которому причастны родословные обоих этих поэтов. Наверное, можно ещё долго и не без успеха продолжать поиски этих, то частных, то символически многозначительных, примеров соприкосновения и взаимодействия родственных культур, традиций, характеров и в контексте отдельно взятого большого города, и в более широком видении.
И потому возникновение именно на харьковской почве нового конкурса «Международной Славянской поэтической премии» представляется мне и вполне логичным, и обнадёживающим событием. Честно говоря, не сомневаюсь, что это доброе дело будет крепнуть и наполняться всё новым содержанием. И название этого моего вступления к поэтическому сборнику участников Первого конкурса "Украина, Россия, Болгария, далее - везде" вполне способно в следующем подобном сборнике трансформироваться в название, к примеру, "Польша, Сербия, Чехия - поэзия жива!" Ибо и неодолимое внутреннее стремление человека к гармонии, и вступление в жизнь всё новых поколений талантливых и ищущих молодых людей - всё это неотъемлемые черты подлинного Господнего замысла. Так что - до новой встречи 24 мая уже нынешнего 2014-го года, в День Славянской письменности и культуры, когда начнётся приём рукописей нашего Второго конкурса. И до встречи в Каминном праздничном зале 3 декабря, в день рождения философа-странника и поэта Григория Сковороды, когда прозвучат стихи новых лауреатов «Международной Славянской поэтической премии».
2014
Сквозь метель всё былое видней...
Вагон 30-го декабря
Трамвая щуп искрит бенгальской медью,
летит огонь, крылат, раздет, разут.
И елки, будто связанных медведей,
по улицам заснеженным несут.
Вновь этот воздух – спирт предновогодья,
круженье чуть подвыпивших надежд.
Из тьмы сияют ясеней угодья,
играет иней их бровей и вежд.
Весь этот город – крыши, арки, бреши –
облагорожен снегом на корню.
Сосновым духом густохвойный леший
щекочет ноздри и гортань мою.
А их все тащат, чудища, в трамваи –
взъерошенных, опутанных тесьмой!
И я, трамвайный номер забывая,
никак не вспомню – пятый ли, восьмой…
Все иглы рядом едущей сосенки
ерошу соумышленной рукой.
И пахнет мир смолисто, колко, звонко,
вчера еще заморенный такой…
Новогодье
Гирлянды множат в темноте
блик флорентийца Гирландайо.
Но все мы сгинем в пустоте,
подобно инкам или майя.
Вновь амальгамы дребедень
мерцает в заоконном свете.
Вздыхает сонно хвои тень,
и ангельски уснули дети.
Вновь счётчик щёлкнул невпопад,
мелькнул виток пути земного.
"Но бел - мне слышится - но Свят..."
И слава Богу, рядом спят
те, для кого - опять всё ново!
* * *
Хриплый Харьков, торгаш и картёжник,
дёрнув двести, гордится собой.
Под холмом Журавлиным художник
спит в обнимку с промёрзлой судьбой.
А на Лысой Горе, на Голгофе,
за Холодной, тюремной, Горой,
снеговей – свежемолотый кофе,
и мерцает во тьме аналой.
В честь Казанския Матери Божьей
освящён краснокаменный храм.
Век мой – зимний, но я–то - всё тот же,
вновь по-детски внимающий вам,
вам, в Сочельник раскрытые двери,
снег, оклада иконного блик,
запах грусти, надежды, потери
и Марии хранительный лик!
В зимний вечер – тоска изначальна,
сквозь метель всё былое видней,
а душа – просветлённо печальна
в ожиданье Рождественских дней.
Век мой отдан без спросу Иуде,
но, пока не занёс меня снег,
лепечу о прощении-чуде
в непрощаемый Господом век…
Я вгляделся в упор...
* * *
А ситный и бревенчатый Тамбов,
державинский и нежно-недержавный,
мне стал ценою в семь иных томов
и в семь стихов сердечной рифмы плавной.
Туда забрел я в лютом феврале
и завязал ондатровые уши
своей ушанки, ибо день мелькнувший
сменила ночь на ледяной игле.
И я бродил там в полночь по снегам –
по колко-ломким, вороным и белым.
Патруль румяный с волкодавом смелым –
вот весь народ, что встретился мне там
на улицах. Студеная страна
меня с немой угрозой окружала,
но я той ночи ножевое жало
смягчил глотком пшеничного вина
в гостинице, где беженцы, лишенцы,
шалавы, погорельцы, окруженцы
бродили меж ободранных колонн.
Какой-то вечный погребальный звон,
какой-то запах гибели, эссенций
заполнил все четыре этажа,
ступеней винт с почившим в бозе лифтом.
Чечены оттопырившимся клифтом
мелькнули, не по-здешнему жужжа...
Но сон тот русский – водкой я запил
и вышел на трезвейший зимний воздух
в огромном просветленье. Редкий роздых
в моем самосознании царил.
И в трех шагах от скопища грехов,
по кручам Цны-реки заледенелой,
белела плоть церковных теремов,
беременная верой неумелой.
И были звезды слезно хороши
над храмом Богородицы Казанской.
Мы – волчьей крови, брат тамбовский, брянский...
Но в эту ночь, душа, нежней дыши!
* * *
Борису Чичибабину
Доживём до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживём. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. -
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намёк:
он - и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счёт грехам он забыл, и ничто не идёт ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник - прохлада дождя на горячечной ране -
да по небу прочерченный птицей рифмованый след. -
Нас не предал лишь свет безымянный - на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам ещё триста лет.
Дотужим до весны - там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зелёном, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
Господи, в сердце Твоём вездесущем...
* * *
Ласточка, ласковый посвист небесный,
не оставляй меня, белая грудка!
Я ведь не пленник двумерности местной,
мы ведь с тобою повязаны чутко
неким единством, сестра, без названья.
И лишь пунктир твой, крылатый автограф
высветит в полновоздушной осанне
нашей взаимной любви иероглиф.
Взлётная, не отдавай меня пешим
дням - без тебя, без высотного смысла.
На холодец петушару зарежем,
вытопчем зиму сернисто и кисло...
Помнишь, касатка? - До жилки родное
бьётся, живёт в том неотданном лете,
где распростёрлись вовсю надо мною
золота с синью легчайшие сети,
где до сих пор я бегу, не сдаваясь,
по разнотравью, по таинствам-кущам...
Где набухает и полнится завязь -
Господи, в сердце Твоём вездесущем!
Мы ведь вправду зрим и чуем...
Зимовка
Вот и тучи накатили -
тёплой осени конец.
Не беда - в сезонном стиле
кот с енотом и песец
сладят зябкой музе шубу.
И с Венерою в мехах
пропоём мы "шубу-дубу"
на морозных воздусях.
Прогудим, даст Бог, всю зиму,
промурлычем до весны.
Будем, как ячмень озимый,
зеленея, видеть сны.
Грусть настигнет - отрифмуем
в сей же час унынья грех.
Мы ведь вправду зрим и чуем
оберег - для вся и всех.
Верь мне, муза-экселенца -
весь я твой и навсегда! -
Глаз-алмаз, задор младенца,
серебристые коленца
каменистого труда.
Дебют
За это приходится дырами в шкуре платить,
Короткою жизнью и тысячелетней тщетою.
Но, Боже, как сладко на слове свой хлеб замесить
И очи промыть родниковою певчей водою!
За это - плати опозданьем в борьбе и гульбе
И каждому «здравствуй» - «прощай» отвечай бестолково…
Солёная трещина на непорочной губе.
О млечное время, небесное первое слово!
То было зимой, и по городу ель пронесла
Декабрьского леса тяжёлые хвойные ветки.
В квартире был сумрак, парили окон зеркала,
И тявкал терьер за стеною у левой соседки.
За стенкою справа невидимый Карпов-сосед
Хрипуче-надсадно боролся с вечернею астмой…
И вспыхнула фраза! – И хода обратного нет
Ни в ясные дни, ни в века канители ненастной.
Минута, секунда… Но разве длиннее судьба?
Тавро золотое на серой обыденной шкуре!
Еловая песня в снегу… Набухают хлеба.
Замешаны здесь – а на Рейне хрустят, на Амуре!
И в беспамятстве ищет себя...
* * *
То ль Атлантикой веет ноябрь, то ль смягченьем закона.
Синим блеском расколот гренландского льда рафинад.
И огромный осколок плывёт, дабы вечностью стона
длился отзвук сопрано Селин на "Титаника" ад.
Судный айсберг плывёт, сублимация Божьего гнева.
Выше гор ледяных наросли терриконы грехов.
Машет матушка розовой шляпкой вослед, королева.
И арктический ветер вгрызается в плоть потрохов.
Моби Дик, броневой кашалот, светит белою кожей.
Криком молится смертник Ахав, китобой, мореход.
Километры студёных глубин на безверье похожи.
И в беспамятстве ищет себя человеческий род.
В чёрный город глядишь ты. Сей полис новейшего века,
многопалубный лайнер в сиянии тысячи глаз,
носит имя Содом. Не для Бога он и человека,
не для нас, наделённых живою душой, не для нас.
Снова, снова ковчег обречён, ибо злом перегружен.
Атлантической влагою полнится ночь ноября.
Перед чёрным окном, позабыв про остывший свой ужин,
"Отче наш - повторяешь ты вновь - я давно безоружен.
Но идущий за мной - ведь не зря же прекрасен? Не зря..."
Словно впрямь не чужие мы Богу...
Ангелы
1. Зимний дуэт
Завершая тринадцатый год,
ты промчишься по скользанке ловко.
Снег с утра неустанно идёт,
зябко мокнет кроссовок шнуровка.
И хоть снова морозится шиш
нам, романтикам двух революций,
с зимней родины не улетишь
даже в самом неоновом блюдце.
Стану думать, что главный отлёт
подгадаю ни поздно, ни рано.
Снег над тучною почвой идёт,
чист и лёгок, как меццо-сопрано.
То поёшь ты с Алиной дуэт.
"Голос ангельский, честное слово!" -
умиляется дряхлый поэт
из соседнего ряда второго.
И в бельканто своём молодом
ты летишь, догоняя Шопена.
А на улице медленным сном
снег ложится на отчий Содом,
на геном вековечного плена...
Улетай! Я опять остаюсь -
сторожить дорогую дорогу.
В чёрный свет, в белый свет помолюсь,
словно впрямь не чужие мы Богу.
2. В пути
Чёрно-белые псы и сороки
нам дорогу пересекали.
Под февральской корою соки
в полусне лепетали едва ли.
В зимнем ветре гуляла брага,
за Ельцом опять запуржило.
И стремглав неслась колымага –
лошадино-железная жила.
Хорошо б долететь до места,
не сломали бы крыльев сроки –
костяная не спит невеста,
всё слоняется вдоль дороги.
Проскочить бы вдоль поворота
на промёрзлой звенящей шине...
Греет гулкую кровь забота –
колесить с утра по равнине,
по овражной, непокаянной...
Ночью вьюжит, с утра подтает.
На снегу спиной – то ли пьяный,
то ли мёртвый – мужик отдыхает.
И слетает к нему осторожно –
может, ангел, а может, знахарь –
с чёрно-белой сосны придорожной
ярко-праздничный голубь-вяхирь.
3. Янгол огня
Слабый прячет от солнца глаза за стеклом кругло-чёрным.
Ну, а я заедаю свой день баклажаном перчёным,
запиваю вином — то «Медвежьею кровью», то «Бычьей» —
и блюду солнцелюбье свое, словно мести обычай.
И неделю до Спаса смолюсь на ракушке каленой,
ибо моет подошвы мне Понт, мой креститель исконный,
ибо был я в зубах истукана, в присосках у гнома,
но не предал ни речи коханой, ни кода-генома.
Ты попробуй сожри меня, местное время, без соли
и попробуй поймай меня на нестихающей боли!
Я ведь солнцем омыл и сердечную мышцу и жабры
и поставил шалаш над расщелиной абракадабры.
Я — из прежних, из тех, что в степи этой варварской жили
и в жемчужницу речи кремень-наконечник вложили.
Дорожает, звеня, золотая мембрана зенита,
крепнет янгол огня: «Все, кто выжил, — с убитыми квиты...»
Вижу Сына Твоего глаза...
* * *
Углем, маслом, нитью узорочья
золотом, растёртым на желтке,
я опять Твои рисую очи
в деревянном зимнем закутке.
Мой чердак – скрипучее жилище,
а Твоя, Мария, красота –
хлеб душе, доподлинная пища
для доски иконной и холста.
И пускай бубнят, что я – волчина,
битый молью бука и медведь...
Жизнь моя – весомая причина,
чтоб опять в лицо Твоё глядеть.
Пусть не жребий мне – остепениться,
не судьба – нажить товарный вид.
Подоконник мой не голубь-птица,
ворон-ворог заполночь долбит.
Но в морзянке клюва, в мёрзлой порче –
мне слышней иные голоса.
Вновь, Мария, в стыни зимней ночи,
летние Твои рисуя очи,
вижу Сына Твоего глаза...
Мастерская зимой
Мандарином повеял сочельник,
снегопадом, смолою сосновой.
Освежи свой подрамник, скудельник,
белотканной хрустящей обновой.
Замело на окраине хаты,
заискрились морозом овчины.
Славно жить – до последней растраты –
в синем колере Духа и Сына!
Простодушны, как буки и веди,
а внутри – снегирёвого цвета,
декабри, где лоснятся медведи,
калачами свернувшись до лета.
Ну а ты, мой художник колючий,
на холстине колдуя-пророча,
возжигаешь и вежи, и кручи
за пространствами вьюжистой ночи.
Разминая стоцветное масло,
полночь шаркает бабкою Кристи,
и покуда свеча не погасла,
скачут рыжими белками кисти,
мышь шуршит серебристой фольгою,
с четверга – домового невеста...
Снег раздался ямскою дугою
по всем весям – от оста до веста!
Вспоминая Клюева
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.
Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.
Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?
Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.
Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарою,
штофом залью на душе красногривую смуту.
Зиму бы пробедовать без большого пожара…
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара…
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!
Но любовь - да будет длиться...
* * *
Живу, как всё непрочное, наощупь,
предзимним расширением зрачка.
Лещиной бы - вселиться, вжиться в рощу б,
без лишних слов "прости" или "пока"...
Уйти - и кто жалел бы о пропаже?
Лишь ты, единокровное дитя...
Вот так и каюсь, и грешу сейчас же,
то сусликом, то зябликом свистя.
Июльский день всё шлёт мне телеграмму.
Но Брейгель выслал в путь своих слепцов,
и вождь без глаз уже нащупал яму
для нерождённых и для их отцов...
Но, если б взять с собою посох Босха,
глядишь, ранимый край добрёл бы с ним -
до первоснежья, до слезинки воска...
До Святок, серафим Иероним!
* * *
За окном - ноябрь и морось. Снег срывается и тает.
Сизари на свежей жиже клинописный росчерк свой
оставляют... Если пара-тройка душ тебя читает,
надо думать, сочинитель, ты - по-прежнему живой.
Надо знать, что будет утро. Не спеши, мой брат по вере,
ставить крестик, ножки хером, отпечатки зябких лап
на странице теплокровной. Затаились в спячке звери -
зимний обморок рептилий, кома ящериц и жаб.
Но твоё-то бьётся сердце - вот и в мёртвую погоду
звук держи над амнезией землероек и кротов!
Ни любезен, ни полезен сроду не был ты народу,
нет "exegi monumentum" в предрассудках городов...
Но любовь - да будет длиться! Длись открытостью гортани,
отдавая граду-миру незаёмные слова.
Круглолобый, как читатель, сизый голубь, весь в тумане,
сел к тебе на подоконник. И душа - жива, права.
Не разлюбив ни одной сокровенной загадки...
* * *
Мёдом не будь, ибо слижут в два счёта тебя,
ядом не стань - будешь наземь извергнут блевотой.
По горько-сладким сусекам с утра поскребя,
полнись высотной и полновоздушной заботой.
Век технологий гарцует, грызя удила.
Что ни опричник - в клешне золотая мобила.
ЧУдны, Отец, и чуднЫ Твоей глины дела -
к хорде Адама цепляется Голема жила.
Синее, с каплею кобальта, светит стекло.
Марс ли искрит или Веспер на сколе флакона?
Чистому разуму на сто пудов повезло -
Гуссерля гусли гудят отголоском Сиона.
К Ясперсу в Гайдельберг на семинар ли спешишь -
дышит в глаза осевое, несущее время.
Воду и хлеб, и реки философской камыш
сердце вбирает, и чакрами чувствует темя.
Тихо мерцает во тьме гигабайтами сеть,
дивны, Отец, фолиантов шрифты и закладки.
Жить в очарованном мире и в нём умереть,
на уронив высоты на прокисшую твердь,
не разлюбив ни одной сокровенной загадки...
Когда бы знать, за что награда эта...
Грехи
1
Есть нечто неизбывное и злое
исконно в человеческой судьбе.
И слабые слова у аналоя
ни мне помочь ни в силах, ни тебе.
Есть обречённость там, в глубинном слое...
Её назвать и отвести нельзя,
как будто всё нечистое былое
тревожит, обличая и грозя.
Когда бы знать, за что награда эта,
чтоб год за годом не сходить с ума!
Но мщением скулящие скелеты
вмурованы навек во все дома.
О, если б небо думало иначе!
Но нам ли ждать спасительных вестей?
О нас с тобою я давно не плачу.
Жалею малых ласковых детей.
2
Алтарные врата уже раскрыты,
и жёлчный поп с неправедным лицом,
скрипя, кадит елейно-ядовито
с виною затаённой пред Отцом.
Я имени греха его не знаю,
мне только всякий раз трудней дышать,
в тот миг, когда я чувствую: по краю
опять крадётся потаённый тать.
Из-под парчи - нечистый пегий волос...
И вот слова о вечном, о святом
завыл, запричитал фальшивый голос
с ползучим перешибленным хребтом.
Прости, Господь, но я ему не верю,
я чую в нём несчастье, порчу, лжу.
Прости, что я опять ошибся дверью -
ищу Твой храм, а в капища вхожу...
3
И прошлое - чем дальше, тем родней,
и с каждым годом - благодарней память.
Вся жизнь моя - из тех минувших дней,
в которых ничего не надо править.
Там - два сечённых временем, седых,
но дарящих любовью человека.
И я от их свеченья не отвык,
пройдя затменья и измены века.
И, помня их живые имена,
я их опять в молитве повторяю,
ведь надо жить мне, выхлебав до дна
все разносолы крепкозубой стаи,
чтоб на ноги поднять тебя, дитя...
За ритм и звук, за паузу и ноту,
за грех многоколенный, не шутя,
мы платим по безжалостному счёту.
Терплю, мой сын, и о тебе молюсь -
о пленнике жестокосердья Бога.
Он, давший нам немереную грусть,
не спорит - я одним тобой держусь
и солнцем первозданного порога...
Вот так бы просыпаться - век в дороге...
* * *
1.
О странствиях, о пылкой ли охоте
опять душа тревожится и кличет?
Иль о любовном нечете и чёте,
который всякий раз - начёт и вычет?
И снова плоть - в крови-колоратуре,
в височном пульсе, в золотистых икрах
звенит, гудит о честной пуле-дуре,
о полных риска искромётных играх.
Всё крепнет мысль, что с упряжью-уздою
тебе не сжиться до исхода века.
Под средиземноморскою звездою
ты вновь встречаешь царственного грека -
и парус Одиссея полон зова.
Хрустит пергамент, молод, словно зависть.
И в море вновь свежак несёт полову,
в зернистом слове оживляя завязь.
Вот так бы просыпаться - век в дороге,
мешая с ветром солнечную просинь,
где мчатся над волной единороги,
где ясно помнят эллинские боги -
душа-Психея вечной тяги просит!
2.
Всё! Наконец домой вернуться
с тропы бродяжьей и случайной,
линялым усом окунуться
в расплав крепчайшей гущи чайной.
Лаская груз фамильной чашки,
под перезвоны разговора
кольнуть клыком, чуть одичавшим,
глазурь забытого фарфора...
Как дышат разноцветной плотью
на книжных полках царства граций!
Как плавно складни переплётов
тебе навстречу отворятся!
И страстно вскрикнет половица
древесным плетивом волокон,
и озарится гладь страницы
кошачьим оком, спектром окон!
И, дрогнув эхом, обернётся
иною рукописью время.
И дым пространства чуть качнётся...
А надо всем и надо всеми -
щемящий свет дочерней тайны,
свеченье детской млечной кожи,
глаза, что всё необычайней,
всё больше на твои похожи...
Мария и Марфа, и мира мираж...
* * *
Ревнует ремонтник путей? И пускай -
ты взлёта над щебнем достойна сторицей,
звонка и ярка, как рассветный Вай Фай,
как с утренней ветки взлетевшая птица.
Озвучь мне все зовы небесных сестёр,
легчайших и радужных перистой тканью.
Зачем-то был короток наш разговор,
поспешным и скомканным было свиданье.
По синему небу плывут облака,
подсолнухов тигры пьяны чернозёмом.
Да будем мы петь в этом храме, пока
объяты мы летним, одним, окоёмом!
И мне ли спешить твоё имя назвать,
грустя, что другие его называли?
Я сам - лишь, без подписи, в клетку, тетрадь,
горобчик, крутящий "Орлёнка" педали.
Мария и Марфа, и мира мираж...
Мне мнится - довольно "агу" от младенца,
чтоб стал милосерднее пристальный Страж,
блюдя антураж до конца заусенца.
Живи, как загадано в пылких глазах,
звучи, как навеяно маком пунцовым!
Ревнует зоил? На часах, на весах -
ничто его перемороженный страх
пред летом Господним, пред Божьим уловом.
Будем рады годам, как туману...
Ирина Мироненко
* * *
Двадцать лет миновало.
Коньяк не разлит "Жан-Жак".
За обоями ссоры живут и тирады признанья.
Я устала читать в каждом новом намёке знак.
И семь роз притопила слепыми щенятами в ванне.
Будем рады годам, как туману - седой конокрад.
Сколько спрятано нами - наружу не вытянут кони.
Что-то ж мы сберегли, как до самой весны виноград.
Вон как гроздь тяжелеет у дочки на взрослой ладони.
* * *
"Ближайшей ночью Украину накроет холода волна" -
услышу новости. За рамой, озябнув, съёжились кусты.
Покуда город примерзает к студёной плоскости окна,
прижмурились беда с тревогой, печные чёрные коты.
Не нас ли, пару птиц залётных, в чужое занесло тепло.
уже и город дышит в душу, как давний огонёк степной?
Неважно, что холодным кругом на небе месяц обвело,
весна зерно перебирает для пашни завтрашней парной.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Харьковские годы Георгия Шенгели (часть 4)
часть 4
Из "Четырнадцатизвёздного созвездья" Г.Шенгели и плана его "Элизиума" естественно, без принуждения, образуется созвездие чуть иной конфигурации - череда тех поэтов и писателей, чьи творческие пути оказались накрепко связанными с шенгелиевским - имеем, думаю, право сказать и так! - Харьковом. И.Бунин, В.Хлебников, О.Мандельштам, Б.Пастернак, В.Нарбут, С.Есенин, В.Маяковский, Н.Асеев, А.Ахматова, М.Цветаева, Д.Бурлюк, И.Северянин, В.Катаев, Ю.Олеша, Г.Петников, Е.Ланн - о каждом из них остались полные жизни и духа времени воспоминания и документы, входяшие в харьковский контекст. В том числе и воспоминания саиого Шенгели. Однако, подробное (да и благодарное, и любовное несомненно тоже) путешествие по их неостывшим следам достойно того, чтобы стать, например, отдельной и насыщенной реалиями книгой очерков "Харьков в истории поэзии серебряного века"). Надеюсь, что такая книга когда-нибудь будет написана и что одним из главных её героев станет именно поэт Георгий Шенгели. А пока что, в процессе написания этого очерка, словно сами собою выдохнулся лишь краткий поэтический намёк на возможные воспоминания такого рода с названием "Стихи в Харькове":
Ушёл сентябрь, холодный и лучистый
в разрывах между тяжких облаков,
унёс кудрявый чуб зеленолистый
и пачку всласть исчёрканных листков.
Отчалил вдаль тридцатый день осенний,
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,
читал стихи и бражничал Есенин,
где Хлебников пророчества бубнил.
Почил сентябрь, но скоро Маяковский
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,
октябрьский громогласный гость московский,
огромный пленник собственных острот.
С ним рядом мрамор мухи Мандельштама,
живьё Каррары. - Сей, осой звеня,
бросает обвиненье в фальши, - прямо! -
румынскому оркестру злобы дня.
И марафетом от Мариенгофа
помечен курс истории стиха
здесь, среди стен и лестниц облсовпрофа,
где жизнь - скорей реальна, чем глуха.
Прошёл сентябрь. И стало больше солнца.
Как странно обращение времён!
Едва умывшись, сядешь у оконца
и снова врубишь старый патефон.
Осенняя сова рязанца кычет,
и Велимир глядит в очки ЧК.
И чёт, и нечет, и начёт, и вычет,
и некая счастливая тоска
о том, что все здесь были и остались
здесь - в подлинных узлах координат,
что давность нот и молодости малость
усилены любовью во стократ.
И вот, кого опять зову - Шенгели!
Всегда на мушке века, сам стрелок,
всегда без дураков, на самом деле -
Боспора свежий первозданный вздрог.
Он, восемь лет по Пушкинской шагая,
Эредиа, фелюгу и себя
сберёг средь флагов октября и мая,
пером, словно уключиной, скрипя.
Миллениум добит. Добыт и скраплен
из-под пластов иной метан для ТЭЦ.
Но греет память - рядом Чичибабин,
улыбкой брат, сединами отец...
Все были здесь и все слышны доныне.
Озоном слов их лечится душа.
Ползвука от святыни до гордыни.
И, взвешен во всемирной паутине,
так и живёшь - и каясь, и греша...
Улица Пушкинская в Харькове, бывшая улица Немецкая, прекрасно помнит молодого и вдохновенного Георгия Шенгели начала прошлого века. Проходя, в силу своих жизненных обстоятельств, ежедневно по нашей с ним общей Пушкинской, я нередко вспоминаю о нём, о незаурядном и ярком поэте с нелёгкой, но значительной и полной явных и тайных смыслов, судьбой. Он несомненно остался до конца верен своей присяге "нового Пушкинства", данной им когда-то именно среди здешних городских камней. И потому именно на этой улице чаще всего видится мне его благородный облик - поэта, мыслителя, пантикапейца, человека живой духовной Вселенной, иноходца и "дальнесмотрителя маяка":
На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки –
не ямбом-хореем, так яблоком и хороводом!
Спешат молодые и радостные человеки
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.
И пусть бы потом, в андеграунде, в метровокзале,
иль, может, на самой высотной небесной опушке,
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:
«Увидимся снова, как прежде, – в кофейне на Пушке...»
2013
Харьковские годы Георгия Шенгели (часть 3)
часть 3
* * *
Возвращусь снова непосредственно к теме этого очерка, заявленной в его заглавии. В июле 2013 года я завершил свою статью "Поэт Георгий Шенгели и его Крым". Этот очерк был сразу же, в августе, напечатан, хотя и с некоторыми сокращениями, крымским изданием "Литературная газета + Курьер Крыма" и по частям, в пяти выпусках, керченским еженедельником "Боспор" в начале осени. В конце августа я снова, уже в третий раз за последние три года, приехал в страстно любимую Георгием Шенгели Керчь.
Сидя на завалинке возле небольшого белого дома, почти у вершины Митридатовой горы, вместе с научными сотрудниками Керченского культурного заповедника В.Ф. Санжаровцом и С.В. Механиковым, мы говорили о поэте и его городе, о том, что памятный знак Г.Шенгели в его родной Керчи непременно должен быть установлен, и не когда-нибудь, а уже сейчас, в ближайшее время. Упомянул я и о том, что материалов о харьковском периоде жизни поэта у меня набралось немало в процессе работы над моим первым шенгелиевским очерком.
- Напишите, непременно напишите о харьковских годах Шенгели! Это было счастливое для него время!" - воскликнул Сергей Владимирович Механиков, тот самый исследователь, чьи статьи о Г.Шенгели стали первыми в Керчи публикациями о поэте за последние десятилетия. Пожалуй, подтверждение того, какими полными молодых надежд и нерастраченной творческой энергии были для Г.Шенгели годы становления в Харькове, и в частности, годы написания и издания "Гонга" в полной мере звучит в его апрельском, 24-го года, письме к М.Шкапской: "Раньше любая мелочь, - прохожий, вызолотивший вечером, зажигая спичку, своё лицо; зеркальный шкаф, несомый по улице; футлярчик для мундштука, похожий на сафьяновый гроб, - всё было источником лирического переживания, всё рождало стихотворение. В первом моём томе, в "Гонге" - 80 стихотворений, написанных в 2 года, но это не более 1/5 всего, что за эти годы написалось. А теперь и выбирать не из чего: одно стихотворение пишу в месяц, да и то - слава Богу. До такой степени принизили, забили сором, затормошили душу подлые будни..."
Ранние, харьковские, годы творческой биографии Шенгели отмечены не только его плодотворной поэтической и исследовательской работой, но и осознанием и формированием тех мировоззренческих и художнических принципов, которым он неизменно следовал на всех дальнейших этапах своего литературного пути. Именно в Харькове, в период "бури и натиска" своей сполна раскрывшейся творческой натуры, он провозгласил в своих публикациях и выступлениях новое, личностно им прочувствованное и продуманное, направление в поэзии, которое синонимически именовал "неоклассицизмом", "пушкинизмом", "новым Пушкинством". Примером, в частности, может служить прочтение им 13 апреля 1917 года в Харьковском Литературно-художественном кружке лекции на тему: "Новое Пушкинство (поэзия ближайших дней)", о котором через два дня сообщила харьковская газета "Южный край". При этом как на образцы новой линии "неоклассицизма" в русской поэзии Г.Шенгели ссылался на творчество столь разных поэтов-современников, как М.Волошин, О.Мандельштам и В.Ходасевич.
Сочетание классического ритмического и смыслового рисунка стиха, строго выверенного и взвешенного, и нового качество образного и лексического наполнения, более рельефного, предметного, более многомерного и динамичного, - вот что вкладывал Георгий Шенгели в понятие своего "нового Пушкинства", если судить по всему своду его поэтических произведений. Именно эти качества неоклассического письма Г.Шенгели собственно и привлекли меня уже при первом прочтении его стихов в 1988 году, когда сборник "Железный поток" попал мне в руки. Уже тогда определённо возникло желание прочесть Г.Шенгели полнее и глубже, узнать о нём больше, рассказать о нём и его поэзии. Хочу добавить ещё, что для меня несомненным достоинством пластики, образной системы Г.Шенгели является обогащённость обретённого и взращённого им Пушкинства неким очень значительным и одновременно очень личностным его качеством - врождённым и неподдельным Пантикапейством поэта. Это ощущение философского и поэтического обитания на семи ветрах пространства и времени, это одновременное присутствие во многих сакральных "подлинных узлах координат" живой человеческой истории - едва ли не самое дорогое лично для меня ощущение от творчества Георгия Шенгели. Это дышащее и светящееся Пантикапейство, полагаю, подарено ему не только его родным городом, помнящим более чем с два с половиной тысячелетия истории, но и самим неповторимым узором генома поэта, в котором причудливо объединились наследия русских, украинских, польских, далматских, грузинских, еврейских, турецких родовых линий (этот перечень собственных предков даёт сам Г.Шенгели в своей "Автобиографии").
Уже на излёте жизни, в 1948 году, тяжело болея, Г.Шенгели возвращается в стихах благодарной памятью, словно бы одновременно, и к родной стихии ночного Понта и Боспора, и к харьковским реалиям начала века, когда из-под крыла издательства "Синяя птица" (которым, по словам Кривцовой и Ланна был сам Шенгели) вылетела полудюжина его первых поэтических книг:
Мы же в безднах затеряны, поглощены темнотой;
Этой черной вселенной ни якоря нет, ни границы;
Только зону луча прорезают бакланы порой, –
Буревестники счастья, громадные Синие Птицы.
И уже в 1955 году, за год до смерти, Шенгели произносит в прощальных стихах дорогие ему имена русских поэтов-современников, рядом с которыми ему пришлось пережить страшные, жестокие, и тем не менее дорогие сердцу, единственно данные и полные творческого пылания, годы:
Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимильяна, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра — небывалый хор,
Четырнадцатизвёздное созвездье!
Что за чудесный фейерверк имен!
Какую им победу отмечала
История? Не торжество ль Петра?
Не Третьего ли Рима становленье?
Не пир ли брачный Запада и русской
Огромной, всеобъемлющей души?
Он знал их всех. Он говорил о них
Своим ученикам неблагодарным,
А те, ему почтительно внимая,
Прикидывали: есть ли нынче спрос
На звёздный блеск? И не вернее ль тусклость
Акафистов и гимнов заказных?
И он умолк. Оставил для себя
Воспоминанье о созвездье чудном,
Вовек неповторимом...
Был он стар
И грустен, как последний залп салюта.
Речь здесь идёт, конечно, о поэтах, прекрасно известных каждому истинному ценителю русской поэзии: В.Брюсов, А.Белый, К.Бальмонт, М.Волошин, О.Мандельштам, Б.Пастернак, И.Бунин, И.Северянин, С.Есенин, А.Ахматова, В.Маяковский, М.Цветаева, В.Иванов, А.Блок.
А ещё перед войной Шенгели начал писать воспоминания "Элизиум теней", для которых в наброске плана обозначил 45 персональных глав, посвящённых своим литературным друзьям и знакомцам. В этом плане, в частности, поименованы: И.Северянин, В.Дорошевич, М.Волошин, О.Мандельштам, Э.Багрицкий, В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Белый, В.Мванов, И.Рукавишников, А.Грин, В.Ходасевич, М.Цветаева, С.Есенин, В.Шершеневич, В.Маяковский, Б.Пастернак, М.Кузьмин, Н.Асеев, А.Ахматова, Ю.Олеша, В.Катаев, Д.Бурлюк, И.Бунин, Л.Рейснер, В.Хлебников, В.Нарбут и другие. Георгий Шенгели долгие годы находился в самой гуще литературной жизни, и ему несомненно было, что рассказать о каждом, кого он назвал в своём плане. К сожалению, для "Элизиума" в полном виде были написаны лишь главы о И.Северянине и В.Дорошевиче. Однако в других своих работах Шенгели успел немало и выразительно сказать и о Брюсове, и о Маяковском, и о Бурлюке, и о поэтах и писателях Одессы (в своих мемуарах "Чёрный погон"). А скольких прозаических глав, например, стоит проникновенное стихотворение Г.Шенгели, посвящённое памяти М.Волошина, "Широкий лоб и рыжий взмах кудрей...", в котором выпукло, рельефно, во весь рост встаёт фигура Макса, большого поэта, человека широкой души, щедрого хозяина поэтического Коктебеля. И одновременно это стихи, в которых братская любовь Г.Шенгели к Максимилиану Волошину, другу многих его лет, звучит искренно и неподдельно.
Харьковские годы Георгия Шенгели (часть 2)
часть 2
Две рукописи Георгия Шенгели из фонда музея относятся к 1943 году, ко времени пребывания его в эвакуации в столице Киргизии городе Фрунзе. Обе рукописи преданы в музей вдовой харьковского поэта А.Ф.Кравцова(1915 -1983) после его смерти. Первая из рукописей - лист стандартного размера, снизу доверху заполненный чёткими, идеально ровными строками письма в ЦК ЛКСМ Киргизии. Послание написано тёмно-лиловыми, близкими к оттенку красного, и до сей поры яркими, чернилами - весьма "пушкинским" по начертанию почерком Шенгели. Это по сути рецензия на рукопись поэмы Александра Кравцова "Бессмертие", посвящённой героической теме краснодонской "Молодой гвардии", и рекомендация этой поэмы к печати.
Документ заверен внизу листа бледной круглой печатью ЦК Киргизского комсомола, и, видимо, сыграл свою роль рекомендации, поскольку поэма А.Кравцова была выпущена в 1944-ом году отдельным изданием, став второй книгой в его писательской биографии после первого сборника стихов 41-го года с характерным для того времени верноподданническим названием "Письмо к Ворошилову" (А.Кравцов был уроженцем Луганска).
Текст второй музейной рукописи Шенгели, меньшего объёма, полагаю, может быть, приведён здесь полностью:
Договор
г.Фрунзе 29/Х - 1943 г.
Мы нижеподписавшиеся Шенгели Г.А. и Кравцов А.Ф. заключили договор на следующее:
Шенгели Г.А. и Кравцов А.Ф. берут на себя обязательства в течение года, начиная с ноября 1943 г., по ноябрь 1944 г. изучить следующие языки: Шенгели Г.А. туркменский язык, Кравцов А.Ф. французский язык.
Настоящий договор может быть действительным, если два подписавшие его в течение одного года научатся свободно читать и переводить при помощи словаря. Невыполнение настоящих обязательств будет рассматриваться, как пустые обязательства
Подписи: А.Кравцов
Г.Шенгели
г.Фрунзе 29/Х - 43 г.
Временная ставка Шенгели, Б.Степовая 49
Вряд ли А.Кравцову удалось выполнить взятые на себя в этом договоре обязательства. Во всяком случае его переводы с французского никогда не публиковались. Что же касается Шенгели, то Георгий Аркадьевич сполна оправдал свою подпись, поставленную под договором. В 1945 году был издан его перевод туркменского народного романа "Шасенем И Гариб. Народный Дестан", выполненный совместно с женой Ниной Манухиной. Для Шенгели, конечно же, представлялось намного более реальной задачей исполнить своё обязательство - изучение языков он ощущал с юности как свою внутреннюю потребность, работа с поэзией и прозой на разных языках - воистину дело всей его жизни. Ещё тринадцатилетним мальчиком он начал этот путь с перевода "Аскольдовой могилы" на изучаемый им тогда эсперанто. Дальше больше - объём выполненных им поэтических переводов мировой классики он сам оценивал ещё в статье "О моей работе" 1951-го года в более, чем сто сорок тысяч, строк.
Показателен пример из крымских воспоминаний Семёна Липкина:"Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татарином на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью." А друг всей жизни Г.Шенгели, засекреченный советский физик-академик Сергей Векшинский, вспоминал, что ещё в гимназические годы в Керчи, Георгий, всерьёз увлёкшись стиховедческими исследованиями, "недели и месяцы" усиленно изучал не только немецкий и французский, греческий и латинский, но и арабский, дабы вникнуть в фонетику и метрику стиха в их самых разных проявлениях.
Что же касается журналов "Ипокрена" и "Творчество" со стихами Г.Шенгели из фондов Харьковского литературного музея, то эти два пожелтевших и охрупченных экземпляра, - конечно, лишь небольшая часть харьковских изданий того времени, в которых он постоянно печатался как поэт и критик. Среди этих изданий и журнал "Парус" с его рецензией на сборник "Иверни" М.Волошина, здесь же и два номера "Путей творчества" Г.Петникова со стихами Шенгели. В этом же ряду и его публикации почти во всех 18 номерах журнала "Колосья", издателем которого являлся приват-доцент Харьковского университета В.С.Рожицын (1888-1942). Отдельное фото В.Рожицына, кстати, так же, как и фотопортреты В.Нарбута и Е.Ланна, входит в тот, выше названный, набор 28 копий фотодокументов из архива Г.Шенгели, который был передан из ЦГАЛИ харьковскому музею.
* * *
В мае 1919 года Г.Шенгели командируется из Харькова в Севастополь в качестве "комиссара искусств". "Летом, однако, - пишет Г.Шенгели в своей "Автобиографии" 1939-го года - Крым был эвакуирован; мне пришлось скрываться. С фальшивым паспортом, выданным мне Севастопольской парторганизацией (паспорт до сиз пор хранится у меня), я пробрался в Керчь, затем осенью в Одессу, где прожил почти два года".
Творческой и организаторской активностью Шенгели, его редкостной интеллектуальной производительностью, которые окрепли и сполна уже проявились в 1914-1919 годах в Харькове, отмечено и время пребывания его в Одессе. В своём творчестве он по-прежнему остаётся неутомимым и полным энергии, несмотря на политическую чехарду, на непредсказуемые и опасные смены режимов и властей. Работает день за днём - даже вопреки трагедии, постигшей его семью как раз в этот период, в декабре 1920 года, - расстрел в Керчи двух старших братьев Г.Шенгели Евгения и Владимира, офицеров Добровольческой армии.
С января 1920 по август 1921 года Г.Шенгели является главным редактором Одесского Губиздата. В 1919 году в Одессе им опубликованы отдельными изданиями драматическая поэма "Нечаев" и "Трактат о русском стихе. Ч.1.: Органическая метрика". В 1920 году вышли "Избранные сонеты" Ж.М. де Эредиа, переведённые Г.Шенгели ("перевод сорока сонетов, сделанный уже довольно твёрдою рукой, хотя и далекий, конечно, от блеска оригинала...", по его же собственному определению) и второе издание его "Еврейских поэм". В 1921-ом напечатаны драматическая поэма "1871 год" и сборник стихотворений "Изразец", та самая книжка, желтушно-бумажный, меньше ладони, квадратик которой можно и сегодня подержать в руках в отделе редких рукописей ГНБ им. Короленко. Конечно же, основная часть "Трактата" наработана Г.Шенгели ещё в Харькове (смотри выше цитату из его письма к М.Волошину), так же, как и переводы из Эредиа, о которых вспоминают А.Кривцова и Е.Ланн ещё в связи с самым ранним харьковским периодом поэта.
Здесь же в Одессе в 20-ом году было положено начало и циклу сонетов Г.Шенгели, которые занимают особое место в его творчестве. Этот цикл вполне заслуживает наименования постгойевских, близких к фантасмагории, "Капричиос" поэта. Эти стихи - воплощённые в безупречную классическую форму страшные картины гражданской войны, кровавой междоусобицы, безжалостной бойни, очевидцем которой пришлось быть Шенгели в 1918-1921 годах в Харькове и Керчи, в Севастополе и Одессе. Уже сама стыковка совершенной поэтической формы сонетов с описанием в них сцен безудержного насилия, разрушения и жестокости несомненно являет собой сильный стилистический и психологический ход. Вряд ли следует видеть в этом жесте признаки некой авторской отстранённости. Скорее, здесь и звучит, и молчаливо насыщает собой контекст интонация неодолимой горечи и бесконечного сожаления. Эти сонеты не отпускают Г.Шенгели ещё долгое время, требуя возвращения к себе и авторской правки и в 33-ем, и в 37-ом годах. Цикл хронологически открывается как раз выразительной харьковской зарисовкой 1918-го года «Дух» и «Материя»:
Архиерей уперся: «Нет пойду!
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»
Грозит погром. И партизаны стражей
Построились — предотвратить беду.
И многолетье рявкал дьякон ражий,
И кликал клир. Толпа пошла, в бреду,
И тяжело мотаясь на ходу,
Хоругвы золотою взмыли пряжей.
Но, глянув искоса, броневики
Вдруг растерзали небо на куски,
И в реве, визге, поросячьем гоне —
Как Медный Всадник, с поднятой рукой, —
Скакал матрос на рыжем першероне,
Из маузера кроя вдоль Сумской.
В этот шенгелиевский цикл чёрно-белых сонетов-гравюр глубокой и выразительной резьбы входят:"Комендантский час", "Своя нужда", "Мать", "Короткий разговор", "Самосуд", "Провокатор", "Валяло круто. Тёмно-ржавый борт...", "Интервенты", "И эти здесь! Потомки Мильтиада!","Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска..." Наверное, примыкают к ним тематически и интонационно стихи 19-го года "Последний раз могиле поклонились..." и "Нищий", дополняя ту же фантасмагорическую картину судного часа:
На фронте бред. В бригадах по сто сабель.
Мороз. Патронов мало. Фуража
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,
О пополнениях взывает кабель.
Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:
Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.
Шалеют доктора и сторожа,
И мертвецы — за штабелями штабель...
Безжалостно зоркие и честные свидетельства апокалиптических дней, показания очевидца и поэта, человека, стоявшего у последней черты - с раскрытыми глазами и с будто бы заживо вырываемым сердцем. Однако здесь не только подлинные картины торжества бесовского промысла, выхваченные из мрака чутким объективом художнического зрения. Здесь возникают, словно бы завершая на ноте почти невыносимой силы весь цикл, и философские обобщения поэта поистине библейского звучания. И появляются они в стихах, родившихся хронологически сразу же вослед казням двух старших братьев Г.Шенгели, их расстрелам 4 и 12 декабря 1920 года в Керчи. Судя по всему, к моменту написания 5 января 1921 года стихотворения "Нет воздуха... " мрачная весть об убийстве его братьев, двух молодых людей, полных сил и надежд, едва только достигших своего тридцатилетия, уже добралась к Георгию из Керчи в Одессу. И для меня, вне всяких сомнений, эти стихи Г.Шенгели звучат реквиемом, затаённым плачем - по его родным, по несчётным убиенным всея "огромной тишины":
Нет воздуха, — в огромной тишине
И песнь, и парус повисают пусто, –
Ни высказать, ни двинуться нельзя
В неизъяснимой ясности заката…
Нет воздуха, — и что бы ни сжигать:
Овец ли Авеля или зерно
Его убийцы, — ни огня, ни дыма
В пустыне не взовьется в небеса, –
И Богу будет нечего ответить...
И эти сны, а порой и галлюцинации наяву, о том, что "Богу будет нечего ответить...", сны о тысячах расстрелов, о его собственных арестах и приговорах, станут преследовать Георгия Шенгели все оставшиеся три с половиной десятка лет его жизни. И нередко отзываться в тайном слове его стихов - не то, что не подлежащих озвучиванию, но и смертельно опасных для самого автора. Таких, например, стихов, как "Грозный сон" августа того же, соседствующего с казнью братьев, 21-го года:
И грозный сон тогда тебе приснился:
Закат невыносимый плещет в небо,
И Богоматерь в аспидном плаще
Над пламенем кипящим возлетает.
Обожжено янтарное лицо,
Бездонны водоёмы глаз, и кроет
Она плащом недвижного Младенца.
Багряный ветер раздувает плащ,
Соскальзывает он, Младенец виден, –
И не её Христос, а твой Исидор.
И сердце обрывается, и руки
К Похитившей с мольбой неизъяснимой
Стремятся. А Она, а Богоматерь
Запахивает с сердцем плащ и, круто
Вдруг обратясь, уносится в закат...
Ты ринулась, проснувшись, к колыбели.
Спокойно всё, ребенок ровно дышит, –
И всё-таки ты всей душою знаешь:
Недолго жить ему.
Сны Г.Шенгели, начиная с двадцатых годов, и все последующие десятилетия остаются грозными и неотступными:
Вчера мне снилась мертвая вода,
Сияющие мутно водоемы,
Такого цвета, как глаза щенят
Молочных. А вокруг песок и щебень,
И солнце бесится...
Но продолжающаяся явь поэта, его будни заполнены до отказа, как и всегда прежде, неустанными трудами - и во исполнение творческой присяги, да просто напросто во спасение собственной души.
"Осенью 21 г. я возвратился в Харьков, зиму проработал над переводом Верхарна и весной 22 г. переселился в Москву, где живу до сих пор.
С этой поры жизнь "становится на рельсы" - пишет Шенгели скупым телеграфным стилем на страницах всё той же "Автобиографии" 39-го года.
По поводу последней харьковской осени и зимы Шенгели уточню только, что, конечно же, он не только упорно работал над Верхарном, но и оставался, как обычно, активным действующим лицом текущего литературного процесса (назову лишь его публикации в двух октябрьских номерах харьковского журнала "Новый мир" в 21 году:"Вечер, посвященный Ахматовой" и "Дракон. Альманах стихов".
Относительно же бодрой формулировки "жизнь становится на рельсы", связанной с переселением поэта в Москву, необходимы существенно более серьёзные уточнения. Да, конечно, если судить по внешней канве московских событий, литературная карьера Шенгели с переездом в столицу постоянно движется в гору: "В 22 г. в ГИЗе выходит полностью первая часть "Трактата о русском стихе". Результат - получение кафедры стиха в Брюсовском Институте и избрание действительным членом Государственной Академии Художественных Наук. Выходит большой сборник "Раковина" и драматическая поэма "Броненосец Потёмкин". Далее - серия книг Верхарна. Преподаю на Высших Литкурсах Главпрофобра, короткое время - в 1 МГУ на творческом отделении Этнофака.
В 25 г. меня избирают председателем Всероссийского Союза Поэтов и переизбирают дважды - по 27 г. включительно" - перечисляет он сам свои творческие и карьерные достижения, продолжая "Автобиографию". Но слишком многое остаётся за вывеской, за фасадом трёх страниц сухого автобиографического рапорта, предназначенного, очевидно, в первую очередь для официозного чиновничьего прочтения и для желаемых оргвыводов.
Вот совсем иные - противоположные и по сути, и по интонации изложения, слова Г.Шенгели, взятые из переписки с его многолетним корреспондентом, поэтом и очеркистом Марией Шкапской, причём, слова, взятые из двух посланий, 23-го и 32-го годов, то есть, отражающие весьма стойкую внутреннюю реакцию Шенгели на его, казалось бы, внешне вполне благополучное продвижение по московским литературным траекториям и табелям о рангах:"Тут - сутолока, подлый Госиздат, невозможность найти в Москве христианский обед (везде "шти", у-у, подлое слово!) и серьёзно - гнуснейшее настроение. Судьба
В город чужой занесла меня
Бросила в холод меня,
В чужие стихи подлила огня,
Подлила моего огня.
Дни убавляются. Верхарн не хочет убавляться, холод прибавляется, - тяжело..."(15 декабря 1923г.)
И из второго письма, почти восемь с половиной лет спустя: "Через три дня исполняется десять лет с момента переезда в Москву, - будь проклят день, когда я решился на этот переезд. Десять лет почти совершенно бесплодных - ни одной настоящей работы, жалкая пачечка стихотворений, ведро валерьяновых капель, веронал, неврастеническая тоска - по морю, по солнцу, по свободе, по хорошему мужскому разговору и пр."(19 марта 1932 г.)
Причины неизбывности тоски и печали Г.Шенгели, звучащей в этих письмах, заключались, конечно, далеко не только в бытовых неурядицах, в подковёрно-коварных пассах, в ревности и дрязгах коллег по литературному процессу, не только в риторическом, полном сарказма, вопросе:
Разве можно тут жить, в Москве,
С вечным дребезгом в голове?
Тут портянкой закрыт зенит,
Тут, как зуд, телефон звонит,
Тут, в чертогах библиотек,
Нужных книг не найдешь вовек...
Причины душевного разлада поэта были глубинными и определялись самой сутью пространств и времён, выпавших на долю художника, учёного, мыслителя и честного человека Георгия Шенгели. Уничтожение людей культуры, искусства, науки оставалось все годы, начиная с 17-го, неотъемлемой частью политики тоталитарного большевистского режима. Лучшие, наиболее даровитые и сильные, уничтожались физически - расстрелами, лагерями, измором-голодом, доведением до самоубийства или же чекистской имитацией суицида. Более слабые уничтожались морально - перекраивались серпом, перековывались молотом и так или иначе служили лживому и преступному режиму.
В литературе этот долгий перечень загубленных лучших людей страны начинался с расстрела Николая Гумилёва в конце августа 21-го года (вместе с ним расстреляны ещё 60 человек. якобы участников белогвардейского заговора) и с гибели в начале того же месяца от отчаяния-прозрения Александра Блока, поначалу обольщённого "белым венчиком из роз", а к 21-му году уже ясно разглядевшему истинный кроваво-багровый колер всех фальшивых украшений варварской власти. Десятилетие за десятилетием искусственно нагнетаемые кампании классовой борьбы и очередные приливы и припадки борьбы внутрипартийной требовали всё новых и новых жертв из среды интеллигенции, людей искусства и науки: Н.Клюев, С.Клычков, П.Орешин, О.Мандельштам, В.Нарбут, М.Цветаева, И.Бабель, Б.Пильняк, П.Флоренский, Д.Хармс, А.Введенский и многие другие литераторы с менее славными именами были безжалостно уничтожены людоедским режимом. Прошли адовы круги лагерей и тюрем писатели Н.Заболоцкий, Д.Андреев, Л.Гумилёв, В.Шаламов, А.Солженицын, Б.Чичибабин, конструкторы С.Королёв и А.Туполев, выдающиеся учёные А.Чижевский и Н.Вавилов, погибший в заключении.
Я не знаю, почему,
Только жить в квартале этом
Не желаю никому,
Кто хотел бы стать поэтом.
Здесь любой живой росток
Отвратительно расслабит
Нескончаемый поток
Тайных ссор и явных ябед.
Здесь растлит безмолвный мозг
Вечный шип змеиных кляуз,
Вечный смрад загнивших Москв,
Разлагающихся Яуз.
Здесь альпийского орла
Завлекут в гнилые гирла
Краснопресные мурла,
Москворецкие чувырла...
Потеряв способность спать,
Пропуская в сердце щелочь,
Будешь сумрак колупать
Слабым стоном: «сволочь, сволочь!»
Очень показательны эти слова, вырвавшиеся из недр души Г.Шенгели в начале 30-ых годов в московском трамвае у Яузских ворот. И конечно же, звучащие здесь определения, следует отнести далеко не только к неким "явным ябедам и участникам тайных ссор", оппонентам по текущим бытовым и литературным дискуссиям. Не имея возможности назвать, кем же по сути являются эти "сволочи, мурла и чувырла", Шенгели несомненно осознаёт, что вся эта нечисть, гниль и пагуба, в первую очередь, плодится полновластными хозяевами новой жизни.
Конечно же, то, что чувствовал Шенгели в эти годы в Москве, ощущали и многие другие писатели по всей необъятной Советской империи. Конечно, жестокие сталинские репрессии коснулись не только творческих людей столичной Москвы. Так на Украине только с 1930 по 1938 год было уничтожено более 200 украинских писателей. Так, к примеру, только из одного 62-квартирного писательского дома "Слово" в Харькове были вывезены на "чёрных воронах" и брошены в тюрьмы в 30-е годы более 70 писателей, из которых 33 человека расстреляны. М.Драй-Хмара, М.Зеров, М.Кулиш, Л.Курбас, М.Йогансен, Е.Плужник, В.Свидзинский, М.Семенко, П.Филиппович - "расстрелянное Возрождение" украинской культуры.
Георгий Шенгели прекрасно осознавал, что происходит в стране. Он был не только поэтом, мастером слова редкостного духовного наполнения, но и мужественным, волевым человеком. И он был не только незаурядным жизнелюбом, пловцом, планеристом, любителем хорошего табаку, фолиантов и географических карт, собак чёрной масти, телескопов и всех видов оружия. Он был так же и наследственным дипломированным юристом и шахматистом, как минимум, во втором поколении: "Шахматный столик стоит в кабинете,/В партию Стейница впился отец..."
Тактиком и стратегом представал он и непосредственно за клетчатой доской, и в более широком смысле - в своих реальных шагах по изощрённым раскладам непростых жизненных коллизий, сполна выпавшим ему на долю. Прекрасно понимая и предчувствуя постоянно возникающие реальные угрозы при каждой новой вариации партийной линии, он всякий раз пытается играть на опережение. Тактически - защищая свой общественный и литературный статус-кво, свою возможность заниматься любимым делом. Стратегически - стремясь выжить, не быть уничтоженным, вместе с тысячами и тысячами других "мастеров культуры",
не уронить своей чести человека и поэта, не предать своей "лирической присяги".
Интеллектуал, профессор, знаток языков, человек явно непролетарского происхождения, родной брат двух расстрелянных офицеров Добровольческой армии, принципиальный оппонент "талантливейшего поэта советской эпохи", чужак насильническому режиму по всем личностным признаком, Г.Шенгели постоянно находился под прицелом, неизменно - в зоне повышенного риска. Арест его мог произойти в любой момент - по любому навету и доносу, по самому ничтожному и произвольному подозрению. Потому неудивительны, и не осудимы, его побеги из Москвы в Симферополь и Самарканд под предлогом чтения университетских лекций в 1927/28 и 1929/30 годах. Не отменяют ценностного ядра его личности даже те 15 поэм о Сталине, что были посланы им на рассмотрение "самого" в 1937 году. Вполне возможно, что подобный гроссмейстерский, и одновременно явно цугцванговый, вынужденный ход, не только помог Шенгели остаться целым в смуте роковых 37-38 годов, но и издать, паче чаянья, последнюю прижизненную книгу стихов 39-го года "Избранное" в уже упомянутом здесь ранее светло-сером, твёрдо-коленкоровом - "государственном" - переплёте.
Подобные свидетельства лояльности лично "отцу народов", как известно, высказывались в те смертельно опасные годы и М.Булгаковым (пьеса о молодом Сосо - "Батум"), и О.Мандельштамом, и Б.Пастернаком. Мандельштаму его оды, обращенные к Сталину, не помогли - при втором аресте он был не только "изолирован", но и "не сохранён", в отличие от ареста первого, - и канул в огромную всенародную мертвецкую яму на краю одной шестой части земной суши. Пастернак тогда благополучно сохранился и дожил до дискуссий с очередным Генеральным партийным секретарём и возмущённой советской общественностью, что сразу же резко укоротило его дни. Булгакова тоже не тронули, но его ближайшему другу С.Ермолинскому, арестованному сразу же после смерти автора "Мастера и Маргариты", пришлось на допросах на Лубянке и в Лефортово подробно рассказывать о его связях с "контрреволюционным писателем Булгаковым" и несколько лет мытариться в тюрьмах и в ссылке.
Георгий Шенгели не только сумел выжить вопреки параноидальной жестокости его рокового времени, что само по себе было чудом и редкостной удачей. Он не только оставил отечественной культуре и литературе в наследство огромный массив своей творческой и интеллектуальной работы, проделанной в условиях тотального давления. Он ещё и сумел остаться, вопреки множеству враждебных внешних факторов, самим собой, личностью, сумел остаться честным, отважным, не предающим своего достоинства человеком:
Кто в семнадцатом, в тридцатом
Пел громам наперебой,
Не сдаваясь их раскатам,
Оставаясь сам собой;
Кто на крыше в сорок первом
Строчкам вел — не бомбам — счет...
Так моим ли старым нервам
С дрожью твой встречать приход?
Подползай с удавкой, с ядом,
Дай работу лезвию, –
Не боюсь! Со смертью рядом
Я шагал всю жизнь мою! -
так пишет Г.Шенгели в стихотворении "Здравствуй, год шестидесятый...", в 1954-ом году, предчувствуя свой уже совсем близкий конец и подводя итоги прожитой жизни. Есть ощущение, что две последние строки этого стихотворения и строчка эпитафии Шенгели на его надгробном камне "Я никогда не изменял моей лирической присяге" сливаются в один неразрывный финальный аккорд, помеченный подлинной жизненной, - именно, жизненной! - силой.
Харьковские годы Георгия Шенгели (часть 1)
Харьковские годы Георгия Шенгели
* * *
В Харькове замечательный поэт Георгий Шенгели, которого современные исследователи именуют классиком, достойно завершающим серебряный век русской поэзии, прожил довольно долго. Многое из его классического наследия зарождалось, задумывалось и осуществлялось именно в этом городе, которому судилось оставить заметный след в судьбах и биографиях многих других русских поэтов: Нарбута, Хлебникова, Есенина, Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Асеева, Петникова, Слуцкого, Чичибабина, Евтушенко. В 1914 году, поступив летом в Московский университет, Георгий Шенгели внезапно изменил направление поступательного движения и в середине осени перевёлся в Харьков на юридический факультет здешнего университета, основанного ещё в 1805 году. Жизнь и литературное общение в Москве не сложились тогда у Шенгели с самого начала. Как минимум, ему показалось там пугающе холодно. Харьков же - заметно теплее и более, чем в два раза, ближе Москвы к родной шенгелиевской Керчи - всё это наверняка повлияло на решение двадцатилетнего студента о смене университета.
Повлияло ли на это решение вступление России в Первую мировую войну, пришедшееся как раз на время короткого обитания Шенгели в Москве? Вряд ли, хотя его брат Евгений был офицером и подлежал мобилизации, но фронт первых месяцев войны казался почти всем очень далёким, и общее настроение населения по началу оставалось сугубо патриотическим и оптимистическим. Во всяком случае 15 октября 1914 года студент Шенгели выбыл из состава Московского университета "по прошению", как свидетельствуют архивные документы. Вполне вероятно также, что причины переезда могли быть и романтическими - в Харькове вскоре Георгий Шенгели женится на яркозеленоглазой Юлии Дыбской, дочери профессора химии Владимира Андреевича Дыбского, брата его рано умершей матери.
Профессор преподавал химические науки в том же Харьковском университете,
список профессоров для которого, кстати, в 1805 году составлял по запросу Василия Каразина никто иной, как Йоганн-Вольфганг Гёте, великий автор философской трагедии о другом химике - с магическим и инфернальным уклоном, - о докторе Фаусте. Видимо, первичный десант профессуры из Германии в Харьковский университет, да и в целом отклик немцев на призыв Екатерины осваивать просторы Российской империи, оказались столь значительными, что нынешняя Пушкинская улица в старой центральной части Харькова, где получили земельные участки сразу три десятка семей, прибывших из Германии, именовалась в течение почти всего 19-го века как раз Немецкой.
Огромный лютеранский собор Святого Вознесения, четыре ярких часовых циферблата по четырём граням его колокольни украшали начало Немецкой-Пушкинской улицы вплоть до 1958 года, до дня, когда стараниями местных партийных холуёв времён хрущёвской "кузькиной матери" и были взорваны - к той самой, ядрёной, кузькиной и мыкиткиной, распраматери. На месте монументального храма Божьего радетели "привлекательного лица города" поспешно возвели восьмиэтажную спичечную коробку жилого дома кагэбистского ведомства - убогую, без малейших признаков индивидуальности. Увы, всё произошло именно так с этим безголовым и безбожным "благоустройством", как честно спето о Немецкой-Пушкинской в одной из первых строф моей элегии о ней, в стихах уже нынешних времён:
С яичного купола и кирпичей синагоги
она начинается, с бицепсов «Южгипрошахта».
А далее скорбно молчат лютеранские боги
над щебнем Хруща богохульного. С бухты-барахты
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,
склепал на руинах обком – со всей дурью советской,
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек...
Говорю здесь о Пушкинской (которой Немецкая улица стала в 1899-ом году в связи с открытием в сквере, прямо напротив лютеранского храма, памятника Пушкину) более или менее подробно потому, что легче всего, - да и логичней, и правомерней, - видится мне харьковчанин Георгий Шенгели начала прошлого века идущим как раз по этой улице. Действительно, все пути от наёмной лачуги, от его жилья на Журавлёвских склонах, к университету и обратно неизбежно вели вдоль или, на худой конец, поперёк улицы Пушкинской. Такова уж местная харьковская диспозиция застройки. Пушкинская несомненно была и его, Шенгели, улицей - близкой ему и самим своим именем поэта, всегда остававшегося для него априорно и сутью, и символом поэзии. Близкой ему несомненно и тем обстоятельством, что прямо у её истока, в двух десятках метров от её начала возвышалось тогда, столетие назад, да и прочно стоит доныне, классическое бекетовское здание Харьковской общественной библиотеки. В её лепном просторном читальном зале Георгий Шенгели провёл большую часть времени своих здешних трудов и изысканий. Об этом не раз свидетельствует и он сам, об этом говорится и в воспоминаниях его друзей и коллег того времени. Вот, к слову, четыре шенгелиевские строфы 17-го года, харьковского периода, о рукописях Пушкина, осенившем его творческие и пешеходные, по улице Пушкинской, маршруты:
Как нежны, как надрывно милы
И этот пыльный аромат,
И порыжелые чернила,
И росчерков округлый ряд.
В сияньи Крымских побережий,
В Михайловской тиши, — один, —
Размашистые эти мрежи
Сплетал мой вечный властелин.
Как выскажу? И слов мне мало:
Здесь, где моя легла слеза,
Его рука перебегала
И медлили Его глаза.
И эти влажные напевы
Неистлеваемым зерном
Вздымают золотые севы
На поле выжженном моем.
А вот и воспоминания, оживляющие Георгия Шенгели в тех библиотечных стенах, где он день за днём вставал на пожизненный путь своей "лирической присяги", становился поэтом, мыслителем, исследователем стиха, неустанным переводчиком мировой классики. Становился, кристаллизовался, конечно же, уже родившись, в известной мере, во всех этих ипостасях и вдохнув в себя заряды и импульсы тысячелетий истории и культуры вместе с родными ему ветрами Киммерийского Босфора. Супруги, харьковские, а затем и московские, друзья Шенгели, известные переводчики прозы с английского Александра Кривцова и Евгений Ланн вспоминают о нём в рукописи 58-го года, того самого года, в конце которого они, увы, по обоюдному решению, покончили счёты с жизнью. Вспоминают, словно бы стремясь оставить будущему своё непосредственное, и важное для них самих, свидетельство: "Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точёным лицом, с глазами большими - не то бедуина, не то индийца - появился этот юноша в просторном читальном зале Харьковской общественной библиотеки. Раньше его никто здесь не видел, стало быть, он приехал недавно. И каждый раз, когда мы видели его там - а это было почти ежедневно - он уносил от стойки к своему столу кипы книг... Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стёкла пенсне и, закрывая глаза, неслышно шевелил губами...
Вот таким мы увидели Георгия Шенгели и, как все завсегдатаи читального зала, не могли не задать себе вопрос - кто этот пришелец? Узнали мы его имя скоро, так же скоро узнали о том, что он поэт, студент юридического факультета Харьковского университета, и также скоро познакомились с ним - познакомились, чтобы до конца его недавно оборвавшейся жизни считать близким, родным человеком этого большого поэта нелёгкой судьбы.
Шёл девятьсот четырнадцатый год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, и харьковские газеты "Южный край" и "Утро" не очень нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как насущная нужда в куске хлеба..."
В Харьковском университете Георгий Шенгели учился с 1914 по 1918 год, успешно завершив курс и обретя в итоге диплом юриста. И совсем не мелочь - целые восемь лет начала прошлого века, 1914-1919-ый, 1921-ый и 1922-ой годы, вошли в биографию поэта как годы жизни и активной работы в Харькове. Думаю, что не будет преувеличением утверждать, что именно это время молодости Георгия Шенгели, время творческих и интеллектуальных его исканий, пора личностной "бури и натиска" стали едва ли не решающим периодом его творческого, поэтического становления. Об этих харьковских годах скупо и лаконично пишет сам Георгий Шенгели в своей "Атобиографии" в 1939 году: "Поздней осенью я перевёлся в Харьковский университет (где мой дядя В.А.Дыбский был профессором химии) и прожил в Харькове до весны 19 г.
В эти годы вышел ряд моих сборников, в том числе "Гонг", имевший "хорошую прессу" и явный читательский успех. Жизнь текла напряжённо. Университет, диспуты в Литературно-художественном кружке, турне с Северяниным, знакомство с Брюсовым, Белым, Волошиным, Мандельштамом, Есениным, революция, преподавание в студии стиха Харьковского Художественного цеха, председательство в ГубЛИТО Наркомпроса, лекции в клубах, статьи и стихи в бесчисленных тогдашних газетах и журналах, углублённая работа над теорией стиха и проч."
Но за телеграфным стилем этих автобиографических заметок Г.Шенгели, за краткой формулировкой "жизнь текла напряжённо" остаётся, не исчезая, многое, что свидетельствует и о силе характера поэта, и о его неустанном напряжённом труде, и о его редкой верности избранному пути - той верности, о которой, собственно, говорят слова, выбитые на его могильном камне на Ваганьковском кладбище: "Я никогда не изменял моей лирической присяге". Снова приведу несколько слов из воспоминаний А.Кривцовой и Е.Ланна о Шенгели первых харьковских лет: "Он был очень горд - Георгий Шенгели. Только много лет спустя, уже в Москве (куда мы и он переехали почти одновременно в начале 1922 года), мы узнали, что бывали в 14-м и 15-м году времена, когда Георгий Шенгели лежал круглые сутки у себя на лежанке в какой-то клетушке на Журавлёвке в районе Технологического сада - лежал потому, что ему нечего было есть, а он знал, что в таком лежачем положении он сэкономит малую толику сил..."
Технологический сад, Технологическое училище императора Александра III, Харьковский Ордена Ленина и, ясное дело, имени Ленина, политехнический институт, наконец, в последние двадцать лет Национальный технический университет "ХПИ" - совсем не чужие автору этих строк наименования. С 65-го года, со студенческих лет, день за днём, год за годом, моя жизнь - этот Технологический сад, этот кампус университета, этот просторный парк, населённый размашистыми клёнами и вязами, ясенями и каштанами. Здесь в немалой мере - пространство моей человеческой, научной, педагогической, писательской биографии. Здесь уже более сорока лет читаю лекции в краснокирпичных старинных корпусах, меченных благородной патиной времени, и в новых, склёпанных бездарней и беспородней из непритязательного стекла и бетона:
И вот, раздвинув старые аллеи,
в краснокирпичный харьковский Версаль
врос хмарочёс, в бетон упрятав сталь
и тему диссертации лелея...
Читаю лекции - нет, не по филологии и поэтике, по прикладной математике и механике, по алгоритмическим языкам и программированию, - всё новым поколениям-волнам студентов. Интересно вглядываться в пульсацию времён и нравов, в выражение лиц и глаз всё новых человеческих генераций. И вот в этих основательно обжитых мной координатах, в этой, кстати, самой высокой точке харьковского рельефа, неожиданно встречаюсь в один прекрасный день с Георгием Шенгели как с близким соседом по пространству и времени. Встречаюсь, сразу же ощущая эту встречу неслучайной для себя.
Прекрасно помню то необычное чувство, когда после выхода первого посмертного издания поэм Г.Шенгели "Вихрь железный" в 1988 году прочёл я в предисловии книжки только что цитированный отрывок об обитании молодого поэта на Журавлёвском склоне, "в районе Технологического сада". И действительно почувствовал важность для меня этой необычной стыковки с образом Шенгели в особенной точке пространства. Помню ощущение присутствия духа поэта в промозглом зимнем воздухе, когда подходя в перерывах между лекциями к обрыву Журавлёвской горы, к границе своего Технологического сада, всматривался я сквозь чёрные зимние ветки в хаос полунищих дворов глиняного склона, пытаясь угадать, в какой же из здешних развалюх мог обитать Георгий Шенгели три четверти века назад.
Хриплый Харьков, торгаш и картёжник,
дёрнув двести, гордится собой.
Под холмом Журавлиным художник
спит, в обнимку с промёрзлой судьбой.
А на Лысой Горе, на Голгофе,
за Холодной тюремной Горой,
снеговей - свежемолотый кофе,
и мерцает во тьме аналой...
Но вернёмся от скудельности здешних хижин, приютивших молодого поэта, от троицы главных тутошних гор, Журавлёвской, Холодной и Лысой, к большому и праздничному залу Харьковской общественной библиотеки, ныне Государственной Научной библиотеки им. В.Г.Короленко, к зданию, выстроенному в самом центре Харькова по проекту академика А.Н.Бекетова, кстати, не очень отдалённого родственника Александра Блока. Об этом своём "втором университете" Георгий Шенгели писал: "Мои интересы лежали в области литературы, поэтики, языкознания, истории, истории культуры, словом - в среде филологической, и здесь моим "университетом" была Харьковская публичная библиотека, где я пропадал целые дни".
Лепные потолки и стены просторного читального зала не только помнят с начала минувшего века неутомимого юношу "с глазами - не то бедуина, не то индийца", но и хранят вещественные свидетельства его литературных и научных трудов. Общий читательский каталог библиотеки описывает 17 изданий книг Георгия Шенгели, из которых большая часть - его стиховедческие работы, начиная с выдержавшей семь советских изданий ликбезовской и рабкоровской брошюры "Как писать статьи, стихи и рассказы" и заканчивая основательным томом исследования "Техника стиха"(1960), вышедшим восьмитысячным тиражом уже после смерти автора. Поэтических книг Георгия Шенгели в этом читательском каталоге всего навсего три - "Гонгъ" 1916-го года, "Броненосец Потёмкин. Драматическая поэма" 1923-го года и первое посмертное издание поэзии Шенгели "Вихрь железный"(1988). Хранятся в фондах библиотеки и сочинения Байрона (стотысячный тираж), Верхарна, Гейне, Гюго (тираж - 55 тысяч) в переводах Г.Шенгели. Как будто бы и не так уж мало выходит на круг. Но и не слишком много, если вспомнить о том, что сам Шенгели называл себя автором семи десятков книг в письме 1950-го года к "глубокоуважаемому Лаврентию Павловичу" Берии. И тем более немного, если иметь в виду, что большая часть оригинального поэтического и прозаического наследия Шенгели так до сей поры толком и не напечатана.
По-хорошему, в фондах не чужой ему библиотеки должен был бы присутствовать по крайней мере 495-страничный том избранных произведений Георгия Шенгели "Иноходец", вышедший в 1997 году в Москве и впервые достойно представивший оригинальное творчество поэта. И уж при совсем правильном, Божьем, а не суетно мирском, ходе мыслей и дел, - сложись издательская судьба Шенгели поближе к "гамбургскому счёту, - здесь достойно бы смотрелось ещё полдюжины разных книг писателя, включающих его обширное неопубликованное до сих пор наследие - поэтическое, прозаическое, исследовательское, переводческое, эпистолярное.
В одной из статей в Славянском Eжеквартальнике Торонто (Toronto Slavic Quorterly) публикатор "Иноходца" и исследователь творчества Г.Шенгели Вадим Перельмутер ещё в 2002 году привёл список неопубликованных произведений писателя: "Четыре поэмы, беллетризованные мемуары «Чёрный погон», неоконченный роман «Жизнь Адрика Маллисино», переводы из Бодлера, четыре десятка рубайи Хайяма, семисотстраничный трактат «Русское стихосложение», несколько завершённых теоретических работ, в частности, «Свободный стих», дневники и записные книжки, переписка, за малым исключением...
До сих пор не разысканы: «Стихи о Гумилёве», поэмы «В дежурке» и «Каменный гусь» (упомянуты в «Автобиблиографии» Г.Шенгели), немалое число стихов, распылённых в периодике рубежа десятых-двадцатых годов". Пожалуй, и на дюжину новых книг всего этого достанет.
Однако - всё же! Значительно больше общедоступного каталога способен порадовать заинтересованного читателя Шенгели отдел редких рукописей харьковской библиотеки, где он "пропадал целые дни". Здесь сохранилось десять изданий шенгелиевских книг, каждая из которых может многое рассказать об авторе и его времени не только собственно стихами и текстами под обложкой, но и самой своей фактурой, бумагой и шрифтами, сносками и примечаниями - большими и малыми, вещественными и метафизическими приметами дней, промелькнувших уже столетие назад.
В непритязательный библиотечный картон серого колера переплетены семь ранних книжек Георгия Шенгели: "Лебеди закатные", "Гонг", "Апрель над обсерваторией", "Еврейские поэмы", "Два памятника", "Норд", "Четыре"(сборник стихотворений четырёх авторов: Игоря Северянина, Георгия Шенгели, а также харьковских поэтов Александра Прокопенко и Диониса Помренинга). Желтеет первозданной шершавой обложкой из плотной бумаги квадратик одесского сборника "Изразец". Серо-голубой же тканный переплёт "Планера"(1935) и светло-серый коленкор "Избранных стихов"(1939) наглядно являют заботу компартии и совправительства о литературном процессе в "самой читающей из стран мира".
Пожалуй, теплее всего в этом собрании излучают слабеющие флюиды прошлого две маленьких книжки - "Лебеди закатныя", Поэзы III, книгоиздательство "L"oiseau bleu", Петроградъ, 1915 и "Гонгъ", то же издательство, тот же Петроградъ, 1916. Под ярко-розовой, сохранившейся от оригинала, бумажной обложкой, "Лебедей", на титуле тоненького сборника - дарственная надпись Георгия Шенгели: "В Харьковскую общественную библиотеку от автора". Авторская надпись столетней давности - старыми чернилами, остроклювым стальным пером. Четыре слова, оставленные изящным тонким почерком - "волосяная музыка воды", отголосок едва лишь пробившегося наружу поэтического ключа 1915 года.
Второй автограф Шенгели, сохранившийся на титуле "Гонга", вышедшего через год, в 1916-ом, почти повторяет первый: "В Харьк. Общ. библ. от автора". Повторяет, как видим, с некоторыми небольшими, но, вероятно, и неслучайными сокращениями. Похоже на то, что юный 22-летний Шенгели уже устал от множества автографов, проставленных им на первом развороте "Гонга". И правда, эта книжка, напечатанная, да и написанная, скорей всего, преимущественно в Харькове, принесла её автору большой и памятный успех. Георгий Шенгели довольно подробно вспоминает о событиях того года: "Весною 16-го года вышел мой «Гонг» — довольно слабая, хотя и звонкая книга, имевшая неожиданно значительный успех. Подвал Айхенвальда в «Речи» сразу сделал меня «знаменитым». Выступая со стихами из «Гонга» в Петербурге на одном из вечеров Северянина в громадном, до отказу набитом зале Городской Думы, я вызвал овацию, бисировал четырнадцать раз; в антракте несколько сот экземпляров «Гонга» были раскуплены (в фойе стоял столик с книгами Северянина и моими), и в «артистическую» ломились юноши и девушки с белыми томиками в руках, прося автографов. Мне было только двадцать два года... Я послал один экземпляр «Гонга» Брюсову с почтительной, но сдержанной надписью.
Осенью шестнадцатого года я был в Москве. Мы с Северяниным совершали наше большое и последнее турне. Я решил познакомиться с Брюсовым. Добрался до его квартиры на 1-й Мещанской (на этом доме № 32 сейчас находится мемориальная доска). Окна первого этажа были освещены, и в одном я увидел фигуру поэта, мгновенно его узнав. Через минуту я уже входил в его кабинет — большую низкую комнату, уставленную книжными полками, шедшими не только вдоль стен, но и перпендикулярно к ним..."
Началась эта первая встреча Георгия Шенгели с Брюсовым разговором о "Гонге":
"Вы талантливы,— сказал Брюсов. Я окунулся в розовое масло. — Но Ваш «Гонг» ещё не книга. Там слишком много чужих голосов. Стихи — интересные, звучные, но всё это - бенгальский огонь, пиротехника. Я окунулся в оцет. — Вы спешите. Переживание Вы заменяете воображением..."
Да и завершился тот московский визит Шенгели к верховному жрецу символизма, "чьи стихи - как бронзольвы", неожиданным выпадом Брюсова в адрес "Гонга" и его автора:
"Провожая меня в прихожую и помогая, как я ни увёртывался, надеть мою студенческую шинель, Брюсов нанёс мне ещё удар:
— А почему,— спросил он,— на Вашем «Гонге» значится «Петроград», тогда как печаталась книга в Харькове?
Брюсов был совершенно прав, обличая моё маленькое и невинное, но всё-таки жульничество. Дело в том, что книги, изданные в провинции, встречались публикою и критикою недоверчиво и раскупались плохо, — и меценат, снабдивший меня деньгами на издание «Гонга», присоветовал напечатать обязательное указание адреса типографии мельчайшим шрифтом в конце книги, а на титуле и обложке тиснуть «Петроград» и название несуществующего издательства «L'oiseau bleu» («Синяя птица»). Так делали многие, и так, конечно, делать не следовало. Но Брюсов всё-таки был жесток. Я разозлился и ответил дерзостью:
— Потому же, почему Ваши «Семь цветов радуги» означены: «Книгоиздательство Некрасова, Москва», а печатались в Ярославле.
Это было точно, но здесь заключался софизм: издательство действительно существовало и действительно в Москве.
Брюсов улыбнулся, как боец, умеющий оценить удачный удар противника, и сказал:
— А ведь верно!
Мы простились, и я унёс в ненастную московскую ночь смешанное чувство встревоженности, умиления и досады, — и твёрдо решил издать мою злую брошюру о «Двух "Памятниках"».
Догадаться об условности книгоиздательства "Синяя птиц" и обозначения "Петроград" на обложках харьковских книг Шенгели 1915-1918 годов, можно и помимо этого признания автора. Стоит только присмотреться к "Лебедям закатным", "Гонгу", "Апрелю над обсерваторией", "Двум "Памятникам" из сегодняшнего собрания Харьковской библиотеки им.В.Г.Короленко. На двух сохранившихся оборотных сторонах обложек этих раритетов и вправду можно прочесть "тиснутые" буквами миллиметровой, не более, высоты названия издательств в Харькове и Феодосии. Обещанное выше Георгием Шенгели издание "Двух "Памятников", сравнительного исследования стихотворений Пушкина и Брюсова с этим названием, появляется в Харькове в 1918 году, снова в "Синей птице". Здесь же, в 1919-ом году, уже в реальном харьковском издательстве "Гофнунг", выходит его сборник "Еврейские поэмы", переизданный позже и в Одессе. Собственно и поэтический сборник "Раковина", выпущенный первым изданием в Керчи, активный публикатор и исследователь творчества Г.Шенгели К.Ю.Постоутенко определяет как харьковское издание: "Раковина"(Пг.,[Харьков], 1918).
Многое из наработанного Г.Шенгели в каждодневных библиотечных трудах и вдохновениях харьковских лет было напечатано в последующие два года его одесского периода. Так, о впервые вышедшем из печати в Одессе в 1919 году "Трактате о русском стихе", существенно тогда сокращённом, Шенгели писал ещё 1 января 1918 года М.Волошину, что этот его "Трактат" "разрастается в 500-страничный том".
Молодые харьковские годы Георгия Шенгели, наполненные его редкостной творческой энергией, отмечены не только написанием и изданием семи-восьми книг (напечатанный 1918 году в Керчи сборник стихов "Раковина",в любом случае логично отнести к харьковскому периоду), множеством публикаций стихотворений и статей в периодике, но и его активной организаторской и издательской деятельностью.
Научный сотрудник Харьковского Литературного музея О.Резниченко приводит показательные данные о работе Г.Шенгели в эти годы: "К 1916 году вокруг Шенгели образуется постоянный круг людей, пишущих стихи и желающих заниматься их изучением. Среди них А.Б.Гатов, Н.Лезин, П.Б.Краснов, С.Губер, Ал.Прокопенко, Д.Помренинг, Ю.Ратлер, Ю.Соколовская, Е.Новская, З.Сохацкий. В 1916 году они выпускают альманах «Сириус». Как официальное творческое объединение Литературно-Художественный Кружок просуществовал с 1917 по 1919 год. В 1917 году Кружком издается ежемесячник «Ипокрена», в 1918 выходит «Камена», в 1919 — журнал «Творчество»...
В альманахи и журналы, связанные с Художественным Цехом: «Парус» (1919), «Художественная мысль»(1922), «Художественная жизнь» (1922-1923), — помещают свои произведения М.Волошин, О.Мандельштам, В.Нарбут, А.Ахматова. Из старшего поколения писателей в журналах печатались Ф.Сологуб, А.Белый, А.Блок, А.Ремизов. Публиковались малоизвестные, забытые, не включенные в собрания сочинений произведения писателей прежних веков. В отделе критики этих журналов работали ведущие филологи и искусствоведы, пользовавшиеся авторитетом далеко за пределами Украины. Рецензии на выходившие поэтические сборники, статьи по общим вопросам развития литературы печатали в них Ф.И.Шмит, И.И.Гливенко, А.И.Белецкий, М.И.Самарин, Г.Таманин, В.А.Блюменталь-Тамарин, Е.И.Булгаков, С.М.Кульбакин, В.С.Рожицин, А.С.Сандомирский и другие".
В Харьковском литературном музее описано около четырёх десятков единиц хранения документов, связанных с Георгием Шенгели. Львиную долю этих материалов составляют копии 28 фотографий из архива Г.Шенгели, полученные музеем от ЦГАЛИ. Но здесь также - и два листа рукописей поэта, и изданные в Харькове журналы "Ипокрена" 17-го года и "Творчество" 19-го, где напечатаны стихотворения Шенгели. Большая часть фотографий является по-видимому неопубликованной. Особенно интересны: снимок поэта приблизительно в четырёхлетнем возрасте, его портрет в полный рост в форме гимназиста, то есть свидетельство керченских времен, с сохранившейся в нижней части паспорту витиеватой строкой названия фотоателье "Бр.Резниковы Керчь". Очень выразительны также два фото харьковского периода: 1914-го года - вместе с его первой женой Юлией Шенгели (это её изображение не идентифицировано, насколько мне известно, но и возраст, и опубликованные описания её внешности, да и помеченные полудетской cерьёзностью и сосредоточенностью выражения обоих лиц, вполне соответствуют предположению, что перед нами снимок молодой семейной пары).
И к сердцу одному привычен,
В него я восемь лет входил
И, успокоен, безразличен,
Оставил в нем и пыль, и пыл.
Иное сердце предо мной,
Но горькой радости к истомам
Одной лишь мне идти тропой:
Войдя в него, я вскрою вену,
Ему отдам по капле кровь –
И первую мою измену,
Мою последнюю любовь.
Так напишет Г.Шенгели уже в Москве в июле 1922 года о своём, тогда восьмилетнем, браке с Юлией, стремительно идущем в тот момент под уклон. Напишет, оставаясь честным перед собой и перед словом, с документальной точностью - о "первой измене и последней любви", о своей второй жене Нине Манухиной. Но это произойдёт ещё не скоро, спустя революции и войны. А на харьковском снимке 1914 годе - два очень молодых лица (ему - 20 лет, ей - 18) полны некой особенной задумчивости.
Среди названных литмузейных фотографий бросается в глаза и, пожалуй, единственная из всего набора шенгелиевских снимков, жанровая сценка 1915 года, где молодой Георгий, в студенческой шинели и в фуражке с кокардой, сидя на скамейке на пленере, держит на коленях некую конструкцию из двух бутылок вина, ешё обёрнутых в магазинную бумагу, и бодро направленного вверх штопора. Под козырьком университетской фуражки, под кокардой из двух скрещённых листьев - неизменное пенсне Шенгели со шнурком справа, а на губах - полуулыбка, единственная, которую мне удалось обнаружить на его лице, рассматривая снимки всех его лет.
Где ни в грусти, ни в радости нас не разъять....
* * *
"Здесь, под небом чужим, я - как гость нежеланный..." -
журавлиную песню отец мой любил.
И всё длится полёт серых птиц над туманной,
над осенней журбой, над предзимьем могил.
Спят, давно уже спят под кладбищенской глиной
и архангел-отец, и послушница-мать.
И всё тянется клин над той былью единой,
где ни в грусти, ни в радости нас не разъять.
Что мне делать, когда "сердцу хочется плакать",
а сухи, - бертолетовой солью, - глаза?
Вновь лимонной листвой бредит чёрная слякоть,
вновь парят дерева, как святых образа.
Говори же, отец, из-под гиблого камня
всё, что ты мне при жизни сказать не успел.
Доживу ль, удержусь ли до мая, до травня
средь зимовий, средь жарких стожаберных тел?
Был чужим среди них, чужаком и останусь
здесь, под хмурым и давящим небом, отец.
Помню звук первозванный - стеклярус и парус,
время осени - жертвенность жёлтых овец.
И с журливым напевом летишь ты не даром,
ибо он - про тебя. А теперь - про меня.
Ибо осень опять по сократовым чарам
разливает цикуту студёного дня.
Все были здесь и все слышны доныне....
Стихи в Харькове
Ушёл сентябрь, холодный и лучистый
в разрывах между тяжких облаков,
унёс кудрявый чуб зеленолистый
и пачку всласть исчёрканных листков.
Отчалил вдаль тридцатый день осенний,
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,
читал стихи и бражничал Есенин,
где Хлебников пророчества бубнил.
Почил сентябрь, но скоро Маяковский
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,
октябрьский громогласный гость московский,
огромный пленник собственных острот.
С ним рядом мрамор мухи Мандельштама,
живьё Каррары. - Сей, осой звеня,
бросает обвиненье в фальши, - прямо! -
румынскому оркестру злобы дня.
И марафетом от Мариенгофа
помечен курс истории стиха
здесь, среди стен и лестниц облсовпрофа,
где жизнь - скорей реальна, чем глуха.
Прошёл сентябрь. И стало больше солнца.
Как странно обращение времён!
Едва умывшись, сядешь у оконца
и снова врубишь старый патефон.
Осенняя сова рязанца кычет,
и Велимир глядит в очки ЧК.
И чёт, и нечет, и начёт, и вычет,
и некая счастливая тоска
о том, что все здесь были и остались
здесь - в подлинных узлах координат,
что давность нот и молодости малость
усилены любовью во стократ.
И вот, кого опять зову - Шенгели!
Всегда на мушке века, сам стрелок,
всегда без дураков, на самом деле -
Боспора свежий первозданный вздрог.
Он, восемь лет по Пушкинской шагая,
Эредиа, фелюгу и себя
сберёг средь флагов октября и мая,
пером, словно уключиной, скрипя.
Миллениум добит. Добыт и скраплен
из-под пластов иной метан для ТЭЦ.
Но греет память - рядом Чичибабин,
улыбкой брат, сединами отец...
Все были здесь и все слышны доныне.
Озоном слов их - лечится душа.
Ползвука от святыни до гордыни.
И, взвешен во всемирной паутине,
так и живёшь - и каясь, и греша...
Оттого и смертельный напор...
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
Отечество
Так отважный разгон к белопенно-сапфирному Понту
остановлен предательским жалом степного ножа.
Так врезается Азия в жёлтый провал горизонта,
и стирается абрис земли, и сникает межа.
Проревели пороги - и княжеский корень подломлен,
катит пО полю ветер безродно-сухие кусты.
Но волнистый понтийский простор бесконечно приволен,
и лазурною аркой очерчен завет красоты.
Там улыбчив живительный мрамор под ветками лавра,
и колонны, как белые сосны, встают до небес.
Там душа моя солнцем Эллады сегодня и завтра,
и навеки согрета. И Скифии морок исчез.
Оттого и смертельный напор, и порыв неустанный,
и бесстрашье, и жажда, что к цели несут сквозь века.
Безголовая Нике овеяна славою бранной,
и несломлены крылья, и верой правица крепка.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
В далёком дне средь осени проснёмся...
* * *
Пахнет гречкой, подгоревшей в коммуналке у соседей.
За подъездной драной дверью – двор, усыпанный листвой.
«Аз» - скажу пароль, а осень мне ответит «буки, веди»,
грудь и плечи расправляя, как румяный постовой.
Словарю пословиц Даля лисьей шапкою кивая,
баснописца поминая с тонконогой стрекозой,
листопад унюхал рифму. А когда она живая,
сам я чую возбужденье гончей или же борзой.
В чаще веток – лепетанье алфавита, плески гаммы
и синичий, - в клюв из клюва, - дробной ноты перелив.
В ярком умиранье формы есть языческая драма,
но Завет благовещает, что Носитель сути жив…
И на полусбое ритма, на простудном переходе,
на изломе самописца – рисовальщика дуги –
я сутулую фигуру в промелькнувшем пешеходе
поспешу узнать… И ближним без труда прощу долги.
Кто любим, тот не уходит, даже если отлетает. –
Листопадом окликает и наклоном головы…
Ясной осенью, должно быть, мальчик мой меня узнает
из-под челки белобрысой… Дымной осенью, увы…
* * *
Ракло и тремпель - харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь заполночь царапаясь в жильё...
Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся -
к листве лимонной чёрного двора.
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.
И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город - из травы и стали,
босяцкая и ангельская стать...
Господь меня простит...
Игорь Рымарук
(1958-2008)
Грешник
Евгению Пашковскому
Господь меня простит: неправедно я жил
и только тех любил, кого любить по праву
не мог. И от ножей в стихах не уходил.
От своего креста спасенья, как Варавва,
у люда не просил. И вот Господь меня
простит. За чёрный хмель. За все лебяжьи плечи.
За сумасбродных птиц. За острый камень дня.
За яблоко-налив, что головой Предтечи,
на блюдо упадёт. И, говорю, Господь
меня простит... А нет, не сможет - и не надо:
сметёт, смахнёт тряпьём, что называлась - плоть,
весь сор плодов и слов подоблачного сада.
Вариант
Что - снова стыд очей упрятать в руки?
Мороз трещит иль рёбра под пинком?
Какой же снова муки взыщут звуки,
дабы не задохнуться под замком?
Где долгожданный загулял апостол?
Куда его худой башмак забрёл?
...Он не нашёл обетованный хостел
и бородою подметает стол.
* * *
Зачем твой шёпот: не забуду...
Зачем твой стих - разменный грош?
Суда неправедного, блуда
в себе вовек не изживёшь.
Ни шалой, ни оседлой кровью,
ни дрожью в тягостных руках
не отведёшь от изголовья
Пречистой Девы в синяках.
Не спас в себе знамений высших -
тебя и гибель не спасёт:
не сыщешь и средь гиблых выжиг
ножа случайного джек-пот.
Рождество
множится заря
в твёрдых снегах в зеркальных стенах
сбились с дороги
трое царей в маскхалатах
развивает пречистая клубок
узелки тихо вяжет
усталый плотник дремлет
при щербатой секире
око фонарика
вырывает из тьмы великанские ясли
обогрелся младенец
под боком у минотавра
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
А море пело "лав" - нежней, чем Леннон...
* * *
Шпионскую яичницу-болтунью
яичница-глазунья, "по-чекистски",
ревнует. И вовсю цветут петуньи
весь август, и клубятся тамариски.
И "Естудей", по Битлам ностальгия,
желтеет вновь с утра на сковородке.
И отпускные помыслы благие
щекочут ум, и коротки, и кротки.
Серебряных маслин-дикарок грозди
жуют закатно-рыжие коровы,
и диско-бар всю ночь вбивает гвозди
в пространства Казантипа и Азова.
Полсотни фотокадров - и неделя
растает пеной на песке-ракушке.
И эти дни, без рейтинга, без цели,
свистульки, сувенирные игрушки,
я вряд ли приплюсую к веским суммам.
Но мы с тобою, мой походный "кэнон",
припомним зимним вечером угрюмым,
как август плыл, гремя пиратским трюмом,
а море пело "лав" - нежней, чем Леннон...
Есть тайная уверенность во мне...
Леопольд Стафф
(1878 - 1957)
Надежда
Я вызнать захотел из Зодиака
Свою судьбу, земной юдоли даль,
Но там, средь звёзд, не отыскал я знака
О том, что стихнет дней моих печаль.
Опять стучат и дождь, и ветер в двери,
Вослед вчерашней буре и дождю.
Но я надеждой жив и снова верю,
Придёт всё то, чего так долго жду.
И дверь свою оставил я открытой,
Есть тайная уверенность во мне,
Что радость с винной гроздью грановитой
Войдёт в мой дом в вечерней тишине.
Ян Каспрович
(1860 - 1926)
* * *
И влюбилась душа моя снова
В тихий трепет и шелест дерев,
Когда в кронах подлеска ночного
Зазвучал друга ветра напев.
И влюбилась душа моя снова
В рокот волн, в их раздумье-печаль,
Когда гонит их волей суровой
Друг мой буря в кромешную даль.
И влюбилась душа моя в токи
Ранних зорь, что алеют над ней.
Друг мой солнце встаёт на востоке
Пламенеющим сторожем дней.
И, влюбившись, душа моя водит
С тьмой ночной хороводы, когда
Друг мой смерть на охоту выходит,
И в испуге немеет звезда.
Адам Аснык
(1838 - 1897)
* * *
Люблю тебя! О, это слово
Неповторимой чистоты!
Ведь день весны вернётся снова,
Чтоб в сердце разбудить цветы?
Ведь должен я, поверив чуду,
Воскреснуть Лазарем опять?
И свет, летящий отовсюду, -
Твой образ солнечный, - принять?
Люблю тебя! Возможно ль это?
А вдруг обман и ложный знак?
О, нет! Я вижу луч рассвета
И ночи побеждённый мрак.
И всё во мне - живей, свежее.
И на душе растаял лёд.
Я верю вновь в любовь - и с нею
К нам обновление придёт.
Люблю тебя! Вслед сновиденью
Явь расцвела в садах надежд.
И мир, как в первый день творенья,
весь бел от свадебных одежд.
И вновь, душою окрыляясь,
Лечу над скверною земной.
И Елисейских гроздей завязь,
весь первородный рай - со мной.
Юлиан Тувим
(1894 - 1953)
Счастье
Мне мир не интересен.
Красоты городов
Мне не расскажут больше,
Чем шорох сорняков.
И мне не интересны
Магистры ста наук.
Мне дорог первый встречный,
И он мне - лучший друг.
И не нужны мне книги -
Спеши меня стыдить -
Я знаю и без книжек,
Что означает жить.
Под деревом усядусь,
спокоен, одинок.
О, жизнь! О, моё счастье!
Как славить Тебя, Бог?
Перевёл с польского
Сергей Шелковый
Нет, времени тебе не обмануть...
* * *
Нет, времени тебе не обмануть. -
У моря юность резвая искрится,
а ты жуёшь премудрой жвачки суть,
седая и нахмуренная птица.
Теряют цель прицельные глаза,
стрелою прежде бившие в десятку.
И дразнит то, к чему уже нельзя
притронуться губами. Лишь вприглядку
ласкаешь ты, чужую и свою,
размытую несчетными дождями,
ту юность, на откосе, на краю,
что надсмеялась будто бы над нами, -
как, впрочем, и любая из богинь
с надменной ослепительной улыбкой.
И то "вернись" бормочешь ты, то "сгинь"...
Уходит лето. И уже "аминь,
да будет так" - шуршит папирус зыбкий.
За плечами хрипел Батый...
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
Из "Чёрной Эллады"
1.
Руина. И фатум чумы и холеры.
Навек. Навсегда. Поколеньям вдогон.
Ни смысла, ни меры. Ни проблеска веры
На клятой земле, где ты трижды казнён.
Убогие, жалко согбенные хаты,
Барочный дрожит на ветру завиток,
Княгиня в Путивле - в стенаньях утраты,
И небу угрозы бросает пророк.
Ветрам и векам на потребу - руина.
Измена к измене, беда на беде.
Нет-нет, не Христос, не Христос, Украина, -
Преступник Варавва хрипит на кресте!
1929
2.
Памяти Петлюры
Шли в распутицу, мимо погоста.
За плечами хрипел Батый.
Прокажённой дороги короста
Отражала ордынцев следы.
И простор - без надежды, без воли,
Молчаливый, враждебный - минал,
И мороз на теле Подолья
Под копытом крепил письмена.
1926
Cонет гнева и позора
Калека прОклятый - таков он и доныне!
Слепой кобзарь - весь вечная печаль.
Самсоном тёмным - сокрушил святыни.
Разбил, дурак, синайскую скрижаль.
И наплодил вождей - плебеев, шваль
Блошиных душ в слюне и паутине, -
Теперь, когда рокочет Муссолини,
И жжёт очами бронзовый Кемаль,
Теперь, когда вокруг отважных звенья,
И в каждом из народов зреет гений,
История готовит новый том,
Тюфяк хохол, что, хоть дурной, а хитрый,
Лишь по ветру склоняется макитрой,
Желудком судит и храпит гуртом.
В лагере
интернированных, 1921.
Из вагона
Разлукою, до небосклона,
Горчит вино чужой весны -
Мелькайте, за окном вагона,
Чужбины радужные сны!
Вам не унять сияньем влаги
Неодолимой жажды страсть.
Ни ненависти, ни отваги
Уже у сердца не украсть.
Оно голодным воет волком,
Ему пустыня - вся земля...
И даль напрасно синим соком
Пьянит луга, поит поля.
1938
Варяжская весна
1.
Обычный день Так что ж во мне отрада
Всё явней оживает, всё ясней?
И вспоминаю - Леда... Леди... Лада... -
И имя всё ищу моей весне.
Стать гордая и солнечные косы.
А под варяжским золотом косы
Девичий взор горит светло и просто
Сияньем снежным северной красы.
И не идёт она, парит крылато.
И стройность ног являет лёгкий бег.
Сквозь синий воздух - свежесть аромата,
И вновь цветёт подснежниками снег.
2.
Она - скандинавка. В походке - дыханье фиорда.
Она - от варягов, будивших дремотную Русь.
И шаг её - сталь. И движенье - надёжно и гордо.
И в синих глазах узнаю я по крови сестру.
Как лыжи поют! Как румянятся розами лица!
Как остро и стройно звенит в её поступи Григ!
В широких очах ключевая водица искрится,
В устах лепестковых - малиновой радости крик.
Светись же, сияй, заревая варяжская Лада!
Эллада Днепровская ждёт уже тысячу лет.
Да будет тобой вдохновенна извечная правда
На древней одетой снегами бескрайней земле.
1927
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Он слышит ясно: "Сын любимый..."
Купина
Перпетуум мобиле, быть может,
а может, просто - пахарь-воин,
чей труд, за годом год, итожит
свой род, что лучшего достоин.
По крайней мере, за минувших
четыре века смуты-жизни
он сердце рвёт о сучья сущих
железных зарослей в отчизне.
Совсем не доброхот-добродий,
скорей, с зовущим горном воин,
он волен в поиске мелодий,
но пред лицом Отца - не волен!
Пылай калина, вестью рьяной!
Из купины неопалимой,
из пламени ветви багряной
он слышит ясно: "Сын любимый..."
Возвращение
Я, быть может, ваш слух утомил -
потерпите же, не обессудьте!
Кем-то был я, надеюсь, что был,
проникая в неявные сути.
Там - не только лишь звук или цвет,
веер спектра - о, снова приснись мне! -
там сцепленье подспудных примет
на предмет продолжения жизни.
Там, где смято теченье времён,
где слоятся пространства мерцанья,
гонит лекарь и супершпион
многомерный туман прорицанья.
И от тамошних, в ковке, коней,
надышавшись их едкою кровью,
возвращаюсь я к Авгию дней
календарных, к инету корней,
к их терпенью и немногословью.
Не Яблочный, пока ещё Медовый...
* * *
Не Яблочный, пока ещё Медовый,
день Маковея, Спаса на воде
окликну я с утра строкою новой,
и дрозд рассыплет трели в резеде.
Опять пою и снова уповаю.
Услышь меня - я твой по крови брат,
несущий вдоль по лету, вдоль по раю
плоды и грозди, августовский сад!
Плывут сквозь полдень отсветы дарений -
от полновесных бергамотов-груш,
от Кастанеды маковых видений
и от цветковых разноцветных душ.
"Есть всяких, золотой, и всяких надо!" -
твердила бодро сорок лет назад
цыганка Рада, жинка конокрадада,
сияя ядом чернослива-взгляда...
И от меня не отводила взгляд.
* * *
Когда всё звонче яблок мясо,
всё ближе летних дней исход,
в лазури яблочного Спаса
заметен бликов хоровод.
Подобно звукам Амадея
они в гармонии слиты.
Великодушна их идея
одушевленья пустоты.
Священнодействие возможно
смиренномудрию вослед.
Легко, легко, лишь чуть тревожно
дробится августовский свет –
как будто крохотная йота,
прозрачнокрылая пчела,
искала в воздухе кого-то,
не дозвалась и не нашла,
как будто мытари дидлайна
придут не завтра, а потом,
и Амадей, дружок ротвайна,
согрел бокал с живым вином.
* * *
Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке,
в оболочке твоей продолжает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста не измяты
наяву и во снах - в молочае, в чабре и во ржи!
Вот и в Яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою -
так прощением пахнут деревья, трава и родник.
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов и вернее имён - тишина...
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
что дорога видна - серебро, голубень, белизна...
Живёт в тебе и правит речь твою...
Индиго
Индиго Инда и индиго Ганга
и Раджастана жгучая лазурь
от полустанка и до полустанка
вели тебя, вдоль постоянной Планка,
сквозь хмарь родную, родовую хмурь.
И остовы-скелеты химзаводов,
и рельсов ржу, и креозоты шпал,
асбест и стеклоткань трубопроводов
и безымянный пепел ста народов
ты на ходу вдыхал и выдыхал.
И вдоль предзимней просини Ингула
вели тебя Арсений и Евген,
Тарковский, Маланюк. Сводило скулы
студёной пустотой. С лимана дуло,
на путь к себе, как суть, благословен.
А всё-таки к индиго, к сленгу гонга
тянулся твой, седьмого полдня, код,
геном твой и ушная перепонка,
под молоточком наковальня-плёнка,
и киноварь, крови круговорот.
Ты - тот, кто есть. Индиго индикатор
живёт в тебе и правит речь твою.
Когда пойдёт ко дну чурбан диктатор,
что б там вослед ни пела alma mater,
блеснёт дугою пенной твой форватер
у самой синей бухты на краю.
Но проиграть и выиграть - в одном...
Два регистра
* * *
Cвежее дышат ночи, холодней
теперь, когда на середине август.
А дерево, в плодах-очах, как Аргус,
не хочет стужи и молчит о ней.
О, яблони глазастые мои,
мальчишества ничейные наливы!
Похоже, я старею, и не диво,
что проиграть готов свои бои...
Но проиграть и выиграть - в одном,
по-честному намешанном, флаконе! -
Где дыбятся шампаня, сидра кони,
где полон август Гауссом-вином,
тем самым - в интегралах на разлив,
в двойных, тройных и прочих многократных...
Гляди, опять лиловы кроны слив
и детская рубашка - в свежих пятнах!
* * *
Свиные рыла правят миром
и бычьи наглые рога.
Текут их губы жидким жиром
вдоль краденого пирога.
Вы только гляньте в эти хари
правителей новейших лет!
В фантасмагории, в угаре -
и то подобных монстров нет.
Но друг мой, рыжий и весёлый,
из тех, кто разом тут и там,
воспитанник партийной школы
язвит меня ухмылкой голой,
что я не прав - на двести грамм...
Да пусть на литр я ошибаюсь!
Я продолжаю речь мою -
и расчленённой правдой маюсь,
и злые слёзы горько лью..
И всё дыханье отдаёт молитве.
Евген Маланюк
(1897 - 1968)
* * *
Ave Caesar, август певучий,
августейший властитель лет!
На плодов твоих терпких тучи,
На всю землю сквозь полдень жгучий
ослепительный льётся свет.
Ave Caesar, твой день сияет -
рощ колонны, форум лугов.
Рим твой синь и лазурь вдыхает
и сквозь дымку времён оживляет
пантеон плодовитых богов.
Ave Caesar, застывший на троне
Миф и стёртый на мраморе след!
Снова солнце играет в короне,
А виски стынут сталью на склоне
Опалённых историей лет.
Зима
Ты, как сестра, ко мне приходишь вновь
Вслед за наркозом позднего тумана.
Эфиром смыта ссохшаяся кровь,
И снег твой, марлей, охлаждает рану.
И целый свет твой бел, как лазарет
Для воина, что еле выжил в битве,
Что чует всю печаль посмертных лет
И всё дыханье отдаёт молитве.
Эхо
Еле доносится гул -
Крики голодных хазар...
Где-то синеет Ингул,
Стылый осенний пожар.
Где-то за стуком колёс -
Шпола-Цветково-Тальня.
Там, где за дымкой, без слёз,
Вотчина помнит меня.
Стынет синюшно вода,
Пустошь, где сад был и дом.
Сердце моё навсегда
Там, на ветру молодом.
Что ж, не судилось. Уймись,
Горькая в горле слеза.
Прянут в пустынную высь
Клики голодных хазар.
1942
Памяти Иоланы Кардаш
Акации цветут - хмельной мадьярский вечер -
О амбра страсти той, что, словно месть, сладка!
Акации цветут. И пьяный душный ветер -
В дыханье губ твоих и в прядке у виска.
Акации шумят - куда от них подеться?
Вся улица в цвету. Вся улица, как сад.
И в буре лепестков уже не в силах сердце
Пить смерти и страстей пекучий аромат.
1937
Посвящение
Не забыть мне, как властно, как ладно
Ты вела лабиринтом любви,
Ариадна моя, Ариадна!
Снова в лето твоё позови.
И когда бы не смуглые руки,
Не очей твоих вечных сапфир,
Не бровей твоих тонкие луки,
Стал ещё бы безжалостней мир.
И без нити твоей золотистой
Я бы сгинул во тьме и ослеп.
Лебединая плавность, монисто.
И душистая память, как хлеб
1944
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Где крыши пламенеют черепицей...
Богдан-Игорь Антоныч
(1907 - 1936)
Крыши
Всё то село, что в ольхах и в лещине,
где крыши пламенеют черепицей,
ты вновь отыщешь в поднебесной сини
и в молодости, в тайне нежнолицей.
Калиновую помнишь ли ты кручу,
где пастухи в кринице солнце поят?
Напишешь повесть: вечера пахучи,
и думы ольх, и крыш багровый пояс.
Подковы
На ста возах весна приедет,
смычком танцуя так и сяк.
Сквозь сито дождь весенний цедит,
и зажигает свечки дьяк.
А мы в дорогу не готовы.
Да, милая, гнедые ждут.
Но пусть нам месяц на подковы
два кузнеца перекуют.
Черёмуха
Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.
Страна души, весенних взгорий слово, -
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом!
Отрывок
Боюсь уснуть без света лампы,
и может стать ещё страшнее.
Опять мне ночь осколком ямба
под сердце входит, пламенея.
Нет, не заснуть. Петух горланит.
И бьют часы, и месяц виснет.
И мозг мне мой же голос ранит
в моей трагической Отчизне.
Алхимик
В убогой келье тесно. Запах серы.
Усохший и, как сера, жёлтый маг
в реторту жадно пялится. И наг,
хохочет бес - багровая химера.
И призраков курящихся полна
сырая келья с грубыми стенами,
и тухлыми дрожащими губами
бормочет маг: "Изыди, сатана!"
Но вскрикнул вдруг старик - нет, он не пьяный,
но видит - блещет золотом реторта.
Под потолок взметнулся хохот чёрта.
И замер монастырь в испуге жутком,
и шепчутся монахи: утром рано
отец Патрикий тронулся рассудком.
Миф
Как в проарийской книге, в славе -
челны, подкова и стрела.
Серебряная рать в дубраве
слова санскрита сберегла.
Над войском русов - время оно.
Ждут корабли у берегов.
А в небе - звёздные знамёна
и многокрылый взлёт клинков.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И ты бежишь ко мне счастливо...
Владимир Свидзинский
(1885 - 1941)
* * *
Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.
Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.
И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.
Вот добежала - ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.
* * *
Неодолимо нависла над мокрым окном
Ослеплённых будней муть.
Спокойна вещей суть,
Затаились горькие слова,
И тускнеет печаль моя,
Как подо льдом трава.
Зарастает зеркало пылью,
Память о нежной - забвением.
Пускай вещи спокойно живут
Под глухою корой молчания.
Ни вечерняя заря, ни ранняя
Ни с далёких, ни с близких дорог
На мой забытый порог
Милого голоса не приведут.
1932
* * *
Лицо зеркала мертвеет в тени,
И прадавняя тишина спит,
Как налитая в миску вода.
Только руки мои живут -
Иногда странно, как-то отдельно,
Иногда движение моих рук
Выводит меня из задумчивости,
Словно шелест в лёгком листе.
Я встаю, подхожу к окну.
Надбитая колонка стоит у крыльца,
Цвель в её желобках.
Долетают сюда снежинки,
Долетают синицы по утрам.
Наклоняюсь лбом к стеклу,
Долго на них смотрю.
Не люблю, когда приходит ночь,
Завёрнутая в тёмный платок
Мшисто-зелёного цвета.
Тишина стекает в большой пруд.
Синие синицы, где вы по ночам?
Лицо зеркала мертвеет в тени.
Занавеси становятся каменными.
И, очерченный кругом молчанья,
Я глуше и печальней горю,
Я горю, как китайский фонарик,
Забытый на ветке в старом саду.
1933
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Я вам не вечный, нет. А вы всё пойте...
Владимир Затулывитер
(1944 - 2003)
Теория крыла
Вставай, отец! Зовут крыла плугов,
как ранних птиц щебечущие стаи.
И Ворскла из зелёных берегов
ведёт разливы вод на первотравье.
Вставай же, батько! Слободская степь
полна до неба клёкота и клика!
И светит материнский честный хлеб,
как солнце, и белеет пеной кринка.
Вставай, и все приметы всех годов
напомни сыну своему в дорогу:
коль дождь в июне пахнет - жди медов,
а пар над полем - жита будет много.
Всему учи, рука твоя легка,
колодец ли копать иль хату ставить.
Ведь жить нам бесконечные века,
и род наш не иссякнет, не устанет!
За взлётом птиц в тугих потоках света
следит твой сын. Его пора пришла,
чтоб этим утром верною приметой
начать свою теорию крыла.
Сосед по санаторию
Он сед и кряжист. Он годами старше,
но не намного. Возрастом - на жизнь.
Матросские ступни - метровой меры -
впечатывает в почву крепко так,
что лайнеры в следы его садятся,
а в дождь - заходят корабли, как в порт.
Невесомость
Боюсь летать во сне. Земля на взлёте
уходит от меня волной тревожной;
и всё быстрее, всё опасней тело
теряет вес; и мысли - словно пух;
и я - бесплотный, лёгкий - просыпаюсь
от страха: оторвался от земли!..
Друзьям, молча
Я вам не вечный, нет. А вы всё пойте
себе. Я вам оттуда... подпою...
А вы всё пойте. Можно и в миноре -
про чайку, про калину, про вдову.
Вы пойте, други, без обид, без гнева,
что вас не долюбил я, а допел.
* * *
Во всём - земля. И в брызгах чёрной грязи
у яблок на густом румянце щёк,
в сентябрьской тропке на моих подошвах
и в ласточкином брошеном гнезде.
И даже в пыли той, что мхом покрыла
нечитаные книжки, - всё земля.
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
И по телу моему пробегали автомобили...
Михайль Семенко,
украинский поэт-футурист
(1892 - 1937)
Стишок разочарования
Я разочарован в своём смычке.
И потом - мне не хватает нот.
Я опоздал и копаю в своём уголке,
Я копаю и уже для мечты своей - мёртв.
Что из того, что я движусь вдоль Крейцера?
В будущем - сентиментальный, нудный дилетант.
Судьба мою виолину разбивает до вечера.
Опередило время мой талант.
8.11.1916. Владивосток
По дороге раздоров
Вчера свидание мы разорвали
"На старом месте" у высокой горы.
Я отобрал письма и книги,
на прощание мы ничего не сказали -
И расстались в первые дни апрельской поры.
Возвращался один по пути раздоров.
Над ручьём минуту постоял,
где разорванные листки плыли.
Всё сталось так, словно в чайник попал мой норов,
И по телу моему пробегали автомобили.
3.4.1917. Владивосток
Реплика
Хочется сказки. Хочется тишины.
Криками, трубачами измождён мозг.
Сердце еле дышит в перепадах весны,
Словно ему дали сотню розг.
Хочется дальше. Ну хоть в Австралию.
Выберу на карте одиночество острова.
Переброшу с собой веков вакханалию
И мою поэзию острую.
Красные пятна на зелёном фоне.
Чую, быть мне знатным эпиком!
...Зачем, зачем ухватили вы в граммофоне
Мою безумную реплику?..
7.4.1917
Городской сад
Буду ходить в городской сад.
Там кабаре и фарс.
Люблю, когда в душу проскользнёт гад -
Тогда там много фраз.
Ха. Сбоку красный круг карусели
Среди общипанных заплёванных кустиков.
Хрипит катеринка, и пьяные трели,
словно стая весёлых маленьких цуциков.
На веранде струнный квартет.
Я - поэт.
23.4.1917. Владивосток
Туман выплывал
Мистерия
Отозвались струны легчайшим гомоном.
Усмехнулись струны потухшими болями.
Ещё теплился звук, уже смятым и сломанным.
И дрожали нервы нитками голыми.
Туман выплывал из-за гор, тронутых жутью.
Багровел закат фоном адской мистерии.
Никли деревья, согнуты мизерной сутью.
Буре, Великой, Тайной Буре открывайте двери.
23.4.1917. Владивосток
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Я не умру от смерти...
Михайль Семенко,
украинский поэт-футурист
(1892 - 1937)
Заплети косу покрепче
Я на страданье тебя веду -
на медленное сгорание.
Взорвёмся же на прощанье -
Так написано на роду.
Может, огня ярче не видел никто,
чем болид нашей встречи.
Заплети косу покрепче.
Застегни пальто...
7.5.1917. Владивосток
Гора Жёлтых Лилий
Скажи - ты не забыла Гору Жёлтых Лилий,
Зелёную до боли полонину?
Когда, за поэтичнейшей из идилий,
Клялись мы любить до самой кончины?
Солнце, солнце, бухты, бухточки, дали -
Мы целый мир тогда в себя вместили!
И лилии - огромные, жёлтые, безумные - собирали,
И всё прошлое, всё будущее - забыли, забыли.
27.6.1917. Владивосток
Огоньки по всей бухте
Катер даёт третий гудок -
Блестящий, изысканный катер.
Лунной ночью мы оставляем Владивосток
И движемся туда, где темнеет кратер.
Огоньки по всей бухте вместе и врозь,
Вода шумит, волны бегут мимо.
В нашем сердце, правда, нету слёз,
Любимая?
Город, город в огнях остаётся сзади.
Море блестит, тени взгляд ласкают.
Милая - чему мы рады,
Чего сердце чает?
30.6.1917. Владивосток
Патагония
Я не умру от смерти - я тот,
Кто погибнет только от жизни.
Стану умирать - и жизнь замрёт,
и стяги её повисли.
Я молодым, молодым умру -
Меня ли состарят битвы?
Оставь, оставь траурную игру.
Рассыпь похоронные ритмы.
Я умру, умру в Патагонии дикой,
среди огненной земли снов.
Родня моя, не услышу вашего крика.
Я - ничей, поэт мировых слов.
Я умру в минуту, когда природа стихнет,
Под последней воробьиной ночи блеск.
Умру в паузе, когда сердце мне стиснет
Моей жизни, молодости и силы всплеск.
30.6.1917. Владивосток
Тёрен
С. Гуляеву
На скале безъязыкой я.
Внизу маневрирует поезд.
Между гор змеится колея.
Наклонилась неба высокость.
Спит залив, наморщив брови.
У края мола колышет шаланды.
Солнце заходит без условий -
В красном галстуке, галантно.
Свет блеснул. И сразу погас.
Дым мастерских шоколадно-чёрен.
Во мне - бесконечность синих фраз
О той, чьи глазища - тёрен.
2-15.8.1917. Владивосток
Перевёл с украинского
Сергей Шелковый
Поклонюсь его тени живой и крыльцу виноградному...
На родине поэта
Прокутил, прогульвасил июль своё звонкое золото.
Тридцать первому дню я прощальный цветок принесу.
Вволю выпито вин, вволю слов на муку перемолото,
и две трети всей жизни под хвост разбазарено псу.
Нелегко налегать покалеченным пальцем на клавиши,
провожая Шопеном июль. А, покинутым, нам
остаются забот августовских тревожные залежи
да билет на плацкартную полку - с грехом пополам.
"Вот и лето прошло" на две трети. Дорога к Арсению
уместилась в каких-нибудь тридцать с копейками лет.
На родной его почве стою под исконною сенью я,
и особенный льётся, сквозь зелень, Тарковского свет.
С ним и пешая поступь моя может статься крылатою
здесь, где память Ингула полна отраженьями душ,
где фортеция Елисаветы, без выстрела взятая,
мне дарует по-сестрински ветку породистых груш.
Поклонюсь его тени живой и крыльцу виноградному.
Не тускнеет Грааль его слов и гранение сот.
По мосту через реку его и по веку всеядному
за июлем вослед цельнокованный август идёт.
Прописаны мэйлом - мелком голубым...
* * *
И вот, нарисованы розовым мэйлом,
на сером асфальте взойдя поутру,
цветы мои радостны, в общем и в целом,
покуда я жив. И пока не умру.
Но даже потом, когда звери гудрона
уже без меня утомятся дрожать
под ливнем зимы, я вернусь потаённо
к тебе, голубиных дворов благодать.
К тебе моя жизнь - ощутить ещё чутче
вишнёвые грешные губы твои.
И вешним дождём из сиреневой тучи
пролиться, смывая все точки над "и".
И видеть, как чей-то цветок-сновиденье
трепещет всё так же: "любИм-не любИм...",
а на тротуаре души моей тени
прописаны мэйлом - мелком голубым.
Значит, снова пора мне в дорогу...
В путь
Вновь лаванды с листом эвкалипта
намешаю в походный кисет.
Ворожит разворот манускрипта -
створки окон распахнуты в свет.
Значит, снова пора мне в дорогу!
На ходу, набегу, налету
буду веровать пешему богу
и пахучему зелью-листу.
С тем-то и навостряю копыта,
тем и манит цветок-анаша,
что с обочин - пчелиного мыта
наберёт на всю зиму душа.
Вот и снова я на электричку
успеваю - минута в мину...
Алычи жёлтоплодная дичка
зреет в зное, в гаремном плену.
И стрижи над вокзалом Гезлёва,
над горячей железкой свистят.
И полётное вольное слово
в путь мне жалует перистый брат.
Оберег с благовонной травою -
вдох и выдох в моём рюкзаке.
И, как будто сто рифм надо мною,
стая птиц - в синеве, налегке...
Поэт Георгий Шенгели и его Крым (2 часть)
Поэт Георгий Шенгели и его Крым (2 часть)
О Максимилиане Волошине, в коктебельском доме-башне которого Георгий Шенгели бывал не раз в 30-е годы, им написаны и незаурядные стихи, в частности, "Огромный лоб и рыжий взрыв кудрей...", и мастерски выверенная, зоркоглазая мемуарная проза по следам их коктебельских встреч. А лаконичные, но ёмкие воспоминания Г.Шенгели об Александре Грине опубликованы в феодосийском издании 2012 года "Жизнь Александра Грина, рассказанная им самим и его современниками" вместе с воспоминаниями о Грине его первой жены Юлии Шенгели. Да и в стихах керченского романтика-поэта образ автора "Алых парусов" и создателя Зурбагана возникает в очень точном контексте - в шенгелиевской книге "Планер", в воображаемом полёте на планере над знаменитыми коктебельскими холмами. Отсюда, с высоты птичьего полёта, и окликает Георгий Шенгели своих прославленных собратьев по киммерийскому побережью - Максимилиана Волошина, Александра Грина, Константина Богаевского.
Сегодняшнее литературное и научное сообщество Керчи и Феодосии начинает понемногу, но всё чаще упоминать имя Георгия Шенгели - и в неизменно содержательных и тавридолюбивых томах Издательского дома "Коктебель", к примеру, в книге "Образ поэта. Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников"(1997), где помещены два обращённых к Волошину стихотворения Г.Шенгели, и в статьях керченских земляков Георгия Аркадьевича. Так научным сотрудником Керченского историко-культурного заповедника С.В.Механиковым в последние годы опубликовано несколько статей о поэте в керченской прессе. Ему же принадлежит опубликованное научное исследование "Материалы Г.А.Шенгели из фондов Керченского заповедника"(2008). Эти публикации по сути прерывают многолетний заговор молчания вокруг имени поэта в его родном городе. И в этом году, к столетию первых публикаций стихов Г.Шенгели в керченских газетах 1913 года, местным журналистом А.Васильевым опубликован очерк о поэте, снабжённый рядом выразительных фотоматериалов того керченского периода, то есть начала прошлого века.
В Керченском историческом музее, где сосредоточена научная работа всего Керченского историко-культурного заповедника, застать С.В. Механикова мне в день своего приезда в Керчь не удалось - как оказалось, он совсем недавно вышел на пенсию. Сотрудница библиотеки уже было и описала мне дорогу к сторожке у самой вершины Митридатовой горы, где он обитал. Но времени на поиски его высотной избушки у меня уже не оставалось, ибо до отхода вечернего автобуса мне следовало ещё успеть обернуться к весьма неблизкому от центра Еникале и обратно. Но к счастью прямо на ступенях выхода из музея мне судилось столкнуться со здешним старшим научным сотрудником В.Ф. Санжаровцом, к которому меня сразу же стала пододвигать всё та же, уже знакомая, женщина-библиотекарь: "Вот, Владимир Филиппович сможет Вам тоже о Шенгели рассказать!" И вправду разговор с В.Ф.Санжаровцом, человеком увлечённым и обладающим широкими познаниями, автором десятков разнообразных научных статей о истории и культуре Керчи и Керченского полуострова, оказался для моих поисков очень полезным. Помимо того, что Санжаровец сообщил мне керченские адреса бывших жилищ самого поэта и его друга Векшинского, он обмолвился и о совершенно неведомых мне до сих пор обстоятельствах, которые позволяют уточнить весьма важные акценты в человеческой и творческой судьбе Георгия Шенгели.
Речь шла о том, что о трагической гибели старших братьев поэта, мало кому известной до сих пор, появились документальные свидетельства в недавно опубликованной в Киеве книге бывшего советского прокурора Л.М. Абраменко "Последняя обитель. Крым, 1920-1921 годы". Не без труда и далеко не сразу отыскал я дома в сети книгу бывшего прокурора. Дата размещения её на сайте оказалась довольно недавней - 2010 год, то есть, только по прошествии ровно 90 лет страшная правда о красном терроре в Крыму была наконец во всей полноте явлена миру.
Большая часть книги представляет собой публикации расстрельных списков конца 1920 и начала 1921 годов (точнее - с декабря двадцатого по апрель двадцать первого), согласно которым в городах Крыма осуществлялись казни или, говоря языком этих же документов, приводились в исполнение смертные приговоры "врагам трудового народа", вынесенные чрезвычайными революционными тройками. Одно лишь прочтение этих долгих списков безжалостно уничтожаемых людей, сотня за сотней, тысяча за тысячей, и сейчас, по прошествии 93 лет, ужасает. Об интенсивности и масштабах большевистского террора того времени в Крыму выразительно говорят хотя бы те четыре списка первой половины декабря 1920 года, которые относятся только к Керчи и которые содержат имена двух старших братьев Георгия Шенгели - Владимира и Евгения.
Итак, список XVIII. По приговору чрезвычайной тройки 6 декабря 1920 года расстреляны 174 человека, среди которых под номером 166 числится и Шенгели Владимир Аркадьевич, 1889 года рождения, уроженец и житель Керчи, капитан. Уже на следующий день 7 декабря та же неустанная тройка выносит постановление о расстреле сразу 283 человек согласно списку XIX. Следом же 9 декабря по списку XX казнены 76 человек, а 14 декабря по списку XXI расстреляны ещё 76 арестованных, в числе которых в подробном перечне кровавой бухгалтерии новых вершителей судеб значится под номером 72 и Шенгели Евгений Аркадьевич, 1887 года рождения, уроженец и житель Керчи.
Едва ли не каждую ночь в декабре 1920 года на окраинах крымских городов Керчи и Феодосии, Ялты и Евпатории, Cудака и Алушты, Симферополя и Джанкоя стучали пулемёты, уничтожая, список за списком, десятки тысяч образованных, интеллигентных, любивших свою родину и свои семьи людей. Кроме солдат и офицеров армии Врангеля в расстрельные списки попадали практически все государственные служащие Крыма, все чиновники вплоть до самых малых должностей. Арестовывались, что автоматически означало вынесение смертного приговора, и обычные крестьяне по малейшему подозрению в контактах с военными Белой армии и те жители Крыма, кто попадал в доносы без всякой, конечно, проверки достоверности этих "сигналов". Молох беспощадной бойни был запущен и набирал обороты, опьяняясь кровью жертв и собственной безнаказанностью.
Не известно, как воспринял Георгий Шенгели весть о расстреле старших братьев, как и когда это сообщение дошло до него в мути и хаосе тех бесовских дней. Известно только, что и для него самого 1919 и 1920 годы, проведённые в Крыму, были непростыми и полными опасностей. После четырёх лет учёбы на юридическом факультете Харьковского университета в 1914-1918 годах, он был отправлен из Харькова в 1919 в Севастополь в качестве "комиссара искусств". Скрываясь от деникинцев, бежал с поддельными документами из Севастополя через Керчь, оказавшись затем в Одессе. О перепитиях этого побега рассказывает роман-хроника поэта "Чёрный погон", не только полный энергии и молодой 25-летней отваги, но и помеченный нелёгкими размышлениями о собственной судьбе и судьбах близких. И этот роман Георгия Шенгели, написанный в ключе яркой поэтической прозы, остаётся доныне неопубликованным.
Был под пулями ты; революции благостным хлебом
Ты жену молодую и звонкую музу кормил...
А стихи Г.Шенгели двадцатого года разительно отличаются от всего написанного им ранее и всего того, что выходило из-под его пера позже. Лаконичные и точные зарисовки сцен безумия и жестокости гражданской войны. Резанные глубоким и твёрдым резцом гравюры, достойные по драматизму и выразительности фантасмагорий Иеронима Босха и Франсиско Гойи. Свидетельства очевидца, обличающие страшное время. Вот старуха с "иссохшим мозгом", вымаливающая у ЧК, ревкома и даже у Госиздата разрешение раскопать могилу сына, чтобы снять с него "ещё хороший" костюм. Вот ревнивая жена, донимающая фельдшера-красноармеца просьбами продать ей "сыпнячную вшу", дабы погубить конкурентку-разлучницу. Вот сцены самосуда и казни конокрада со страшным финальным кадром вздрогнувшего могильного горба, поднятого вверх последней отчаянной конвульсией казнённого. А вот и жуть комендантского часа в ледяной ночи, явно пережитая лично автором, когда
И пуговица путается туго
Под пальцами, и вырывает вьюга
Измятые мандаты, а латыш
Глядит в глаза и ничему не верит.
Он знает всё, чего и нет...
И все эти стихи - словно бы предчувствие той трагедии, которая обрушится на семью Шенгели в декабрьской Керчи, в самом конце смертоносного двадцатого года. В 1924 году во время лекции в литературном институте у Георгия Шенгели возникнет галлюцинация, видение того, как и его самого арестовывают и ведут на расстрел, подобно его братьям. В 30-ом году напишутся стихи с такими неслучайными строками:
И любимый мой город разрушен,
И в чужом предстоит умереть...
Что же иное может означать первая строчка этой цитаты, как не потайной, и словно бы проглоченный одним горьким глотком, плач по убиенным Евгению и Владимиру? И одновременно плач по любимому городу, который уже навсегда стал иным после казней 1920 года...
Снова вспоминается ястребиноокий Фридрих Ницше с его бесстрашием тевтонского фатализма: "Всё то, что нас не убивает, нас только делает сильней..." Стала ли душа поэта Георгия Шенгели сильней вослед жестоким годам гражданской бойни, когда уже с первых лет после большевистского переворота стало ясно, что прекраснодушную идею о всеобщем равенстве с циничной прыткостью оседлали самые аморальные вожди и самые бесчеловечные исполнители ночных пулемётных расстрелов? Сделала ли молодого двадцатишестилетнего Георгия сильней весть об убийстве его братьев, родных ему людей, тоже молодых, едва переступивших своё тридцатилетие, полных сил и надежд?
Не существует медицински или математически точных ответов на эти вопросы. Ясно только одно - Георгий Шенгели остался жив и сохранил неуёмную жажду жизни и творчества. С памятью о том, чему он был свидетелем в катастрофические годы гражданской войны, с памятью о казнённых братьях и с душой, всё же не обратившейся в камень, прожил Георгий Шенгели вослед двадцатому году ещё тридцать шесть лет, отмеренных ему судьбой. Данная ему свыше и вполне осознаваемая им творческая сверхэнергия властно требовала реализации. И воплотить этот дар в написанное возможно было для него только в единственно данных реальных условиях, в единственной, как и у каждого смертного, попытке бытия.
Георгий Шенгели работал неустанно и с завидной продуктивностью все свои годы. Целые тома переводов французской, немецкой, английской и восточной поэтической классики - Бодлер, Верлен, Зредиа и Гюго, Верхарн, Гейне и Байрон, Хайям, Махтум-Кули и Лахути. Классической чистоты и звучания собственные стихи, поэмы и проза. Десятки изданий, начиная с 1918 года, стиховедческих книг, вплоть до фундаментальной посмертной "Техники стиха"(1960). Большая часть написанных им оригинальных стихов и поэм остаётся до сих пор не опубликованной. В 1997 году усилиями поэта и критика Вадима Перельмутера, неустанного исследователя творчества Георгия Шенгели был составлен и опубликован том его избранного "Иноходец". До сей поры эта книга остаётся единственным изданием, которое достойно, но, разумеется, далеко не полно, представляет творчество большого русского поэта.
И лаконичное название для книги выбрано прицельно-точно. И в смысловом плане, ибо Шенгели, как и каждый по-настояшему значительный художник слова, идёт своим собственным творческим путём, своей собственной неповторимой иноходью. И в том отношении, что краткое и ёмкое название поэтической книги одним единственным словом-образом, существительным-метафорой находится как раз в звуковом и лексическом поле самого поэта Шенгели - достаточно вспомнить названия его прижизненных сборников: "Гонг","Раковина", "Изразец", "Норд", "Планер". Нет сомнений, что Георгий Шенгели "знал цену слову" ничуть не менее своего поэтического оппонента, "агитатора, горлана, главаря". Одно из определений поэзии, данное Шенгели, в том числе и подразумевающее определение собственной поэтики, можно прочесть в его "Иноходце": "Ком из золота, меда и смол". И тому, кто по-настоящему вчитается и вчувствуется в поэзию Георгия Шенгели, придётся признать, что поэт очень близок к истине в этом определении.
Между тем тягостное ожидание ночного прихода чекистов и ареста нависало дамокловым мечом над Георгием Шенгели все годы его самоотверженных литературных трудов. Арест мог произойти в любой момент и повод мог оказаться каким угодно. Просто напросто его явно не пролетарское происхождение. Близкое родство и общность фамилии с двумя расстрелянными "врагами трудового народа". Резко критический памфлет о "лучшем и талантливейшем поэте советской эпохи". Антитираническая поэма о византийском императоре-базилевсе (намёки, аллегории?). Наконец, даже "умышленное умаление роли армии Суворова" в шенгелиевском переводе "Дон-Жуана" Байрона, озвученное в одном из печатных доносов уже в пятидесятые годы.
В этом житейском мороке, периодически сгущавшемся до беспросветности, Георгий Шенгели не только выжил и уцелел, но и сумел сделать очень много для поэзии, для культуры в целом. Его карма полноцветна и светоносна. Творческое наследие поэта, положенное на чашу добра в непрестанном борении его со злом - значительно и весомо. Воистину пожизненным, ежечасным напряжением духа и воли Шенгели сумел достойно ответить своему исходному дару гармонии и гуманности, связать своё счастливое первородство и своё многолетнее стоическое противостояние безвременью и бесчеловечности.
И в понятие этого исходного дара поэта должно быть, без сомнения, включено его счастливое единение с малой родиной - с Керчью-Пантикапеем, с Элладой-Киммерией. Таким же пожизненным зарядом духовной энергии для Пушкина было его Царское Село, таким же негаснущим светом на всю жизнь оставались для Арсения Тарковского его родные горячие степи Приингулья. Арсений Тарковский, кстати, которого Георгий Шенгели бережно и заботливо вводил в двадцатые годы и в литературу, и в московское житьё-бытьё, посвятил учителю и старшему другу полные благодарности и нежности воспоминания "Мой Шенгели", появившиеся в печати лишь недавно после тридцати лет замалчивания.
Вот несколько завершающих слов из этих воспоминаний, очень важных для понимания сущности Георгия Шенгели, поэта и человека: "И если мне приходилось трудно, я спрашивал у него совета, и он всегда давал мне единственно верный совет. Я многому пытался научиться у него и во многом ему обязан. Когда он умер, я, так же, как и многие знавшие его, был потрясён этой странной нелепостью, причинившей такую боль... Конечно, нужно издать все его стихотворные работы, опубликовать его научные сочинения. Но то, что было в нём помимо стихов и науки, - весь он с могучим и гармоничным аппаратом его жизненности для меня бесспорно значительней не только его стихов, а вообще любых стихов, как я ни привержен стихотворческому делу. Шенгели был, если мне позволено сказать так, - стихотворней любой поэмы, какую можно было бы о нём написать. Я говорю это для того, чтобы хоть как-нибудь выразить его сущность, которая так необходима была для нас и утрата которой так тягостна. Мне хотелось бы, чтобы у всех молодых людей, ищущих ключа к искусству или науке, был свой Шенгели - без него так трудно!"
И еще один выдающийся мастер русского слова, которому Георгий Шенгели помогал входить в литературу, Юрий Олеша, с любовью писал о нём: "Я хочу сказать только о том, что в своей жизни знал поэта — одного из нескольких,— странную, необычную, прикасающуюся к грандиозному фигуру. И он навсегда остался в моей памяти как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек — как человек, одержимый служением слову, образу, воображению..."
"Железный мастер, рыцарь поэзии", "могучая и гармоничная жизненность", "глаз-алмаз" по словам Максимилиана Волошина - это совершенно определённо о нём, о Георгии Шенгели. И "киммерийский звездочёт", летописец с "клинописной памятью", работник-созидатель с "двойным зарядом" энергии, "брат вечной красы и любовник вечной свободы", все эти титулы, взятые из шенгелиевских стихов разных лет, - это тоже по сути самоопределения, тоже правда о нём самом.
И позволю себе добавить ещё несколько слов о нём, возвращаясь к его истоку, к берегам и маякам Киммерийского Босфора, всегда светившим его душе и живущим доныне в его поэзии:
Здесь, под Царскою горою
в вечном мареве Боспора -
вволю мрамора герою
для посмертного декора.
Всклень музейный фонд заполнит
пропылённый археолог.
Но, инкогнито инкогнит,
путь змеится - архидолог.
Вот и снова "Веди-буки,
дети-внуки" говорю я,
чтоб на Черкио излуке
рифму выдохнуть не всуе.
Ибо свеж поэт баллады,
Керчи и Эллады житель,
зодчий сада Митридата,
золотой настройщик лада,
маяка дальнесмотритель...
2013 г.
Поэт Георгий Шенгели и его Крым (1 часть)
Поэт Георгий Шенгели и его Крым (1 часть)
Керченские годы детства и юности Георгия Шенгели - самое счастливое время в его жизни. Память об этих наполненных солнцем и морским воздухом днях поэт проносит через все последующие годы и десятилетия. И на склоне лет, снова и снова возвращаясь мысленно к возлюбленным берегам, он пишет наполненные искренним чувством строки о белом домике в Еникале, стоящем над самыми водами Киммерийского Босфора. Пишет стихи о совершенно особом течении времени в сакральном пространстве своего утраченного, но никогда не забываемого им, земного рая:
Где-нибудь — белый на белой скале –
Крохотный домик в Еникале...
Город в две улицы узким балконом
Выпятился над проливом зеленым;
Степь с трех сторон, а с четвертой — простор:
Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор...
Еникале сегодня - это, конечно, даже не городок "в две улицы", а окраинный район Керчи, где на полынном берегу Киммерийского Босфора возвышаются остатки турецкой фортеции 17-го века, как раз и именуемой Еникале, то есть, Новой крепостью. Именно здесь, на родных керченских берегах, хотел бы поэт подвести итоги своей жизни, бурной и наполненной многими значительными событиями. "И восемь лет отобраны войной..." - биография его и вправду пришлась на время потрясений и переворотов - жестоких и кровавых. Но и вопреки этим внешним обстоятельствам прожитые годы Георгия Шенгели сполна отмечены яркими событиями его внутренней творческой жизни. И этому творческому богатству, отмеченному неповторимостью личностной духовной силы, ешё только предстоит стать по достоинству оценённым его наследниками - читателями русской поэзии. А пока что вслушаемся в ностальгию поэтического возвращения Георгия Шенгели в стихах 50-го года на круги своя, к родным пенатам:
Стол под широким поставить окном,
Лампу зеленым покрыть колпаком,
Наглухо на ночь закладывать ставни,
Слушать норд-оста мотив стародавний,
Старые книги неспешно листать
И о Несбывшемся вновь поминать:
Очень подходит к томительной теме
Медленное — по-еникальски — время...
В Керчи Георгий Шенгели, родившийся в Темрюке в 1894-ом, поселился в 1902 году, когда после смерти сначала его матери, а затем через два года и отца бабушка по материнской линии М.Н.Дыбская забрала из сибирского Омска восьмилетнего мальчика и его сестру в южный город над проливом, соединившим Чёрное море с Азовом, Понт Эвксинский с Меотидой. Керчь стала дюбовью поэта на всю жизнь, именуясь в его стихах не иначе, как "мой город", "любимый город". Этой древней столице Боспорского царства, носившей вслед за Пантикапеем имена Корчева и Черзетти, Черкио и Керчи, посвящено множество проникновенных и глубоко личностных воспоминаний в стихах Г.Шенгели. И даже давний день первого свидания с городом, с морем, с подступающим к сердцу прямо в тот самый момент необыкновенным будущим не однажды оживёт и окликнется в его поэтических строках:
Помнишь день, когда тебе впервые
В синем небе белые ладьи
Развернули паруса тугие
В запредельном бытии?
........
Помнишь - в сердце - в эти миги трепет?
Ты не знал, что это стих цветёт,
Что в тебе уже поэта лепит
Море, вечность, неба разворот...
Или в других его, белых, стихах, где рифма отбрасывается не просто каноном сапфической строфы, но словно для того, чтобы ни единым звуком, в угоду форме, не исказить этих навсегда самых дорогих для поэта минут встречи со своей уже угадываемой судьбой - в стихах 27-го года, так и названных предельно просто "Мой город":
Помню ясный полдень, когда впервые
Я сюда приехал, когда с вокзала
Я катил на дрожках и ждал: когда же
Явится море?
И оно возникло, сломив пространство,
Синею стеною в гирляндах пенных,
Млело и мерцало, качая в далях
Парус латинский.
И оно дышало соленым ветром,
Рыбьей чешуею, арбузной коркой,
Влажной парусиной, смоленым тросом, –
Вечною волей.
И душа, вздыхая, вдруг закружилась;
Я почти заплакал; я стал как парус,
Что звенит под ветром и только жаждет
Мчаться в просторы.
И потом ни разу не повторилось
Детское виденье: надлом пространства,
Синий блеск, и трепет, и зыбь, и эти
Сладкие слезы...
Должен признаться, что я вижу и ценю в Георгии Шенгели не только поэта тонкого и точного, зримо-образного и энергетичного письма. Мне он определённо дорог и как единомышленник, как родственная душа, как человек, чьё восприятие Киммерии очень созвучно и моим собственным ощущениям от её берегов, холмов, вод и ветров. Тем ощущениям, в которых соединяется и осознание величия и космизма её исторического летописного пространства, и глубокая личная привязанность к этой земле, готовой самой своей генетической природой, самим своим дыханием откликнуться навстречу молодой и жизнелюбивой душе.
Самому мне пришлось впервые попасть в Керчь в 17-летнем возрасте в 1964 году, когда по ученической туристской путёвке, после 10-го класса и перед завершающим 11-ым, я провёл там почти весь горячий безоблачный июль. Мне часто потом доводилось приезжать в Крым, почти ежегодно, но таких неустанных, полных искрения и радости морских купаний, как в керченском Камыш-Буруне того, отстоящего уже на полстолетия года, я больше не припомню. Весь отряд из двух-трёх десятков школьников старших классов, приехавший тогда автобусом из Харькова в Камыш-Бурун, жил в совершенно незатейливых условиях в местной средней школе. Ночевали, ясное дело, попросту на школьном полу, на видавших виды набивных физкультурных матах.
И вот целых полвека жива в моей в памяти та сине-зелёная босфорская вода Камыш-Буруна. С металлических настилов-решёток четырёхугольной эстакады-купальни юноша на переломе 16-17 лет, которым был я в июле 1964 года, ныряет с разбега раз за разом в ту магнетическую воду без остановки, без устали, в каком-то невиданном азарте и упоении. Ласточкой, рыбкой, вниз головой и вперёд руками, сведёнными словно бы в острие стрелы, ныряет он в прозрачную воду, которая всякий раз вскипает ярким снопом воздушных пузырей, отзываясь на вторжение ныряльщика. И вынырнув на поверхность с уже широко открытыми глазами - а раскрываются они сами собой непроизвольно в нижней, уже переломной точке траектории прыжка - спешит тут же пятью взмахами-гребками возвратиться к металлической лестнице, чтобы с облюбованного места эстакады без секунды промедления начать новый толчок, новый полёт. То было какое-то наваждение, какой-то особенный энергетический всплеск, не повторявшийся уже никогда в будущем.
Уже намного позже, через 32 года после того керченского лета, своё стихотворение, посвящённые памяти отца, я завершил строчками: "Хотелось капли лёгкого веселья, но в целом мире не было её..." Это сказано с достаточной точностью о десятилетиях и его, и моего пути. Но те мои юные и памятные часы в Камыш-Буруне как раз и были редкой и неповторимой минутой "лёгкого веселья". Легчайшее, почти невесомое, совсем ещё птичьего сложения, тело, секундный, но дарящий неповторимое ощущение вольного полёта, прыжок. Воистину - и лёгкое веселье, и безоглядная радость...
И как же понятны, как кровно близки тому неудержимому ныряльщику восемь искрящихся, керченских и камыш-бурунских, строчек Георгия Шенгели о его юном, и столь же незабываемом, единении с первородной свободой, с прародиной моря, с вечным материнским лоном:
Ай, хорошо! Я на три километра
Заплыл. Лежу, качаясь, на спине.
По животу скользит прохлада ветра.
Плечам тепло в полуденной волне.
Двумерен мир. Обрыв Камыш-Буруна
Сам по себе синеет вдалеке.
И у ресниц вплотную тает шхуна,
Как леденец в алмазном кипятке.
Георгий Шенгели оставил десятки разножанровых стихотворений - живых свидетельств о своей Керчи. Все они неизменно отмечены искренним сыновним чувством к родному городу, независимо от того, идёт ли в них речь о Пантикапее, о наследии царства Митридата, о "колоннах в коринфских кудрях", о "стройном боке" древней амфоры, прикосновение к которой "в пальцы вдунуло ветерок", или же о совсем простых, но дорогих сердцу вещах, как, например, в стихотворении с нарочито приглушённым - "когда б вы знали, из какого сора..." - названием "Из-за забора":
А за ним пустырь полынный,
Завитки речушки мелкой,
И китайский ветхий мостик
Спину горбит над водой.
Там я мальчиком шатался,
Драл камыш, ловил тритонов...
Произведения Георгия Шенгели, обращённые к родному городу, не теряют и с ходом лет своего обаяния. Ибо подлинная поэзия - это очень долгоиграющая пластинка, это многолетний пионовый куст, оживающий в течение десятилетий с каждой новою весной всё теми же молодыми, полными свежести цветами. Эти шенгелиевские стихи-признания, стихи-воспоминания находят и сегодня отклик в душе чуткого читателя, будут находить его и в будущем. Они - бессрочный дар поэта-суверена своему Боспорскому царству. А много ли сохранилось реалий в сегодняшней Керчи, в сегодняшнем Крыму, способных рассказать об этом ярком творческом человеке, о поэте Георгии Шенгели? Помнят ли его земляки-керчане? Может быть, вспоминают о нём с гордостью и благодарностью?
Желание получить ответы на эти вопросы из первых рук и привело меня снова в Керчь, впервые за 47 лет после моего давнего юношеского лета в керченском Камыш-Буруне. И на этот раз состоялись уже два моих приезда в Керчь кряду - в августе 2011 и в июле 2012 годов, однодневные броски на автобусе от соседнего киммерийского полуострова Казантип, где проводил я тогда свой отпуск. Дома №5 и №7 по улице Мещанской (ныне ул. Самойленко), владения Дарьи Безруковой, в одном из которых жил Георгий с бабушкой М.Н.Дыбской, не сохранились. Нет и здания Александровской гимназии, в которой учился Шенгели, именно в свои гимназические годы начиная писать стихи и в то же время подрабатывая уже репортёром в керченских газетах.
Зато существует здание по ул. Самойленко №9, где жил друг юности Г.Шенгели Сергей Векшинский (1896-1974), тогда гимназист той же Александровской гимназии, а в дальнейшем крупный ученый в области электроники, академик и Герой Социалистического труда, человек, с которым Шенгели поддерживал тёплые отношения и в московские годы, до самого конца своей жизни. Именем С.А.Векшинского, кстати, названа одна из улиц сегоднешней Керчи, расположенная, правда, в окраинном её районе. А бывший дом полицейского управления, в котором жил будущий академик (отец С.Векшинского был полицмейстером уже упомянутого здесь Еникале) ныне стал зданием поликлиники, сияющим штукатуркой свежего евроремонта. Впрочем, подобной же окраской светло-нежных, глубоко импортных тонов отличается и почти вся бывшая Мещанская улица, носящая сегодня имя партизана Аджимушкайских каменоломень времён Гражданской войны коммуниста Самойленко.
Слава Богу, что чуть выше по этой же улице, уже по чётной её стороне, сохранилось и одно из настоящих архитектурных украшений Керчи - здание Керченского музея древностей. Это хранилище тысячелетних артефактов было в начале минувшего века едва ли не вторым домом для юного Георгия Шенгели, сюда, в его залы, щедро наполненные находками пантикапейских раскопов, приходил он снова и снова, с неизменным исследовательским, да и поэтическим несомненно тоже, пылом. И тот ветерок, который в керченской юности "вдунуло в пальцы" будущего поэта прикосновение к античным пантикапейским амфорам и чернолакам, остаётся таким же свежим и полным жизни в его стихах, как и "неизменно свежий" ветер над самим Киммерийским Босфором.
Ну что же мне делать, о, милая муза,
Коль ночи над морем проходят без сна, —
И свежий, как молодость, запах арбуза
Мне снова бросает ночная волна?
Увы, никакой мемориальной доски земляку-керчанину, воспевшему свой город, поэту, чьё творчество по сути блистательно завершило Серебряный век русской поэзии, в сегодняшней Керчи нет. На месте бывшего дома Георгия Шенгели в начале Мещанской ныне возвышается остеклёнными снизу доверху стенами одно из бурно расплодившихся в последнее время заведений, завлекающее рекламой чебуреков и других радостей жизни. Захожу в стекляшку-харчевню. В двух темноватых, несмотря на сплошное наружное остекление, залах заведения отчётливо угадывается бессмертный запах советского общепита. За столиком неподалёку от входа уже расположилась в оживлённом предвкушении совместной трапезы компания из четырёх молодых людей. Несмотря на раннее время - нет ещё и одиннадцати утра - их квадратный стол тесно уставлен закусками и графинами с красным вином. Когда кое-где отодвигаются плотные оконные занавеси, солнечные лучи с улицы попадают на миг на грани винных сосудов - и призрак общепита тут же стремительно исчезает с оживающих голландских полотен.
Ну, что же, думаю, загляни сюда Георгий Аркадьевич, он бы ничуть не осудил здешних молодых да ранних виночерпиев. Жизнелюбом поэт Георгий Шенгели и сам был редкостным - достаточно прочесть его полную страсти и яркого переживания любовную лирику, где "айвовое дыхание" и "персиковое тело" возлюбленной - образы, наверняка навеянные самою щедростью керченских садов, их словно бы беспрерывным тысячелетним цветением и плодоношением. От босфорских же, словно бы вселенских, кущей, от взвешенных в воздухе памяти и фантазии Семирамидиных садов, отталкиваются, сохраняя внутри себя притяжение, и строчки других его любовных стихов:
Если тмином пахнет тело.
Если вишней дышит рот...
Так что отсутствие памятной доски поэту в его родной Керчи, этого скромного, и в общем-то формального, знака внимания, которого он, конечно, сторицей заслуживает, меня мало смутило. Не сомневаюсь ничуть, что её появление - лишь дело будущего времени и прояснения неких затуманенных умов. Куда важнее для меня, да и для любого другого читателя поэта, кто захотел бы приехать во всё ещё существующую Керчь Шенгели, иные знаки памяти о нём - дорогие его сердцу и запечатлённые в живом калейдоскопе его поэзии свидетельства длящейся истории и нестихающих человеческих страстей. Царский шелом горы Митридата с мраморными останками Пантикапея, белая крепость Еникале над искрящейся зыбью пролива, размашистая зелень керченских садов, совершенно импрессионистские по своему свету и колеру платановые бульвары Керчи, откуда по-прежнему "то пахнёт музыкой, то акацией пахнёт". Процитирую несколько своих строчек из той полдюжины стихотворений, что возникли у меня вослед двум однодневным, но весьма памятным приездам в Керчь в гости к Георгию Шенгели:
Следы умершего поэта,
сполна живущего в стихах,
искал я два последних лета
на жёлтых керченских холмах.
Искал - и в тутошней Боспорской
Элладе, в мареве царей,
и средь засилья бутафорской
туфты завравшихся идей,
средь догм, окрасивших бордюры
Керчи в кроваво-бычий цвет...
Бугрятся идолищ фигуры,
но их, пустопорожних, нет
в фактуре, в плотности столетий,
в контексте полновесных снов,
чья суть и форма - волны, сети,
шаров серебряных улов.
Я здесь нашёл следы Шенгели -
как двадцать пять веков назад,
сады сверкали, шелестели
листвой. И деспот Митридат
всё царство завещал поэту -
развалины дворца, Боспор,
Азов и Понт, и речку Лету
в тени орехов и софор...
Впрочем, моя новая поездка из Казантипа, но уже в Феодосию, через день после поездки керченской, неожиданно порадовала меня и совсем свежей новостью: на стене дома-музея Александра Грина на Галерейной улице появилась, и как раз только в этом 2012 году, мемориальная доска из серого камня с надписью о том, что здесь в гостях у А.С.Грина бывали выдающиеся деятели отечественной культуры Богаевский К.Ф., Вересаев В.В., Волошин М.А. и Шенгели Г.А. Вот ещё пара строф из той же моей шенгелиевской полудюжины стихов - вослед феодосийским новостям:
Никого я не встретил из кафских знакомых своих,
наливальщицу разве сухого вина саперави,
но зато прочитал на скрижалях понятный мне стих
о художнике слова в посмертной и мизерной славе.
На избушке музея, на серого камня доске
я прочёл, что Шенгели гостил тут проездом у Грина.
Зурбаган, халабуда поэта стоит на песке,
каждый день его вуду - от гибели на волоске...
Но лишь он - Аладдин, выкликатель огня из рутины!
(продолжение - во 2 части)
Прекрасному безумству бытия...
Дата
Две шестерни сцепили крепко зубья,
потёртого ремня шипит змея.
Но мнится мне опять, что вправду люб я
прекрасному безумству бытия.
Какая радость - утром вновь проснуться
и вслушаться в неубыванье сил!
Бессмертный кэп летающего блюдца
отлётом бы меня не искусил -
того, кто вжился в поле гравитаций,
в бодрящий хаос разнородных масс,
кто волен снова ящером плескаться,
являя мезозою кроль и брасс...
Держи свой ритм с чеканом рифмы, сердце,
и, за день уставая, чутче спи.
Измерят частоту вибраций герцы
со всей цифирью множителя "пи".
Всё длится пульс мой в бережном обмане
о том, что финиш летних лет далёк.
Всё брезжит мысль о вечном капитане.
Но мой двойник - летун, игрун на грани,
в огнистой вспышке охры мотылёк...
Подсолнухи 21 июля
А ты ведь зорок, лицедей певучий,
и ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, редкий случай
средь теноров, актёров, рифмачей.
В моём стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору, – о Винцент! – слететь с ума...
Спасибо за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. –
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
Не поздно, не поздно, Георгий!..
* * *
Поздно, поздно,Георгий!
Ты пятый десяток ломаешь...
Г.Шенгели
Не поздно, не поздно, Георгий!
Десяток страниц перечту
и веку безнравственных оргий
тебя в искупленье зачту.
Пускай властолюбье и жадность
целуют друг друга взасос.
Симметрий глубинная складность
вольна обессмертить всерьёз!
Разжижена кровь ли бензином,
ванессы ли смяты в сачках...
Но ты не убит никотином,
пловец, теоретик в очках,
чей браунинг яркой игрушкой,
как рифма, сияет на ять.
Пусть ядра под Царскою пушкой
похожи на ящера кладь.
Рептилией из гуттаперчи,
мясной анакондой Москвой -
пускай ты и пойман. Но в Керчи
на пантикапейские плечи
садится цветок твоей речи -
трепещет, летучий, морской.
Есть память дальняя - и ей не прекословь...
* * *
Но Он-то даром срока не даёт,
сверяя счёт и суткам, и столетьям.
Отары туч толкая лишь вперёд,
Он в царствии Своём мирволит детям,
глазастым человеческим птенцам.
А белых жеребят единорога
Он часто чистит сам по вечерам
суровой щёткой тщательно и строго.
И Он, на ветер не бросая слов,
и пешим чадам, и в автомобиле
дарует лишь заслуженный улов.
А там:в коня ли - корм? В тебя - дары ли?
Но в гневе и глаза Его, и рот -
мертвей, чем лунных кратеров каверны...
Ты счастлив был. Но знаешь - всё пройдёт.
И спешно смоет след твой множеств ход,
волна бездушной, ненасытной скверны.
* * *
За дальней памятью тончайшие слои
лелеют лялю, байстрючонка вдохновенья.
Сказать прямее: только любящие тени -
вот и рапсоды, и хранители твои.
Пространство душ без перерыва на обед
и без воскресного - приём гостей! - притворства
сквозь белый иней оксамитового ворса
молебном тёплым, как слезою, правит след.
Ведь всякий раз, когда ты тянешься к живым,
ловкач-хитрец всплывает рыбьим брюхом кверху,
дрожит губами и на теле рвёт прореху,
сгущая воздух в шарлатанский жадный дым,
чтоб не отдать - из летней лужи - ни глотка,
ни зимней пригоршни заблёванного снега...
Тащи по ямбам, биографии телега,
попутной песнею измятые бока!
Есть память дальняя - и ей не прекословь!
Там, за часовней, за околицей-развязкой,
сквозь шум зелёный проступает поздней лаской
сквозного веянья родительская кровь...
"Но Он-то даром срока не даёт ..." (2 часть)
"Но Он-то даром срока не даёт ..." (2 часть)
А жизненные испытания на разрыв и на излом начались для Васыля Борового ещё прежде его появления на свет.
- Отца моего убили за несколько месяцев до моего рождения, - продолжает свой рассказ Василий Иванович.
- Это был 23-й год, и по окраинам Харькова ещё вовсю гуляли разношёрстные банды, вынырнувшие из кровавой мути и грязи Гражданской войны. Орудовали они, как хотели, и очень вольготно себя чувствовали. Отец и мать, тогда уже беременная мной, сидели тем летним вечером на скамейке у себя во дворе, прямо на берегу речки Уды. И вдруг из кустов сирени, что напротив, раздались выстрелы, убившие отца прямо на месте, на его собственном подворье. Пять пуль насчитали в его животе приехавшие разбираться чекисты. Ходили по двору с деловым видом, обещали расследовать нападение, но так ничего и не установили - кто убил, по какой причине... Был один человек, говоривший, что он сможет позже рассказать что-то об этом деле, но, пока он собирался с духом, его и самого убрали, тоже при невыясненных обстоятельствах.
Так что мать поднимала меня одна, продолжала работать на канатном заводе, как и до гибели отца, там у нас на Новой Баварии, в Октябрьском районе. А работа на "канатке" считалась опасной. Там почти сплошь женщины работали. И барабаны, на которые канаты наматывались, нередко захватывали то волосы, то пальцы работниц. Такие случаи там постоянно происходили.
Там же я и в школу пошёл, в 137-ю, на улице Лассаля. Её и закончил, десятилетку.
- А дом Ваш, Василий Иванович, по какому адресу находился?
- Не помню как-то, уже не помню. Просто был дом на самом берегу речки. Наследство моё, - снова улыбается Боровой, - там у нас до сих пор кусок огорода остался. Сестра жены туда изредка заглядывает. А мы уже не выбираемся, конечно.
На долю голубоглазого и светловолосого мальчугана, которому мама так любили читать вслух стихи в доме над Удами, выпали и иные, совсем не школьные и не книжные, но незабываемые в своей жестокости, уроки. Голодомор 1932-33 годов на Украине был ничем иным, как планомерным и безжалостным уничтожение миллионов людей тотальным голодом - убийством на их собственном подворье, как и в случае с Васылёвым отцом. Таким же брутальным убийством, но только не пятью мгновенными пулями в живот от бродячей слобожанской банды, а многодневным, мучительным, воистину сатанинским измором - по приказу банды кремлёвско-великодержавной, куда более масштабной.
Харьковщина оказалась одним из тех регионов, где число погибших, точнее, уничтоженных, людей было особенно велико. О этих, теперь уже безымянных, жертвах геноцида, немало, в частности, написано на страницах книги итальянского консула тех лет в Харькове Сержио Градениго. А впечатления мальчика Васыля, девяти-десятилетного очевидца тех гибельных дней, откликнутся позже в его лагерных стихах "Вспомнилось", безыскусных и пронзительных в их обыденной и страшной правде:
Во двор въезжали с матюками
и брали, брали – всё до тла!
Под вой собачий с «кулаками»
боролась «Красная метла».
– Куда ж мы? – нет лица на маме.
Метла смеялась – и мела.
И вот канва биографии, год за годом, десятилетие за десятилетием: 23-й год - убийство отца, 33-й - уничтожение голодом и насилием сотен сородичей на глазах подростка и миллионов за пределами его зрения, 43-й - дважды в течение года взятие Харькова, проклятого места для Красной армии, ценой неисчислимых жертв, 53-й - смерть тирана и новые смуты, в том числе знаменитое Норильское восстание в Горлаге, свидетелем которого был также и его заключённый Боровой с номером Б-301 на спине бушлата (Вспоминает о номере в нашей беседе сам Василий Иванович - надо же: адрес дома над речкой выветрился из памяти, а бесовская лагерная метка навсегда врезалась в сознание). Как раз одним из требований восставших в Горлаге, звучавшим чуть ли не громче прочих, было требование снять эти инвентарные номера со спин заключённых.
- Женщин там было около десяти тысяч, в основном с Западной Украины, почти все молодые, с косами до самой поясницы, - вспоминает Боровой, - и они особенно отчаянно бунтовали, швыряли табуретками в охрану и в солдат. И кончилось тем, что покосили большую их часть из пулемётов, а вслед за этим ещё и танками подавили. Сколько людей там погибло? - Да кто их считал... Известная присказка.
63-й год, если следовать далее десятилетними шагами, - вернувшийся из лагеря в Харьков Боровой пытается работать электриком, в частности, на коксовом заводе, но встречает враждебное отношение и администрации, и гегемона - не хотят видеть рядом "врага народа". Приходится уходить. 73-й - приходится уходить и из Союза писателей, так как исключен из него в ходе очередного агрессивного приступа охоты на антикоммунистических ведьм на Украине, в ходе репрессий брежневских партийных боссов против всех, кто не хотел оставаться ниже плинтуса. Для Васыля Стуса, к примеру, арест того 73-го года закончился безвременной гибелью в мордовских лагерях.
Но удивительна особенность поэзии Борового, особенность, несомненно берущая исток в самом характере, в самой генетике поэта - у человека столь нелёгкой, более того, полной трагизма, биографии, в стихах, вместе с порывисто-бунтарским правдолюбием и обличением зла, ясно ощутимы и теплота, и кротость, и бесконечное великодушие, и какое-то одновременно скорбное и любовное отношение к дорогим ему основам бытия. То ли к родным природным, а одновременно и к духовным, ландшафтам:
Жаринка, искра зверобоя,
О как мне здесь тепло с тобою,
Где речка кроткая течёт,
Где из яруг сочится морок,
Где сотню перемножь на сорок –
И то не всем печалям счёт!
То ли к той святой женщине, его матери, которая растила его одна, провожала на смертную муку, а потом и ждала назад целую вечность, и встречала снова в том же доме, откуда уводили его палачи, встречала после десятилетия таймырских ледяных лагерей:
Вы видели мою маму? Морщинки избороздили
ласковый её облик, тишь её и простоту.
Сам Бог позавидовал, видно: пришли и сына схватили.
Нужны ж им рабы на Север – кайлом вырубать руду.
Вы видели мою маму... Вон, в одежде дырявой
Сидит она, смотрит протяжно в потустороннюю тьму.
А рядом с ней Ангел смерти, печальник с недоброй славой,
Стоит и роняет слёзы – и сам не поймёт, почему.
Истекает час с лишним нашей беседы с Боровым. Понимаю, что неверно было бы излишне утомлять собеседника в столь серьёзных годах. Вызываюсь отвезти Боровых к ним домой на проспект Гагарина. Оба сразу же и одновременно соглашаются, тем более, что возвращаться им сегодня из Дома писателей предстоит с грузом, хотя и приятным, но увесистым. Этот груз - упаковка из тридцати книг нового издания стихов Васыля Борового "Красное солнце Кайеркана", которое только что напечатано здесь же, в издательстве "Майдан" при Союзе писателей. Напечатано к уже скорому сентябрьскому 90-летию поэта.
По пути в моей видавшей многие виды трудовой "восьмёрке" заходит речь о том, что живут Боровые в своём доме на проспекте с 73-го года, того самого года, в конце которого поэта исключили из Союза писателей. Исключили почти единогласным голосованием, вместе с другим харьковским "антисоветчиком" Борисом Чичибабиным, в том самом особняке, где сегодня происходила наша беседа. Ибо сверхбдительные холуи-идеологи в партийных кабинетах, признав их обоих в очередной раз недругами партии и врагами народа, тут же спустили вниз приказ на исполнение в писательский союз послушным обладателям членских билетов с золотым орденом на красной обложке. Ну да, оказывается, происходили и другие события в 73-ем году.
- Это счастье, что ордер на нашу квартиру из Киева пришёл тогда в Харьков прямо в отделение Союза писателей. Попади он в руки к городским властям, нам бы никогда этого жилья не видать! - говорит с заднего сидения Лидия Ивановна. - А ведь жили до этого вчетвером в одной комнате - с дочерью и мамой Анастасией Петровной. И из Союза нас исключили в том же 73-ем, вот так у нас всё вместе...
- Да, как будто и перебрались недавно, а в этом доме - уже сорок лет, - задумчиво произносит сидящий впереди Боровой, - и сам не знаю, зачем я живу так долго...
- Но Он знает, Василий Иванович, - показываю пальцем вертикально вверх, - "Но Он-то
даром срока не даёт..." - припоминаю свою строчку. - И живите, пожалуйста, ещё долго. Вот ведь, сегодня Вы с новой книжкой в руках!
- Ну да, наверное, так, - легко соглашается Боровой.
Нет сомнений, что сроки и даты всех жизненных событий, назначенные Господним промыслом каждому из нас, куда справедливей и человечнее людоедских приговоров маньяка Сосо Джугашвили и всех его приближённых "тонкошеих вождей". И небом неслучайно посланы долгие годы борьбы и служения многим из тех несдавшихся, из чьей жизни вырваны целые живые десятилетия лагерями, казематами и каменными ямами. Среди людей с такой особенной, выразительно символичной судьбой и 113-летный кошевой запорожцев Пётр Калнышевский, и ученый и писатель Николай Морозов, и литературный открыватель ГУЛАГа Александр Солженицын, и писатель Олег Волков, все преодолевшие черту девяностолетия. В этом их патриаршьем ряду достойное место занимает и мужественный человек и поэт Васыль Боровой, наш сегодняшний современник.
Те сроки и срокА, что посланы ему и свыше, и от лукавого, становятся в сумме не только метафизическим, но и живым, полновесным и многозначительным, свидетельством времени. А его глубоко личностная, полная теплоты и певучести лирика обретает звучание эпоса и новой повести временных лет.
Так что, скорее всего, и он сам, вместе с высотными небесными замыслами и промыслами, знает, догадывается, зачем живёт так долго. И скорей всего, ему сейчас хотелось бы услышать от собеседника всего только слова поддержки и понимания, которыми наверняка не избаловали его миновавшие девяносто лет. Посему и повторяю ещё раз мысленно: "Живите, пожалуйста, ещё долго, поэт и летописец!"
- Cпасибо, - говорит он, когда я помогаю ему выбраться уже возле подъезда его дома из тесноватого кузова восьмой жигулёвской модели и подаю ему в руки увесистый крепкий посошок, - спасибо, я, когда уже стартую, дальше иду хорошо.
Чувство юмора явно не покидает этого удивительного человека и на исходе девятого десятка лет жизненной борьбы. Пожимаю на прощание руку Васыля Борового. И приходит ощущение того, что в сегодняшней нашей хорошей, непустой, беседе поставлена очень правильная точка. Как раз та, что связана с понятием "точность", завершённость.
Руки - сакральное в человеке, свидетельствующее о нём, так же, как сердце и глаза.
Увидев руки и глаза человека, можно почти наверняка судить о его сердце и душе.
Глаза поэта Васыля Борового по-прежнему полны поздне-небесной голубизны - приглушённого колера глубокого и словно бы уже устающего от себя самого лета. И по-прежнему они широко распахнуты в мир, как будто бы даже с некой лукавой весёлостью и рисковой порывистой отвагой.
А в руке его, одновременно и лёгкой, словно бы легчающей с течением времени, и сохранившей былую силу камнеруба-катаржанина, явственно ощутим ток ответного тепла, устремлённого навстречу моей ладони.
Сердце же вольнолюбца и драконоборца, труженика и творца Васыля Борового навсегда поселилось в его поэзии. Его стихи живут и будут жить, ибо они как горькое лекарство правды по-настоящему нужны и сегодня его материнской земле. Нужны его Украине, всё ещё обретающей свою суть в трудном и болезненном поиске. Всё ещё идущей по крестному пути - к себе настоящей, задуманной человеческим Богом.
июнь 2013
"Но Он-то даром срока не даёт ..." (1 часть)
"Но Он-то даром срока не даёт ..."
Вся биография поэта Васыля Борового - в его непридуманных стихах. В его воистину народных песнях - откровениях, инвективах и плачах - подлинная хронология страшного времени, выпавшего на долю поэта и катаржанина, и на долю его, - да нет, нашего с ним! - народа.
В не придуманных, а выдохнутых самой душой словах запечатлены, словно документальные чёрно-белые кадры дрожащей и рвущейся ленты,
картины чёрно-серо-багровых удушливых десятилетий, в недрах которых, будто бы по остаточной Божьей воле, не живут, но выживают из последних сил люди. Там движутся фигуры фантасмагорические и очень узнаваемые, там сопротивляются небытию до последней своей минуты человеческие существа, обречённые Молохом бесчеловечной системы на почти неизбежную гибель. Сказать ещё прямее - там опознаёмся мы сами, наши кровно родные, близкие и любимые. Вот, где неотвратимо: "возлюби ближнего твоего..." Ибо в этих вывернутых наизнанку беспросветных пространствах "жалеть" - и означает "любить". Иного просто не оставлено никому по ту сторону жестокости.
И вот свидетельство Борового, из самых первых рук, о нём самом и о совсем ещё недавней судьбе тысяч и миллионов его соотечественников:
Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.
Но вот скрипит горбун: "За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь - московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом."
Прочёл - и хищным высверкнул оскалом.
А за порогом грозной той тюрьмы
стоит моя матуся меж людьми
и молится: "Узри, о Боже, муки,
не дай моё дитя убийцам в руки,
как дал Ты сына своего на крест.
Ведь Ты же знаешь - здесь не суд а месть..."
А я стою - блестят штыки из стали.
Вот так меня в поэты посвящали!
- Полученный смертный приговор - рассказывает мне сегодня, в середине июня 2013-го, в год своего девяностолетия, Василий Иванович - заменили на 25 лет лагерей. Всё таки был уже не 37-й, а 47-й год. Да и рабы с кайлом в руках Сталину были очень нужны. С этим приговором и отвезли меня на берег Ледовитого океана в лагерь № 18 в Кайеркане. При первом взгляде то было абсолютно гиблое место. Часть своего срока отбывал я и в знаменитом Горлаге в самом Норильске.
- И что же означает на тамошнем языке Кайеркан? - спрашиваю поэта, смертника 47-го года, вопреки всему ведущего со мной беседу и ныне, по истечении 66 лет.
- Кайеркан - это "смерть в рассрочку" - мгновенно и с коротким проблеском улыбки реагирует на вопрос Боровой. Так говорили заключённые в том лагере. Ну, а точнее, на языке живущих в тех краях ненцев-долган это означает "долина смерти". Да, а когда в 53-ем году умер Отец народов, приговор мне скостили уже до десяти лет. Вот так, на десятом году, только в 56-ом и вышел я из лагеря на свободу. Возвратился в Харьков.
Добавлю от себя, что Указ от 25 мая 1947 года «Об отмене смертной казни» появился "на просторах родины чудесной" не случайно, а именно по названным Васылём Боровым причинам - ради интенсификации рабского труда заключённых, так как расстрел стандартно заменялся на 25 лет лишения свободы, то есть каторжных работ, с последующим поражением в правах сроком на 5 лет. Этот последний довесок наказания - уже для тех немногих, кто смог бы выжить после четверти века жестокой ледяной каторги. Не указ, а произведение садистского искусства, то, что теперь принято называть - простенько, но со вкусом...
А что касается Кайеркана, то ныне, вместе с другим гиблым районом таймырской вечной мерзлоты, Талнахом, он приобрёл красивый статус района-спутника Норильска, никелевого города, въезд в который разрешён иностранцам и сегодня только по специальным разрешениям местных властей.
Встречаемся мы с Боровым в здании Харьковского областного отделения Союза писателей Украины, в двухэтажном особняке на Чернышевской улице. Тут же, в этом же зале заседаний на первом этаже, в большой комнате с камином, пересекались мы с ним в минувшие годы десяток раз на писательских собраниях. Общались, не более, чем здороваясь. И сегодняшний наш с ним разговор - первый за все эти годы знакомства на расстоянии. Повод для встречи - мои переводы на русский язык семи его стихотворений, возникшие буквально на днях.
Это моё желание перевести Борового возникло спонтанно и неожиданно для меня самого, когда, перелистывая страницы попавшего мне в руки, из миллионного развала домашних книг, сборника "Святогоры", я прочёл именно это, приведенное здесь выше, ни на йоту не придуманное, стихотворение "Судилище". А затем и "Мир в слезе", и "Не рыдай мене, мати..." потребовали от меня не только по-настоящему вчитаться и вчувствоваться в поэзию Васыля Борового, но и обратиться с переводами его стихов к русскому читателю. И конечно, возникло у меня отчётливое желание узнать о его человеческой истории больше, услышать о нём из его же уст.
Боровой появляется на нашей встрече вместе с женой, лёгкой и сухощавой женщиной с забранными под платок волосами, чрезвычайно активной и подвижной для своих 82-х лет.
- Лидия Ивановна. Ивановичи мы, - говорит она, знакомясь, - я вам не помешаю? И услышав в ответ, что нет, конечно, нет, тут же охотно включается в беседу.
- Расскажи, расскажи, как ты замёрзнуть решил! - бодро наседает она на мужа, когда я прошу его вспомнить о лагерных днях. Василий Иванович однако и сам готов поделиться давними воспоминаниями, судя по оживлению, появившемуся на его лице.
- Жалко, что мы не встретились с Вами раньше, когда я только вернулся оттуда. Тогда я бы мог многое Вам рассказать. А сейчас память уже слабеет... Да, скажу о том, как я решил замёрзнуть. То, что хлеба не хватало в лагере в Кайеркане, меня не пугало. Я к этому с детства привык. Мы с матерью вдвоём жили очень бедно. Но постоянные издевательства, злобные матерные окрики и угрозы надзирателей, тупые запреты на каждом шагу - словом, всю эту жизнь, беспросветную, как тамошняя полярная ночь, терпеть уже не было сил. И я решил, что лучше умереть. Поговорил с солагерниками - сказали, что легче всего просто-напросто замёрзнуть.
Вот я и отошёл в сторону во время работ, сел незаметно в траншее и притаился. Закрыл глаза, чтобы поскорее заснуть. Сначала сидеть без движения было очень холодно, там морозы иногда и до шестидесяти градусов доходили. Сидел, изо всех сил терпел. А мороз драл нещадно, до самых костей. Потом вроде бы легче стало, и я заснул.
Но не смертным сном, как хотел.
Проснулся внезапно оттого, что надзиратель изо всех сил ударил меня кулаком в лицо, а потом ещё и пару раз прикладом по спине добавил. Им ведь приказано было лагерных рабов, даровую рабочую силу беречь. За каждого по счёту отвечали. Если что случалось, их к ответу привлекали, докапывались, что да как... Это вот только когда заключённый, решившись на самоубийство, объявлял вслух: "Охрана, иду!" и переступал запрещённую линию, вот тогда они уже стреляли смело на убой. Им за это премия полагалась, за предупреждение, якобы, побега...
Так вот и не удалось мне тогда замёрзнуть. Но заснуть оказалось и вправду совсем не больно, не страшно - закончил Василий Иванович снова с короткой и задумчивой полуулыбкой.
- Но поэзия Вас там спасала?
- Да, спасала. Я был там просто переполнен стихами. Только этим в Кайеркане и жил. И там мне лучше всего в моей жизни писалось. Хотя лагерными правилами строжайше запрещалось и читать, и писать. За это виновным срока добавляли, и ещё какие! Но я сначала стихи записывал на клочках бумаги от цементных мешков, а потом, когда с работы возвращались в лагерь, прятал их в снег, прямо в снег, поглубже. Так что, если туда сейчас приехать, то в этом снегу, в вечной мерзлоте, можно мои стихи и сегодня отыскать - опять на секунду улыбнулся Боровой.
- Так можно сказать, что большая часть Ваших стихов написана в лагерях?
- Да, и не большая часть, а почти все! - порывисто, и как-то совсем уже молодо, восклицает мой собеседник.
Может быть, Васыль Боровой и не очень точен численно в этом утверждении. Книги у него выходили нередко. И в Киеве, и в Харькове, вышло около двух десятков сборников, и стихи в них печатались написанные в разные годы, в том числе и в послелагерные. Но, конечно же, поэт прав в главном, прав по существу - там, на гиблом краю земли, на катаржанском берегу Ледовитого океана, им написаны самые важные его стихи, те, что спасали и спасли его самого от гибели, те, что остаются и сегодня "человеческим, слишком человеческим" свидетельством вчерашнего напрочь бесчеловечного и жестокого социального псевдопроекта. Остаются прямым определением и вчерашнего, да и по многим признакам, ещё и сегодняшнего, безумия и мракобесия.
Я бы сказал, что стихи подобного трагического реализма, строки Васыля Борового и Варлама Шаламова, строки "Красных помидоров" и "Махорки" Бориса Чичибабина, несут в себе явно ощутимую интонацию Евангельского, библейски стратегического миропонимания. Это не только стихи о псах-вертухаях, оборотнях-следователях и о рябом кремлёвском Чингизхане, это поднятые из невнятных глубин на поверхность смысла притчи о извечной, непримиримой и никогда неослабевающей, борьбе добра и зла, жизни и небытия, Бога и дьявола. Это оплаченное полнотой и чистотой страданий опознание и окликание по имени решающих понятий и ценностей.
Вывели из дому. Ой, не вернусь!
В ночь отступает родная околица.
За Украину - сынов твоих, Русь, -
Матушка, став под иконою, молится.
Сон нависает над шляхом замком.
С шорохом вслед мне осока склоняетcя.
Белым платком, по-над крышей дымком,
Отчая хата со мною прощается.
Пронзительны, при том, что теплота и кротость голоса тоже присутствуют здесь, эти лаконичные строки воспоминаний Васыля Борового о своём аресте, о жуткой минуте жизненного катаклизма. И этот, уже никогда впредь не покидающий сознания, внутренний стон возникает снова и снова и в других его стихах, таких, например, как "Грюкнули в двери", где мать в отчаянии взывает к вооружённым чекистам, уводящим, скорее всего на погибель, её единственного сына:
За что? Школяр и сирота.
Росло без батька и без хлеба...
О том своём аресте 47-го года Василий Иванович вспоминает ещё раз и в нашем разговоре.
- Когда меня двое чекистов пришли арестовывать и вывели из дома, один из них мне сказал, ткнув рукой в наше открытое окно: "Да тебя за такие стихи надо прямо здесь, на этой раме, повесить!"
- Так зачем же дело стало? - говорю ему, - Давайте, исполняйте поскорей!
- Ну ты посмотри, какой же он наглый! Вместо того, чтобы прощения просить, он ещё больше нарывается.
- Прощения. Да что вам объяснять. Вы и не поймёте, и не посочувствуете, - закончил уже задумчиво и с печалью Боровой. Шестьдесят шесть лет миновало с того позднего вечера ареста, а печаль безвременна и исчезнуть никуда не смогла. Вот и вернулась на секунду, и прозвучала сама собой в уже усталом девяностолетнем голосе. Между тем голос поэзии этого человека, с судьбой, равной символу, остаётся по-прежнему недрогнувшим и несдающимся.
И стихи этого поразительно жизнестойкого поэта-каторжанина c расстрельным приговором за плечами свидетельствуют определённо не только о семидесяти годах, - а для верности скажем, о столетии, - безбожия, тотальной лжи и невиданного террора в отдельно взятой, пусть и до глупости бескрайней, стране. Не только о маленькой, легче птичьего пера, маме Анастасии Петровне, оплакивающей на берегу речки Уды своего Василька с волошками-очами. Это одновремено и стихи о вечном Ироде, о ежедневно и повсеместно распинаемом Христе. Это и библейское слово-весть о Матери и о Сыне:
То ли сон, то ли нет? Шелохнуться боюсь я...
Где-то печку топить начинает матуся.
И слезятся печальные очи любимой -
то ль от дум обо мне, то ль от едкого дыма.
Глухо хворост трещит. Время искрами скачет.
Золотинками слёз печка с мамою плачет...
Долго молится мать - обо мне в Норильлаге,
где сполохи небес багрянеют, как флаги.
Полночь к маме сошла, как апостол с иконы.
Тяжки, Боже-Христе, в Твоём мире законы!
...Вскинусь с нар, как из гроба - до боли в утробе:
"Не рыдай меня, Мати, зрящи во гробе".
( продолжение во 2-й части)
Альтовые круги шмеля...
Жуки-олени
Пионерского рапорта лжегосударственный пыл.
Активистов румяных напыщенная вереница.
С кумачовою грудью плеяда наставниц-кобыл:
ноги в кедах китайских, распахнуторотые лица.
Сколь несносен я им и себе самому незнаком,
сколь убогой сумятице верных шагов непокорен!
Вскормлен жижей компотной, перловым жлобом-черпаком,
карбонарием мечен и смутою порчен под корень…
И когда нас под флаг барабанное утро ведёт,
в черепахе приблудной отрядной сгущается ужас –
под фанерною тумбочкой синей страдалица яйца кладёт,
и морщинистой шеей, и битумным панцирем тужась.
Размягчает мозги лазаретно-карболовый быт,
серебрянкой замазаны шрамы цементных горнистов.
-Оторвусь! – чем сильней их казённое тело свербит,
-Улечу! – тем натужнее взор их бараний неистов.
Убегу – за шершавым забором, в лесу, я уже не один.
Там дубовую кровь пьют жуки, рогоносцы-олени.
Атакующих лбов напряжён густо-красный хитин,
что бодает ладонь и прохладою входит в колени.
Улечу и на лагерный час, и на целую жизнь убегу –
как хмельны эти соки в кленовых и вязовых жилах!
Бык вишнёвый молчит опьянев, - ни шу-шу, ни гу-гу…
Только я-то всё знаю о взлётных подпочвенных силах.
* * *
В июне вынянчил лопух
листы в серебряной опушке.
Сквозь шалый тополиный пух
гудят весь день шмелей пирушки.
Кому-то – жар, иному – зной,
а сам я – фрукт солнцестоянья,
и всё щедрее надо мной
горячих полдней ликованья.
И не сказать, как хороши
июньских ливней перебежки,
что с цвета лип, с ветвей души
смывают трезвости издержки.
Искрись, прохладное вино!
Клянусь, что в жаркую погоду
и духу радостно оно,
и дарит брызги вольт катоду
или канону языка...
И в этих искрах - привкус солнца,
и вторит с перышком рука
клавирам, клиньям вавилонца.
Плодись, июньская земля.
Пока мы живы, мы не стары! –
Об этом – Моцарта ля-ля,
альтовые круги шмеля
и всех хореев тары-бары!
О поэте Арсении Тарковском (2 часть)
КАСАНИЕ ТРАВЫ МОЛОЧНОЙ
Арсений Тарковский и его украинские истоки
(2часть)
. . . . . .
Взаимопроникновение этих разнородных, на первый взгляд, ландшафтов становится непредсказуемо плодотворным. В том же сферическом обзоре птицы, «долетевшей до середины Днепра», в ракурсе то ли гоголевском, то ли куиндживском властно присутствует, кроме дыхания вечного пространства, и метафора бессмертия мятежно-смиренной ипостаси человеческого духа:
Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стременах...
Строки этих мудрых стихов Арсения Тарковского, словно уравновесивших человеческую мятежность и смирение, звучат, произнесённые голосом самого поэта, как принято говорить, «за кадром» в фильме «Зеркало». Именно эта кинолента мне лично всегда казалась самым цельным, художнически выверенным и в то же время самым естественно-выдохнутым и дорогим для его создателя фильмом Андрея Тарковского.
«Да будет вам известно, я снимаю сейчас свой лучший фильм», – как-то обмолвился он на съемках «Зеркала»... Пространство этого киношедевра не наполнено – переполнено светящимся воздухом, влажным ветром, бегущим по некошеной траве, звенигородскими летними дождями, падающими на языческие зеленя. Оно плотно, не оставляя ни единой смысловой щели в объеме замысла, наполнено всеми четырьмя стихиями: воздухом, водой, огнем и землей. Вот под спелыми дождевыми водами небесными, падающими сверху вниз, устремляется от земли к небу, навстречу дождю, снизу вверх, пламя от охваченного пожаром сеновала. Следующие кадры дают наложение на ровный гул пламени, на голос огня, звучание одного из голосов воды – это жалобным плачем погорельца поскрипывает-повизгивает ведро на журавле колодца, стоящего вблизи сеновала.
«Криницы» – именно так, в украинском и старорусском произношении, неизменно повторяет в десятках своих заветных поэтических метафор Тарковский-отец. Криницы, да еще нередко и небесные криницы, неутомимо являются из его солнечно-южного, приингульского прошлого, чтобы стать прозрачной, молчаливо-звучащей плотью поэзии.
Должно быть, в том же эмоциональном ключе осуществляется в «Зеркале» многократное повторение, варьирование – дабы полней и любовней вобрать и в зрачки, и в ноздри – воздушно-световых кубов комнат, горниц бревенчатого дома. Дедовского дома, где довелось родиться, дома, стоящего на прапрадедовой земле, посреди кровно родных четырех священных и всеобразующих стихий. Полнота естественного эллинизма, преломленного в своем глубинном, наследственном язычестве, утверждается здесь без единой ноты фальши, без аффектации, нажима – лишь на вдохе и выдохе беззвучной, но и неизбывной, генетической памяти... Да, воздушно световые кубы комнат, светлиц-полутемниц, являющиеся раз за разом. Интимно-бесценное человеческое пространство, в котором объектив постоянно устремляется из полутьмы к вертикальным прямоугольникам окон – навстречу то льющемуся, то сочащемуся из них свету. Окна – распахнутые, с развевающимися от порывов ветра занавесками, окна, где на подоконнике по-детски смиренно почивает мудрая старая книга или яблоко.
Я читаю страницы написанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык.
Окна, преломляющие впущенные ими световые лучи через стекло и воду округлых плавных кувшинов с полевыми цветами, словно примиряя стихию солнечного огня и плененную в сосуде стихию воды. Все эти безмерно притягательные атрибуты-символы человеческого жилища – еще одна из ключевых метафор отца и сына Тарковских. Истинные художники, оба они обращаются к привычным, наиболее емким образам-символам.
Ибо это окна, отворяющие выход душе в ту живую бесконечность мира, где с каждым новым рождением «все еще впереди и все еще возможно»... Ибо это окна и человеческого дома, и самого человеческого существа. И способны они как впустить в сокровенное обиталище заряд свежего ветра снаружи, так и отразить своим зеркальным стеклом лицо, взгляд и излучение души своего обитателя – хранителя и суверена.
Глубиннейшая, всегда живая и живородящая метафора. Собственно, эти окна – тоже из породы тех «небесных криниц», что не устают светиться снова и снова в стихах Арсения Тарковского:
Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи – на что же
Мне тишина травы и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых.
В многозначный философский контекст «Зеркала» естественно включена простая земная история о любви Марии и Арсения, матери и отца главного героя. О любви, которая дает жизнь двум детям, но затем, не выдерживая натиска обстоятельств, приходит к разрыву, и разрушению семьи. Тревога разлада постоянно включена в сознание взрослеющего мальчика Игната-Алексея, Игната-Алексея-Андрея. Суровый, черно-белый, исторический фон – еще один слой картины, взаимодействующий с лирическим и философским измерениями.
Через густо-зеленый последождевой луг Тучкова-Завражья-Звенигорода ведет мальчика и его сестру мать-бабушка, мать-бабушка-праматерь. Двойное, тройное слоение имен и лиц персонажей еще раз, едва заметным штрихом, подчеркивает то состояние полусна-полуяви, в котором пытается обрести и осознать себя душа взрослеющего подростка.
Так же, как много в «Зеркале» воздуха и света, много в нем тишины. Тишина эта почти не впускает в себя псевдослова, сотрясения воздуха, лишь иногда сгущаясь в близкое к ней по совершенству звучание музыки Баха, Перголези, Перселла. Четырежды, по числу мотыльковых крыльев, возникает совсем не «за кадром», изнутри светящегося пространства фильма голос Арсения Тарковского, возникает достойное камертона Иоганна-Себастьяна Баха звучание его поэзии:
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин, – когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
Мелодика этого голоса, доносимая сыновьим «Зеркалом», – и завораживает, и кажется очень знакомой. В ней – плавная распевная интонация уроженца Украины, Перворуси. Этот голос, глуховатый, как бы обращенный внутрь самого себя, явственно ведет и в глубины иные – к истокам языка, рода, характера, души. И, скорее всего, ведет он к берегам днепровским – к самому что ни есть раннему, Иванову детству, во времена – до Рюриков еще, до монгол, до вавилонских смешений. Неслучайность голоса, стратегическое наполнение интонации расширяют пределы – физические, исторические, временные, философско-лирические.
По воспоминаниям Николая Бурляева(Иван в «Ивановом детстве», Бориска в «Андрее Рублеве»), Андрей Тарковский Арсения Александровича «боготворил вдвойне: как поэта и отца». Здесь же приведу еще одну примечательную фразу из воспоминаний Бурляева об Андрее: «Ничего не удовлетворяло его в современном советском кинематографе. Помню его положительные, иногда восхищенные суждения лишь о Довженко...». Думаю, что имя Александра Довженко так же появляется здесь совершенно неслучайно – он сам и его фильмы несут в себе то же страстное желание вслушаться в пранитонацию, в первичную речь, звучащий и безмолвный метафоризм человеческого бытия.
Такой же живой, фактурной, человеческо-типажной метафорой для Андрея Тарковского, полагаю, был киевский актер Николай Гринько – единственный из актеров участник всех его пяти фильмов, вышедших на экран в Союзе до отъезда режиссера за рубеж. Гринько, высокий, худой, напоминает своей фигурой те одинокие деревья, которые появляются в финальных кадрах «Иванова детства» и «Жертвоприношения». И он же, несомненно, выглядит типажом из тех времен и земных лон, которые постоянно возникают в стихах-снах, в образах-воспоминаниях Арсения Тарковского. Большелобое, удлиненное лицо, в глазах – чуть усмешливый ум и доброта. Нет, не икона, но облик негромкого достоинства и многоколенного добатыевого, надежно-отстоявшегося благородства, облик еще не оскверненной временем и страстями Перворуси.
Думаю, что, обладая совершенным музыкальным и общехудожническим вкусом, Андрей, сын Арсения, ощущал и понимал генетическую неизбежность появления в его фильмах и стихов его отца, положенных на мелодику многовекового плач-голоса, и лица Николая Гринько, иного солдата и отца, перед которым в «Солярисе» благоговейно по-сыновьи становится на колени Крис-Банионис. Такие голоса и такие лица и есть самая живая и неподдельная Велесова книга, самый надежный оригинал «Слова о полку Игореве».
Боготворить – громкое и потому, видимо, в очень редких случаях точное слово. Не могу не понимать, что Арсения и Андрея не только объединяла уникальная – и кровная, и творческая – любовь-дружба, но объединяли-разъединяли импульсы бытового притяжения-отталкивания – в силу тысяч подробностей несовершенства людей и их мира.
И все же любовь, пусть с ранами и ссадинами, превыше всего иного. И потому в финале фильма «Зеркало», полифонического, многомерного произведения искусства, снова звучит нота, которая, как и сам фильм в целом, по большому счету принадлежит одновременно и сыну, и отцу. Арсений, прежний, молодой, обращается к прежней, молодой Марии, ожидающей их первенца, тем же знакомым голосом, глуховато-псалмопевческим, словно бы обращенным внутрь себя. Обращается к ней, бывшей жене, оставленной им уже сорок лет назад, с вечно молодыми и бессмертными словами: «Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?» Ибо продолжает любить и сейчас, вопреки всем утратам и безвозвратности, их неодолимо-общее прошлое.
Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов, и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд,
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы. В городе звонят.
Светает. Дождь идет, и темный,
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад.
Это физическое ощущение дорогого прошлого, ностальгия по его вещим снам и останется хлебом и водой, «камнем возле жасмина», «молочной травой» реального настоящего и более мудрого будущего. Ведь никто еще не сумел разделить время, разрезать его по живому. Потому и продолжаем мы все жить одновременно по обе стороны зеркального стекла.
О поэте Арсении Тарковском (1 часть)
Сегодня, 25 июня, в день рождения прекрасного русского поэта
Арсения Александровича Тарковского, размещаю на сайте свой очерк о нём
КАСАНИЕ ТРАВЫ МОЛОЧНОЙ
Арсений Тарковский и его украинские истоки
Споры исследователей о том, откуда берет начало древний род Арсения Тарковского, продолжаются и до сих пор. Но хорошо известно, что выдающийся этот мастер русской поэзии родился и вырос на Украине. Малая родина творческого человека чаще всего остается для него главной внутренней опорой на всю жизнь. Связанное с отчим домом, с первозданным светом и воздухом чувство рождения и обретения мира по остроте и яркости, по своему животворному потенциалу несравнимо ни с чем иным, приходящим позже.
Детство – это именно то живое прошлое, в котором с лихвой, со щедрым запасом заключено будущее, все слои и измерения еще только-только намеченного и потому столь многовариантно-возможного осуществления души. Это плотно вложенное само в себя, неразвернуто-слоистое предбудущее человека – во многих смыслах и богаче, и полнее, чем будущее реальное, материализуемое день за днем и приобретающее статус биографии.
И блажен тот, с кем детское ощущение необъятности каждого нового дня остается надолго, навсегда. Присутствие подобного ощущения – качество истинно поэтическое. Из русских поэтов, пронесших пронзительную интонацию первоистока, детства-рая от начала до конца творческого пути, вспоминаются в первую очередь трое: Бунин, Набоков, Тарковский. Сказано: чтобы понять поэта, надо ехать на его родину. Для человеческого и художнического характера Арсения Тарковского это утверждение представляется особенно справедливым.
Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней –
Вьющиеся розы,
Молочная трава.
Никогда я не был
Счастливее, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливее, чем тогда.
Вернуться туда невозможно.
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.
Эти исполненные предельной простоты слова, словно бы отстраняющие от себя, как святотатство, любой намек на фальшь, на украшательство, написаны Арсением Тарковским в 1942-м военном году о своей родине, украинской земле, о белом летнем дне в Елисаветграде, где поэт появился в 1907 году и прожил первые 18 лет своей жизни. Вне всяких сомнений, первые годы земного бытия «от рождения до юности» для каждого человека – самые судьбообразующие, определяющие и характер и будущий путь. Тем более для такого художника, как Тарковский, наделенного ярко выраженным Божьим даром, важны в высшей степени его ранние времена, когда дар внутренний, личностный вступает в праздничное и счастливое взаимодействие с даром внешнего мира – распахнутого и необъятного. Для Арсения Тарковского этим первичным внешним миром, несущим мощно-солнечную, вполне эдемическую, доминанту, был и навсегда остался в его стихах – мир украинского юга, лоно и воздух которого отмечены преимущественно белым, зеленым, золотым, синим колерами. Красками, слагающими спокойную и негромкую гармонию, медленно меняющуюся, подобно неторопливому течению здешней «реки Сугаклеи, что уходит в камыш»... До вторжения в жизнь кричаще-красного цвета, кумача разверстой пасти Молоха, взыскующего кровей, до черного и промозгло-серого времени лишений, нищеты, смертей у мальчика, родившегося 25 июня 1907 года, оставалось еще целых десять с лишком лет золотого детства и отрочества.
Внутренний заряд жизнестойкости личности, получаемый и до рождения, генетически, и с рождением, через механизмы психологии и первичные импульсы социума, в результате все же вполне определим как более или менее крепко организованный инстинкт выживания и самореализации. В формировании такого внутреннего заряда, такого характера, сказать бы – не высшей категории сложности, и фактор пространственной малой родины, исходный возлюбленный клочок почвы, и фактор временной: пять-семь лет почти очевидной детской гениальности – сенсорной, реактивной, динамической – играют не очень заметную роль.
Иное дело – прорастание и формирование характера художника с его потребностью во внутренней опоре, потребностью и способностью оправдания жизни и привнесения в нее тех или иных – но выстраданных, личностных! – смысла и гармонии. В этом случае временем действия, днями мозгового и сенсорного штурма, днями обретения – и еще никак не утраты – земного, вселенского, рая, определяется почти все, что будет с поэтом в дальнейшем – проживи он до 82-х лет, как Арсений Тарковский, или до 78-ми, как Владимир Набоков.
Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло, и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной, –
Свистели флейты ниоткуда,
Кричали у меня в ушах
Фанфары, и земного чуда
Ходила сетка на смычках...
Так же, как определяется многое, очень многое, в характере поэта, в его интонации, в его цветовой, звуковой, фактурной – в итоге, речевой гамме, – местом действия, точнее, в этом случае, местом действа, мистерии, со всеми обстоятельствами и подробностями человеческих взаимодействий. Для наследования из детства не только внутреннего энергетического заряда привилегии, скажем, борца и обтекателя гармонии, но и внутренней правоты, духовной опоры создателя гармонии – художника, поэта, музыканта, – исключительно важна нравственно-этическая и эстетическая, да и метафизическая, исходная поддержка. Важна именно в ранний период прорастания духа, творческого дара.
Такая счастливая поддержка времени, пространства, почвы, любящих родителей, мудрых старших друзей у Арсения Тарковского в его незабываемом украинском детстве была. Было прикосновение той навсегда сохраненной им в памяти молочной травы, чье млеко – сродни материнскому, сродни мерцающей субстанции Млечного пути, питающей возвышенную душу.
Здесь на малой родине, под открытым дневным и ночным небом южной степи, все более заметно клонящейся к Тавриде и Понту, родилась и окрепла та всегда узнаваемая интонация космизма, которая присутствует в большей части стихотворений Арсения Тарковского:
Дохнет репейника ресница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло.
И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням...
Здесь, именно здесь, где «бабочки садятся к нам на плечи, и ласточки летают высоко», эта интонация взлетности, включения в распахнутость ойкумены приобрела такую естественность дыхания, такую неподдельно-личностную окраску, что, понимая справедливость и высший смысл феномена наследования этого образного ключа младшим Тарковским, кинорежиссером, поражаешься в то же время цельности, неискаженности, воистину двуединству этого исследования.
Полагаю, не будет преувеличением утверждение, что уникальная двойная звезда Тарковских, отца и сына, впервые явственно засветилась над южным градом Елизаветы именно в те годы мальчишества Арсения, когда ощутил он пульсацию дара, волхование крови внутри себя, почувствовал властное и окрыляющее дыхание судьбы над собою.
«Звездное небо над ним и нравственный закон внутри нас...» – так, помнится, определил Иммануил Кант два важнейших для него понятия.
Я не в младенчестве, а там, где жизни ждал,
В крови у пращуров, у древних трав под спудом.
И целью и путем враждующих начал,
Предметом спора их я стал каким-то чудом.
Так когда-то, во время своих странствий по «вечной Руси», ощутил и Райнер Мария Рильке дыхание «живого космоса» именно здесь, в полночной степи Украины. Ощутил, по его словам, что «видит вещи глазами Бога-Творца». И именно эти необычные впечатления сыграли огромную роль в дальнейшем творчестве поэта.
Итак, Елисаветград, начало ХХ века. Арсений Тарковский родился в дворянской интеллигентной семье, множеством нитей связанной с культурной жизнью города, именно в эти годы переживающего некий особый бум увлечения искусствами, в особенности театром. Отец поэта Александр Карлович, образованный, владеющий множеством новых и древних языков, еще до рождения Арсения отдал дань порывам народничества, за что поплатился тремя годами тюрем и пятью годами сибирской ссылки. Если именно с Арсения в роду Тарковских началось сгущение поэтического вещества до вполне звездной плотности, чтобы потом в той же, не меньшей, концентрации передаться языку кинолент сына Андрея, то в дворянине-народнике Александре Карловиче Тарковском эта поэтическая материя, также несомненно присутствуя, определялась скорее стадией млечного брожения, фазою разряженной плазмы. Он писал стихи, переводил «Божественную комедию» Данте, вернулся из сибирской ссылки с завершенной дневниковой прозой «Сибирские очерки», которая в 2002-м году, спустя более века после написания, опубликована фондом Андрея Тарковского. Будучи богато одаренным человеком, он обладал взрывным, крайне независимым характером. Этот неукротимый его нрав передался и старшему брату Арсения Александровича, Валерию, который в шестнадцатилетнем возрасте погиб в кровавой буче Гражданской войны в 1919 году.
Украинское, человеческое и общекультурное, окружение семьи Тарковских оказало очень существенное влияние на будущего поэта. Ни много, ни мало – мужем старшей сестры Александра Карловича, Надежды, и опекуном самого отца Арсения Тарковского был Иван Карпович Тобилевич, он же Карпенко-Карый, известнейший украинский драматург, автор многих пьес, актер, театральный деятель, усилиями которого, совместно с Марком Кропивницким, был создан в Елисаветграде первый украинский профессиональный музыкально-драматический театр. Далекое, через столетие, эхо этих трудов прозвучало в 1982-ом году, когда по решению ЮНЕСКО во всем мире отмечался юбилей украинского национального театра. В честь Ивана Тобилевича и его жены, Надежды Карловны Тарковской-Тобилевич, тетки Арсения, музей украинского театра в Елисаветграде назван «Хутор Надия».
Здесь, в бывшем родовом имении Тарковских, перешедшем к Надежде от ее отца, деда поэта, Тобилевичи с давних пор и до сего дня высаживают именные деревья. Рядом с одним из них – крепким, сорокалетним уже дубом – на металлической табличке надпись: «Дуб «Лицар», посаджений у 1964 році на честь світлої пам’яті О.К. Тарковського».
Верится, что и дерево светлой памяти поэта Арсения Тарковского рано или поздно поднимется над молочной травой его детства и юности здесь, на украинской родине, в Елисаветграде. Ведь так много стволов, ветвей и крон, живых и незабываемых, молчаливых и шепчущих поэту тайные ключевые слова, пришло в его стихи, оттолкнувшись однажды от сокровенных земель на берегах Ингула!
Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В ее лице свое узнав.
И собеседник и ровесник
Деревьев полувековых,
Ищи себя не в ранних песнях,
А в росте и упорстве их...
Еще одной колоритной и значительной личностью, осветившей своей доброй аурой ранние елисаветградские годы поэта, был близкий товарищ его отца по сибирской ссылке, врач А.И. Михалевич, один из основателей просветительской организации «Громада», активно работавшей над переводами мировой художественной и научной литературы на украинский язык. В своей прозе уже на склоне лет Арсений Александрович тепло вспоминает этого незаурядного человека:
«Я очень хорошо помню доктора Михалевича. С Афанасием Ивановичем Михалевичем отец был в ссылке, в Тунке. Он был сослан по делу украинских социалистов.
В мое время он был сед той сединой, которая не оставляет ни на голове, ни в бороде, ни в усах ни одного темного волоса; роста он был высокого, голубоглаз, – глаза его были добры до лучеиспускания. Волосы делились пробором слева. Летом он ходил в белой широкополой кавказской шляпе, чесучовом пиджаке, с палкой. Он был врач. Он лечил меня в детстве. От него пахло чистотой, немножко лекарствами, белой булкой.
Я много болел, и мне прописывали много лекарств. Он отменял их все и лечил меня чем-то вкусным, на сиропах. Ничего, я выжил.
Афанасий Иванович был сковородист. Он почитал память старчика Григория, но религиозен, во всяком случае слишком религиозен, не был. А, может быть, и был, но не в большей мере, чем другие наши знакомые. Отец рассказывал, что в Тунке, где они жили вместе, он будил его по ночам:
– Александр Карпович, вы спите?
– Сплю.
– Ну, спите, спите.
Еще он любил, также по ночам, играть на скрипке и петь псалмы. Учился он, кажется, в духовной семинарии.
Он был несчастен в личной судьбе. Это касается его детей; жену он очень любил, как и она его. Он женился в ссылке на крестьянке, воспитал ее, обучил грамоте. Она была очень умна, у нее глаза, казалось, видели тебя насквозь».
Первые книги были подарены шестилетнему Арсению Тарковскому доктором Михалевичем: томик Лермонтова и сборник странствующего философа Григория Сковороды. Поэт вспоминает, что в детстве не слишком рьяно тянулся к книгам, но каждый раз с нетерпением ожидал новых рассказов и сказок няни – стало быть, и Арсения Тарковского не минуло инициирующее касание своей собственной степной Арины Родионовны.
Вряд ли прочел Арсений сковородиновские «Божественные песни» или басни в шести-семилетнем возрасте, но наверняка позже, взрослея, не раз раскрывал подаренную Михалевичем книгу и на всю жизнь, как свидетельствует он сам, полюбил старца Григория Сковороду, скитальца и песнопевца:
«Я узнал о его существовании, когда мне было семь лет... Мой отец, народоволец-восьмидесятник, находился в ссылке неподалеку от Якутска и там подружился с украинским социал-демократом Афанасием Ивановичем Михалевичем. Когда срок их пребывания в суровом краю истек, Михалевич решил вернуться вместе с отцом в наш город Елисаветград – ныне Кировоград. Вот он-то и читал мне Сковороду – басни, лирику – и много рассказывал о его скитальческой жизни. Лирники на Украине пели его песни, которые глубоко ушли в народ. Чудо какое он сам и его творчество! Я очень люблю его перечитывать».
Уже почти семидесятилетним человеком, на склоне лет, в 1976 году Арсений Тарковский снова поворачивается лицом и сердцем на юг, снова обращается к святой для него памяти детства и юности и создает два стихотворения, в которых полной грудью дышат степным воздухом и сама история, и его личностная сыновья любовь. Это стихотворения «Григорий Сковорода» и «Где целовали степь курганы...» со сковородиновским эпиграфом-автоэпитафией «Мир ловил меня, но не поймал». Общим же эпиграфом к этому диптиху,наполненному дыханием полуденных просторов, вполне могли бы служить слова другого знаменитого писателя, Владимира Винниченко, тоже елисаветградского уроженца: «Я родился в степях... В тех теплых степях кровь моя и душа моя...»
Не искал ни жилища, ни пищи,
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
Изо всех государей Псалтыри.
Жил в сродстве горделивый смиренник
С древней книгою книг, ибо это
Правдолюбия истинный ценник
И душа сотворенного света.
Есть в природе притин своеволью:
Степь течет оксамитом под ноги,
Присыпает сивашскою солью
Черствый хлеб на чумацкой дороге,
Птицы молятся, верные вере,
Тихо светят речистые речки,
Домовитые малые звери
По-над норами встали, как свечки.
Но и сквозь обольщения мира,
Из-за литер его алфавита,
Брезжит небо синее сапфира,
Крыльям разума настежь открыто.
И не могу удержаться от того, чтобы снова не перечесть и хотя бы наполовину не процитировать второе из этих двух стихотворений – четырехстопные ямбы, исполненные пушкинской ясности и мощи, помеченные плотно-фактурной пластикой нового века (серебряного ли, двадцатого?), доносящие узнаваемую и неповторимую интонацию самого Арсения Тарковского:
Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны,
Где дробно били в барабаны
И пыль клубили табуны,
. . . . . . . . . . . . . .
Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой, пошел на юг по зову
Судьбы скитальческой своей,
Топтал чабрец родного края
И ночевал – не помню где,
Я жил, невольно подражая
Григорию Сковороде...
К своей родине, к отчему дому обращается Арсений Тарковский с множеством посвящений постоянно, на протяжении всей творческой жизни. Примером могут быть стихотворения «Степная дудка», «Приазовье», «Степь», «Песня», «В дороге», «1914», «Стихи из детской тетради», «Зима в детстве», «Тогда еще не воевали...», «Ходить меня учила мать...» и многие другие.
А разве не тому же страннику Сковороде снова, вольно или невольно, подражает поэт в стихотворении 33-го года «Колыбель», посвященном своему годовалому сыну? В этих строках, обращаясь к матери своего первенца возле «колыбели лубяной», он говорит воистину голосом скитальца-философа, голосом извечно-народного песенного заговора:
Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.
Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы глубокой?
Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;
День провожаю, звезду встречаю.
Дай мне напиться.
Отношения Тарковского-сына, Андрея, знаменитого кинорежиссера, с украинской родиной отца могли быть лишь весьма опосредствованными – через память, через поэзию Арсения Тарковского, через общеисторический, уходящий в глубь времен, контекст. Но крайне интересно, вглядевшись и вслушавшись, заметить, как отголоски этих отношений – речевые, фактурные, философские – включаются в сложную и многозначную языковую полифонию фильмов Андрея, сына Арсениева.
В первую очередь, невозможно не заметить некое неодолимое, кровно-родовое, концептуальное по сути, сходство двух творческих языков, двух образных систем – языка поэтической лирики отца и многомерного новаторского языка кинолент сына. Концептуальное это сходство многовекторно и способно вдохновить на обстоятельный искусствоведческий анализ. Здесь, в этих эссеистских заметках писателя о другом, интересном и дорогом ему, писателе, поэте, я все же ограничиваю свою роль, оглядываясь на закономерности жанра, лишь отдельными, скорее эмоционально-интуитивными, чем рациональными, мазками.
Несомненно, и язык поэзии Арсения Тарковского, и язык фильмов его близкого к гениальности сына – это уже пластические, образные системы ХХ века, к тому же века, далеко продвинувшегося, отсчитывающего свои последние десятилетия. Признаки этой пластики – все большее уплотнение, углубление образа, принципиальный выход на уровень более сложный, чем линейные связи творимого образа с источниками импульсов – духовным миром художника и миром внешних вещей и явлений.
Рациональное объяснение существования предполагается не вполне достоверным в подобном поэтическом языке, и роль познания и воссоздания интуитивного, на уровне более тонких полей, становится все более значительной. Можно говорить и о том, что в подобном языке присутствует качественно большая слиянность внутренней духовной субстанции самого поэта и объективного мира, слиянность, которая на уровне одной логики явно неуловима и неопределима.
Словно бы не поэт говорит о человеке, а именно этот необъятный и всеобъемлющий мир, становясь на время речью поэта, пытается высказаться и о самом себе, и о человеке, как о неразрывном целом. Словно очень близок к истине в своем угадывании О. Мандельштам, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то еще, совсем не чужому:
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
И не менее прав Арсений Тарковский в определении своей поэтической речи как явления говорящего мира, как «слов, скрепленных их собственным светом»:
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка – слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Многомерность, сферичность – нередко с отсветами космизма, эйкуменичности – как общеидейная и общеэмоциональная установки. Объемность и напряженность сферы человеческого духа – внутреннего космоса. Большая роль перспективы, временной и пространственной, взгляда с высот птичьего, монгольфьерового, облачного полета, воспоминания-воссоздания – как установки, может быть, уже более технические, рабочие. Смещения, сдвиги времен-пространств, снов и явей, исторических слоев, ритмов, нередко средствами выстраивания параллелей с классическими образцами поэзии, музыки, изобразительного искусства.
Все эти признаки языка, многосимвольного и высокоинтеллектуального, и одновременно склонного если не к снятию, то к размыванию рационального тона интонацией метафизической, экзистенциальной, можно при заинтересованном и доверительном обращении обнаружить и в стихах Арсения Тарковского, и в прихотливом, но всегда мастерски выверенном течении кинокадров его сына-режиссера.
Многое говорит о феномене редкостно полного наследования художнической интонации, творческой энергетики от отца к сыну. Но механизмы этого наследования – кроме лежащих на поверхности генетических факторов, влияния общекультурных установочных испульсов, одинаково сверхвзыскательного отношения обоих к своему творчеству – во всей своей полноте и сложности лишь одному Богу известны.
Для истинного художника, для мастера, включенного всей полнотой своего духа в любимое дело, достаточно порой минимального импульса для принятия оптимального творческого решения. При этом властно срабатывает известное во многих точных и неточных областях знания явление резонанса.
Вот стихотворение Арсения Тарковского 1958-го года «Иванова ива», предельно лаконичное, притчево-глубинное, помеченное высокой простотой и сопричастностью народной судьбе:
Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива неведомо чья.
Не знали, зачем на ручей налегла,
А это Иванова ива была.
В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.
Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.
Слышал ли Андрей Тарковский эти стихи своего отца до мая 1961-го года, когда ему удалось добиться права начать заново съемки кинофильма «Иван» (по сценарию Богомолова), почти загубленного на тот момент другой киногруппой «Мосфильма»? Вряд ли встречи отца и сына в тот период были частыми и регулярными. Их отношения, при всей несомненной любви Андрея к отцу, не могли быть только отношениями притяжения. Скорее, как и все в этой жизни, и особенно в ее бытийно-бытовом слое, пульсировало по своим собственным непростым психологическим законам притяжение-отталкивание: ранняя душевная травма Андрея, связанная с распадом брака Арсения Тарковского и Марии Вешняковой, его отца и его матери, еще в 35-36 году, конечно же, присутствовала всегда как некий психологический фон.
Но если даже очень кратко и вскользь слова «Ивановой ивы» коснулись слуха Андрея Тарковского, он не мог не ощутить подлинного интонационного и фонетического обаяния этих стихов. Первый полнометражный фильм, снимаемый им в 1961 году (и снятый удивительно быстро – за пять месяцев), стал называться сразу же, на самой ранней стадии съемок «Иваново детство». Та заговорная фонетическая волна, троекратное повторение одного и того же мягкого и плавного слога, то песенно-фольклорное чистое звучание, которые завораживают в словосочетании «Иванова ива» Арсения, сохранены бережно и чутко в почти неповрежденной трехслоговой вполне: «Иваново детство»...
Частность, может быть, но очень камертонной, символической природы частность. И это всего лишь одно наблюдение из множества возможных по поводу непредсказуемости, спонтанности механизмов резонирования двух творческих языков – отцовского, поэтического, и сыновьего, метахудожнического, синтетического языка кинематографа.
Суть в том, что оба обладали и врожденным даром, и мастерски развитым умением – ощутить, уловить, генерировать самое точное, порой единственно верное, образное решение. Суть во врожденно-наследованном, выверенном напряженной духовной работой и чутко-многорезонансном, в итоге, даре гармонии. Ничего лишнего, из возможного – лишь наиболее естественное для контекста, лишь наиболее внутренне заряженное. В каждой строке и строфе, в каждом кадре и эпизоде фильма.
Съемки первого полнометражного фильма Андрея Тарковского «Иваново детство» проходили на Днепре под Каневом. В завершающей части киноленты, зритель узнает о гибели Ивана в самом конце войны. Читавший «Иванову иву» вспомнит, конечно, о том, как «в своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою...» И если не вспоминались в урочный час эти строки Андрею, то само чутье подлинного художника повернуло его лицом и к правде отца, к правде жестокого времени – ведь в начальном, «доандреевском» варианте сценария изломанный, израненный войной подросток Иван благополучно добирался до традиционного мосфильмовского хэппи-энда.
«Иванова ива, иванова ива, как белая лодка плывет по ручью». – Финальные кадры «Иванова детства», идущие вслед за вестью о смерти героя, все же сродни белой лодке, укачивающей на волнах Иванову душу, из пронзительно-подлинных стихов Арсения Тарковского. Режиссер, с мощным захватом света и воздуха, выводит на экран перспективу-панораму солнечного плеса Днепра – реки-праматери народного духа. И это те воды, те материнские лона, в которых более всего запечатлится и упокоится Иванова душа, которые всего верней и ласковей ее убаюкают.
Финальная днепровская панорама фильма уже явно наполнена атмосферой тех самых будущих, с обязательностью и цикличностью приходящих перспектив, визуально-философских, воздушно-световых, которыми, словно гулким звуком авторского имени, точнее фамилии, будут помечены и все последующие шесть фильмов Андрея Тарковского.
И этот мощный жизнеутверждающий символ – ни что иное, как реализованный иными средствами, но очень близкий аналог яркого спектра праландшафтов, присутствующих во всей поэзии Арсения Тарковского. Перспектив не только взлетных, воспаряющих, но и устремленных в глубь человеческого духа, в метафорическую глубь плоти воды, камня, молочной травы. Перспектив культурологических, окликающих Пушкина и Сковороду, Нестора-летописца и автора «Слова о полку Игореве», Овидия и Гете.
( продолжение ниже )
Тепло. И Троицы венок..
* * *
Зелёной Троицы венок,
чуть вязкий привкус травной сказки.
Подковы, цокот конских ног
и чётко-бодрый стук коляски. -
Осанистая, словно лорд,
детей катает в фаэтоне
кобыла - яблоки апорт,
ранет на крутозадом фоне.
Звенят привольные стрижи,
и с каждым маем всё любимей
их ярких крыльев виражи -
ребяческие и во Имя...
Каштанов свечки отцвели,
но, кажется, слабеет жалость,
когда и флот твой на мели
и слово в междометье сжалось.
Но вновь у самых окон - гроздь
акации, невесты лета!
И значит, многое сбылось
без соучастия куплета.
Тепло. И Троицы венок
сплетается к исконным срокам.
Стрижиных крыл звенит клинок!
Бодрит стаккато конских ног,
искрит кобыла карим оком.
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея, то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака. –
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, –
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но снившееся! Где ты, где ты?
Вослед за Бруно...
* * *
Вослед за Бруно и отважной Жанной
сожгли тебя, мой друг. И пепла горсть –
свидетельство бездушного генплана,
где каждый суший – лишь постылый гость.
Сожгли тебя.
Автобус в крематорий
приелся за последних десять лет.
Но Бог – тик-так. И нет иных теорий.
И практики иной, тем паче, нет.
Все будем там,
в огне иль на кладбище,
где ежедневно глиной на метраж
торгует за бесстыжие деньжищи
торгаш, с лицом а ля котлетный фарш.
Всё гуще смрад несытого шалмана,
всё аритмичней глобола движок.
Снимите со столба, кликуши, Жанну!
Не улетай так безнадёжно рано,
сизарь мой сивый, юности дружок!
2013
Вы видели мою маму?..
Васыль Боровой
( род. 1923 г.)
Мир в слезе
Вы видели мою маму? Вон, в одежде дырявой
Села на камень, смотрит - кто б ей картошку донёс...
Словно уже перед смертью - Боже, помилуй, правый! -
Перебирает былое глазами, полными слёз.
Когда выбирали долю - святые все были против
лихой для неё судьбины, лишь бес прогорланил "за"...
Кружится мир в безумье войн и переворотов,
Только печаль неизменна, горькая вдовья слеза.
Пасла коров с малолетства, по инею босоножкой.
А подросла - для пана рвала подсолнух в мешки...
Но, знать, и сирот печали стучатся к Богу в окошко:
Вернулся солдат с революций - у девушки просит руки.
Вот выйдет она из завода - бегала ж на "Канатку" -
Пшеничные косы несмело упрятаны под платок.
А он цигарку притопчет. Настю, Настусю, Натку
Возле ворот обнимет, хрупкого счастья росток.
Добра у него - лишь руки, у Насти в приданное - косы.
И не напрасно трижды ухал им сыч во всю мочь.
Цвет опадает над свадьбой, лето спешит на покосы.
Мужа её убили! Кто?.. Не ответит ночь.
Кто ж оборвал надежды? Наворожил беды ей?
"Иваночко мой, Иванко, кто же мне руку даст?"
Рогатый себя ли потешил? Всю ночь ли проспали святые?
"А вдовьи слёзы - на небо" - знает Экклизиаст.
Кружится мир неустанно - пылит без конца дорога,
И каждый успеть стремится на свой перекрёсток дорог.
С работы вдова вернётся, поплачет и славит Бога
За свет и в своём окошке - растёт у неё сынок.
Вы видели мою маму? Морщинки избороздили
ласковый её облик, тишь её и простоту.
Сам Бог позавидовал, видно: пришли и сына схватили.
Нужны ж им рабы на Север - кайлом вырубать руду.
Вы видели мою маму... Вон, в одежде дырявой
Сидит она, смотрит протяжно в потустороннюю тьму.
А рядом с ней Ангел смерти, печальник с недоброй славой,
Стоит и роняет слёзы - и сам не поймёт, почему.
Доля
Конвоя крик и вой овчарок,
И пыль столбом - колонны ход...
И день твой, словно недогарок,
Холодный гасит небосвод.
Впервые что ль - ордынца злоба,
Гортанный окрик, плеть-нагай?
Гляди же веку в очи в оба -
Не отставай, давай, давай!
А в сердце всё ж, помимо воли,
Не гаснет присказка, мудра,
О казаке, что не без доли,
О доле, что не без добра.
* * *
Жаринка, искра зверобоя,
О как мне там тепло с тобою,
Где речка кроткая течёт,
Где из яруг сочится морок,
Где сотню перемножь на сорок -
И то не всем печалям счёт!
Перевёл с украинского С.Шелковый
Оригинал -
Василь Боровий
ВИ БАЧИЛИ МОЮ МАМУ?
Ви бачили мою маму? Он в одежині подертій
Сіла на камінь, чекає, хто б їй картоплю доніс...
Сіла перепочити - перед ворітнями смерті,
Перебира пережите очима, повними сліз.
Коли вибирали долю - усі святі були проти
Лихої для неї долі, а біс, певне, вигукнув "за"...
Крутиться світ шалений: війни, перевороти,
Тільки печаль незмінна, як удовина сльоза.
Пасла в людей корови. Паморозь - ноги ж босі.
А підросла - у пана зрізала соняшники...
Та до престолу Бога й сирітські доходять сльози:
Солдат з революцій вернувся -
у дівчини просить руки.
Час на життя й на жито - в полі на власне жито.
Та не даремно тричі тужно гукав їй сич...
Цвіт не зів'яв з весілля, як хлібороба вбито,
Мужа її убито. Ким? - не розкаже ніч...
Наче нитви в прядильні - хто обірвав надії?
Йваночку, мій Іване, не довго ж топтав ти ряст...
Рогатий позаздрив на долю? Проспали ту ніч святії?
"Йдуть сльози вдови до неба", - сказав це Екклезіаст.
Ви бачили мою маму? Зморшки геть поорали
Її обличчя ласкаве, і ніч стоїть на сліду.
Сам Бог, напевне, позаздрив: прийшли і сина забрали,
Бо треба ж комусь кайлувати на Півночі їхній руду.
Ви бачили мою маму? Он в одежині подертій
Сіла, дивиться довго - у потойбічну пітьму...
А біля неї Ангел, зажурено Ангел смерті
Стоїть, а сльоза йому котиться - і сам не знає, чому.
"Не рыдай мене, Мати..."
Васыль Боровой
Судилище
Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.
Но вот скрипит горбун: "За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь - московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом."
Прочёл - и хищным высверкнул оскалом.
А за порогом грозной той тюрьмы
стоит моя матуся меж людьми
и молится: "Узри, о Боже, муки,
не дай моё дитя убийцам в руки,
как дал Ты сына своего на крест.
Ведь Ты же знаешь - здесь не суд а месть..."
А я стою - блестят штыки из стали.
Вот так меня в поэты посвящали!
"Не рыдай мене, Мати..."
То ли сон, то ли нет? Шелохнуться боюсь я...
Где-то печку топить начинает матуся.
И слезятся печальные очи любимой -
то ль от дум обо мне, то ль от едкого дыма.
Глухо хворост трещит. Время искрами скачет.
Золотинками слёз печка с мамою плачет...
Долго молится мать - обо мне в том Норлаге,
где сполохи небес багрянеют, как флаги.
Полночь к маме сошла, как апостол с иконы.
Тяжки, Боже-Христе, в Твоём мире законы!
...Вскинусь с нар, как из гроба - до боли в утробе:
"Не рыдай меня, Мати, зрящи во гробе".
Норильск
Вспомнилось
Во двор въезжали с матюками
и брали, брали - всё до тла!
Под вой собачий с "кулаками"
боролась "Красная метла".
- Куда ж мы? - нет лица на маме.
Метла смеялась - и мела.
Перевёл с украинского С.Шелковый
И, как ветер с Босфора, хорош...
СТИХИ О ФЕОДОСИИ
* * *
Итак, добираться мне до Феодосии -
лишь ночь, лишь чуток золотистого дня.
Там кровная мысль о двоюродном Осипе
так бодро под рёбра бодает меня!
Там облик египетский брезжит и слышится
непойманный цокот худых башмаков.
Развеяна гневная Максова ижица,
и свеж голубеющий плюш ишаков.
Привольно вдыхается нищее диво
земли загорелой, зелёной воды.
Овечьих холмов травяные наплывы
вдоль моря текут, вдоль солёной слюды.
Лоскутная известняковая Кафа!
Как щедро – всего-то полсуток пути,
чтоб в складках пиратского красного шарфа
листок со взъерошенной рифмой найти!
С щепоткою тмина, с корицею в мокко,
с угаданным клювом средь гущи на дне,
с такой молодою – не знающей срока -
пузырчатой радостью в жёлтом вине,
с рыбацкою лодкой, что, еле белея,
спешит, обгоняя кефаль и макрель, -
в край ладана, смирны, тоски и елея,
туда, где Эллада, Ливан, Галилея -
озёра и смоквы Заветных земель...
* * *
Кафа, оливы, ракушечник, полдень.
Ртутная зелень, упорная желчь.
Горькой маслины аттический корень
зноем не высушить, не пережечь.
Кафа – олив серебрёные ветки,
лепка облупленных особняков.
В этом июле – знакомые редки
здесь, на кайме киммерийских песков.
В августе этом, на выдохе лета,
вязче дожди и шершавей жара.
Стал уязвимей зрачок амулета,
зыбче и злее навылет игра.
Лишь на веранде в затишье негордом
под деревянным, в сучках, потолком
ласточки с красно-коричневым горлом
сладили клювами глиняный дом...
Ночь в Феодосии
Дозревает лоза во дворе на холме Карантин.
Итальянского угля-зубца не предаст цитадель.
Золотятся и тают наплывы закатных картин,
и по жилам кружит и пружинит пожизненный хмель.
Хорошо мне во тьме ничего для себя не хотеть,
доверяясь нездешнему пульсу полночных минут.
Там, где гавань с холмом океану сосватали твердь,
растворяются в вечности зыбкие "ныне" и "тут"...
И уместится в верности тысяча жалких измен,
и звездою уколет - меж датами жизни дефис.
Тени гроздьев исчёркали мел голубеющих стен,
и вдоль глин Карантина хромают репейники вниз.
Хорошо мне с хозяйкою лоз полчаса разделить.
Не беда, что не пьёт, не глотнёт ни слезы "Пино-гри".
Столь полна эта тишь, что пуста говорения прыть.
Я и сам не сболтну, вот и ты промолчи, мон шерри!
Я числом не совру, разве нотой пугну петуха.
Недозрелою ягодой поздний глоток закушу.
Оттого моя повесть о жизни - не то чтоб плоха,
но всё сносится мутью теченья ко лжедележу.
У подножья холма лижет синюю глину волна.
Деревянные рыбы баркасов увязли в песке.
Ну, а здесь, наверху, над репьями парит тишина.
И под ногтем заноза ни мне, ни тебе не слышна,
и зубец цитадели не пискнет у ночи в виске...
* * *
Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
Привокзальное радио снова "Славянку" играет,
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
Снова сутки свиданья с портовой фартовою Кафой
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
Каплет в рюмку мою "Пино-гри" виноградников графа -
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.
Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, -
эти минус три четверти века... Со снимка глядят
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, -
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
Не осталось уже никого с августовского фото,
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года -
карусели приморской дрожат золотые жучки.
Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
Александра - вослед Македонцу, Арапу вослед.
Я ведь сам - иноходец Ивана и сын Константина,
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
но которые живы и набраны чётким петитом
в каждой строчке моей, в каждой рифме - один на один...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.
* * *
Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья -
табак, горчащий нежностью нежданно...
В султанах, от луны и лампы тени,
на мел лачуги брошенные странно,
сплетаются причерноморской страстью
в любовные обманы-чародейства.
А лоз июльских пальцы и запястья
всё тянутся к белёным стенам детства,
где ничего - не поздно, не зазорно,
ни в брызги, ни в осколки не разбито,
где золотятся виноградин зёрна
сквозь мякоть, как зеницы неофита...
Уснула в доме Оля-оленёнок,
дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.
Слой кафкианской ночи Кафы тонок,
где - бархатцы, где сам я, байстрючонок,
пью пай свой меж хозяек лунолицых...
* * *
С окрасом зебры, с тонкостью жирафа,
с павлиньим оком понизу крыла,
мой парусник летит, и август Кафы
колышет у посудин вымпела.
Здесь на отшибе, у дворца Стамболи,
у минаретов и узорных стен,
тихи сады, от моря веет солью,
и зной времён течёт без перемен.
Ну, разве что торгаш, хозяин-барин,
не уберёг под феской головы. –
На то и век – не больно лучезарен,
бесстыж, разбоен, мерзостен, увы...
Жар неподвижен. Время – густо-медно.
От кофия слипаются глаза.
Но, суре вслед, орнаменты заветны,
и не повсюду сбита бирюза.
Снуёт мой махаон, цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не падший взор звезды падучей,
и я б летал... Хотя бы между строк.
За Феодосией
Кузнечики – хитиновый надкус
полынной жилы, мускус-мускулинум
собранья сочленений... Шорох муз
в бессмертнике – цветке первопричинном.
И охрою, и переспелой хной
холмы окрасит кафкианство полдня.
Всю Кафу, все кофейни за спиной
оставлю, вместе с будкой – в сутки сотня...
И вновь холмов, что Осип величал
овечьими, касается мой посох
и прочь ведёт от черномазых шпал
туда, где синевой сияет воздух.
В побег ведёт – в реликтовый распах
пространства, где – ни лающей собаки,
ни сапиенса с ложью на губах,
где море – сокровенно... После драки
ни шуйцей, ни правицей не машу.
Грядой бугристой жизнь брела сквозь годы –
без всяких шансов одолеть межу
враждебных чисел, внешней несвободы.
Но вот – кто есть, не мавр, не бедуин,
не кафр, лишь Кафы родич загорелый,
спешу опять, – в мальчишестве седин, –
по мергелю, по здешней глине белой
с зеленоватой примесью. Трещат
кузнечики, хранители аскезы
степного мира. Дышит, – непочат,
и некой свежиной богаче Креза, –
искатель-дух, неутолимый свет
за слоганом футболки, за грудиной...
Душа, на нас земной управы нет!
На сорок здешних бед – один ответ:
размах небес и Батько Всеединый.
Снова в Кафе
За слепцами, за Фанни Каплан -
очи чёрные, По или Грина.
Освежи мне, кабатчик, стакан!
Вот тебе насовсем моя гривна.
За эсэрами в линзах-очках -
агитатор от жеста и танца...
На железных базарных крючках
розовеет свежатина агнца.
Перламутром мерцает баран,
на рассвете ободранной тушей.
Возвращённою Кафою пьян,
чую cуть я - меж морем и сушей.
Саперави, как избранный труд,
настоялось и терпко, и густо.
В виноградных корзинках несут
молодильное мясо искусства.
Феодосия, Малый Стамбул!
На двадцатое лето разлуки
я опять нашей дружбе вернул
синих гроздей иллюзии-глюки.
Вдоль понтийских портов бандюки
катафалками катят в премьеры.
Но с холма Карантин будяки
вдаль алеют - за хлорку холеры.
И, как ветер с Босфора, хорош
первый день новых, Кафа, каникул,
где начхать мне на нищенства грош
и на притчи порочных Калигул.
Всё бродить бы по склонам твоим -
до утра, до рассветного дыма,
целя дальше - в Эски Кыырым,
в захолустие Старого Крыма....
Кафе над морем
Над башней крепости трофейной,
над морем и над портом – Кафа
возносит пар своей кофейни,
шафраны, кардамоны кафра.
Возьми коричневую пенку
на блёсткий клювик мельхиора.
За ближним столиком спортсменка –
гляди – не против разговора.
И как тут, по привычке старой,
не спеть про галсы парусины,
про «Кохинор» в чалме корсара
и эликсир от Ибн-Сины?
Как не признать, что запах Понта
во сны вторгаются зимою,
как будто тяга горизонта
и соучастье в ней прямое?
Как не добавить чашек пару
от кофевара-котофея?
Преодолеет струйка пара
путь к Эвридике от Орфея...
И с обликом чуть виноватым,
она вздохнёт: «Теперь – едва ли.
А вот в году две тыщи пятом
кофейня славилась мускатом –
здесь «Красный камень» наливали...»
Александру Грину
Ветер занавеси клетчатые треплет
за распахнутою дверью у крыльца.
Трепет утра, молодого солнца лепет
у ключиц, у полусонного лица.
Ветер стенами дощатыми играет –
и, качнувшись корабельной плотью, дом
в полудрёме угловато уплывает
за магнитный каменистый Меганом.
Киммерия, я плыву, твой гость нечастый,
я не плачу об утерянном ключе!
Злюка-ястреб, желтоглазый, голенастый,
точит клюв на капитановом плече.
Киммерия, из лилово-дымной сини
веют свежестью имбирною зюйд-вест…
Итальянские глаза Карассарини,
чёрно-мраморный феодосийский крест…
Хороши арбузы в Кафе на базаре,
но недолго кофе пакостный хлебать –
вислоусый обоюдоострый парий
цепью якорною звякает опять.
Он забросит оспой меченную птицу
на костлявое и твёрдое плечо…
Будет то, что воле Божьей пригодится. –
Полдень! – Ветрено, лазурно, горячо!
Материнское небо июня...
* * *
Входит лето в горячую силу,
в золотую исконную суть.
Нас кормящее небо носило
на руках. И молочную грудь
отдавало в сыновние губы,
во птенцово пунцовые рты.
И, как нежные горны и трубы,
раскрывались под солнцем цветы.
Глины плоть, умягчённая млеком,
оживлённая красным вином. -
Будешь веком, челом, человеком
на небесном наречье родном.
Материнское небо июня,
для и полня высотную суть -
на коне ли ты иль накануне -
окликает: воистину будь!
Запах
Бормотун, домовик неказистый,
скособоченный временем том...
Эта книга из рук букиниста
пахнет давним чужим табаком.
Нет, былое в потёртой обложке
я недаром сегодня раскрыл.-
Горьковато-пахучие крошки
встрепенули молекулы крыл.
Чей-то взор, настигающий, смелый,
меткой искрою брызнул в меня,
штрих-пунктирною ниткою белой
дёрнул зуб из молочного дня...
В этом сне моя кожа упруга,
там опять наяву я смеюсь,
ни кривого порочного круга,
ни своей прямоты не боюсь.
Та же нитка на шею надета -
с белым кремнем, омытым в реке.
Налегке беспредельное лето,
бесконечная жизнь - налегке!
Свет веранды. И деда приятель
тем же, давним, горчит табаком...
Вишни красные, белая скатерть.
И лимонница под потолком...
Тебя простит серебряным кивком...
* * *
Курить кальян, вдыхать ли фимиам -
всё опиум, лишь разного разлива.
А дух твой там, где дикая олива
опять цветёт - над морем по холмам.
"Останься твёрд, спокоен и угрюм" -
встаёт со дна познанья-умолчанья.
Чадит бурьян забвенья за плечами,
и правит костолом и тугодум.
Молись же, ибо козней козий князь
спешит сквозь дыры дней и норы ночи,
чтоб демосу сполна замылить очи,
змеёй вдоль вязи лживых слов виясь.
Скользит, и метит порчей, тут как тут,
пусть бы тебя, но и любимых присных...
Молись, чтоб чистотел слезы не высох,
даст Бог, ещё не завтра отпоют
тебя, в родном содоме пришлеца,
канатоходца противостоянья...
Возлюбим судный полдень, могикане, -
последний день от первого лица!
Не вспоминая всуе ни о ком -
ни рунами, ни десятичным кодом.
Ты чувствуешь, как море пахнет йодом?
Маслиновая ветвь перед исходом
тебя простит серебряным кивком.
* * *
Никого ни о чём не проси,
за пожухлую быль не цепляйся –
за кривое железо оси
в околесице дробного пляса.
Жаль чего? Разве радужных пчёл
на пиру травяного июня
да сверчка во хмелю маттиол
в голубом молоке полнолунья?
Разве тени ступни на песке,
бесполезно-жемчужного сора,
пряди русой на детском виске
да ничейного нежного взора?..
Вот и всё... Ни о чём не моли –
обнимись с корешками кривыми,
что грызут в поднебесной пыли
земляное шершавое вымя.
Сбивая цвет жасминовых ветвей...
* * *
Июнь дождями переполовинен, -
за солнцем вслед - полночная гроза, -
неутомим, шумлив и в том повинен,
что бьют навскидку в цель твои глаза.
Грохочет высь, небесною водою
сбивая цвет жасминовых ветвей.
А ты степною светишься княжною,
такой насквозь нездешней и моей
невестой половецкою, искомой
на всех витках, на ста кругах подряд...
Гремит июнь, жасминовой истомой
до кончиков ногтей вливаясь в сад.
И стрелы глаз, и таинства-ресницы,
и взмах бровей, тугой, упругий лук -
всё это наяву живёт и снится,
и длит сакральный в подсознанье звук.
И не унять мне ключевого зова
бессмертного генома красоты!
Вот ты - свеченье царствия земного,
вот ты - дождём промытые цветы...
* * *
Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен
на июльской ладони мне жадина-жизнь подносила.
И когда прогрызёт мне кадык тупиковая плесень,
оживёт в переулке-струне молодильная сила.
Не сказать, как вишнёвых деревьев пунцовые кроны
над забором-горбом ни за грош, по любви, вызревали!
И когда упаду я обломком лепнины с фронтона,
карнавалы красавиц и дружных стрижей фестивали
мне качнутся вослед, догоняя, рифмуя, прощая…
Снова синь грозовая чернильною станет и чёрной.
Над простыми предметами и непростыми вещами
головою качну я в ответ, понапрасну учённой.
А проснусь ли живым – подпою! Ибо вечные звуки,
махи пчёл, махаонов, стрекоз , темперируют воздух –
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки
Фредди Меркури шалого – в тающих утренних звёздах…
Шмель
Не мешайте летать шмелю.
Я чреватость его люблю.
Он летает не по закону —
по наитию и во хмелю.
Под порогом, меж кирпичей,
в халабуде садовой ничьей
(ибо я там раз в год бываю)
он живет без всяких ключей.
Не мешайте любить шмелю.
Что за дело жучью-жулью,
с Баттерфляй ли толстяк флиртует,
с китаянкой ли Шао Лю?
Бочковатость его легка.
Шкура тигра — его бока.
Хоботок достает до донца,
до нежнейших глубин цветка.
Не мешайте гудеть шмелю.
Брат альтисту и скрипалю,
на медовой блюзовой ноте
чертит плавную он петлю.
И не я ему пел мадригал.
Лишь в апреле, когда он взлетал,
говорил я: «Сенсей, за зиму
ученик твой взрослее стал...»
Расставание с Кафой
Пили синь, пьянели воздусями,
обретая истину в вине.
Расстаёмся тёплыми друзьями -
наяву и в дрёме-полусне.
Расстаёмся, Кафа, ненадолго,
ибо без холмов твоих никак
не прожить мне, ибо мало толка
в мире без пиитов и бродяг.
К дастархану жёлтого инжира
льнёт лиловой влагой каберне,
чтоб лепёшкой крымского тандыра
пришлеца согрела Эмине...
От бандюжьих ям на Карантине
прочь уносит ветер трупный яд.
А живой рассвет мой - вновь щетине
на упрямом подбородке рад.
В башнях Константина и Климента
генуэзский бычится кирпич.
И вернусь я в Кафу, как в Сорренто,-
на понятный мне лишь, тайный клич,
на призыв-резон семиязыкий,
на исконный первозданный звон,
в коем май-шиповник нежноликий
светится, - вернусь, но не в сезон!
Налетит свежак от Понта резкий,
вырвет из руки стишок-листок.
И, в траве оставив лепет детский,
улетит к Боспору на восток.
Часовой ключа и сторож долга,
за своё втройне плачу налог.
Путь иглы запомнит нитка шёлка.
Расстаёмся, Кафа, ненадолго.
Если не навеки, милуй Бог...
Желтеет алыча. Улыбчивы дворняги...
* * *
Легко ль по кругу пить густой портвейн из банки
в полуденную ярь, в гурзуфскую жару? -
Античных тех времён искристую изнанку
в полночные края с собой я заберу.
Как быстро, день за днём, истает четверть века!
Но ярче горстка дней, зернистей, чем года...
Ау вам - дважды два - четыре человека!
Прозрачна ль навсегда понтийская вода?
Свежа, живым-жива июльская картина,
где веток светотень - узорное тавро
Тавриды, где смуглей, чем золото, Ирина,
где никелевый кэш блестит, как серебро.
Желтеет алыча. Улыбчивы дворняги.
По вытертым камням приморской крутизны
мы сходим вчетвером, и выцветшие флаги
над мачтами фелюг теплом напоены.
И дышит всё свежей тех колеров богатство:
залива пламень-синь и хна бродяг-собак.
И жив июльский слайд - непреданное братство,
нагретый солнцем пирс и сфинкс его - рыбак...
* * *
Чёрные куры сидят на ветвях алычи,
дымчатый кот задремал на ступенях хибары.
Явно искренье молекул османской парчи
в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.
Вот он, посёлок приморский, куда столько лет
я приезжаю опять по невнятной привычке,
где между прошлым и будущим паузы нет,
как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.
Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.
Банщицей здешней веранда сдана мне – товар,
столь ходовой в сей жильём небогатой округе.
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,
демос слепил два десятка халуп при турбазе:
вольного воздуха водка и бриза мускат
в каждом зачатии-вдохе и в выдохе-фразе!
Воля Господня, свобода святого вранья, –
наперекор греховодной обыденной правде, –
дней на пяток умыкните с поминок меня
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...
Море возлюбленной пахнет.
И хмель не берёт
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.
Ни обиды не ведая, ни самозванства-докуки...
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея,то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и в блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака.-
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, -
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но, снившееся! Где ты, где ты?
* * *
Есть час, когда город просторен
в воскресные летние дни.
Июнь – это воздух «лавстори»,
Рембрандт на предплечье в тени.
На миг сквозь листву проникая,
понежась на женской руке,
блик солнца, как слава мирская,
спешит в никуда налегке…
Чтоб сквозь ледовитые зимы,
сквозь скрип задубевшей петли
смогли мы дышать. Чтоб могли мы…
Да что? – Да, хоть что-то могли!
* * *
Лето, лето, живая планида моя,
населённая спелой-преспелой горячей травою!
Я уже записал в золотые друзья муравья,
и, о риске забыв, увлечен голубой стрекозою.
А игрун, несуразно-изящный кузнечик-урод!
Смехота, но почти что уронишь слезу умиленья,
как, без слуха, без голоса, ладно по струнам снуёт
этот вывих певучий, скрипучее стихотворенье!
Так вот в мире большом всякий малый по-своему прав,
без боязни ветрам отдавая дыхания звуки,
бескорыстно вплетая слова в песнопения трав,
ни обиды не ведая, ни самозванства-докуки...
Так бы вечно дышать под просторами отчих небес,
где цветные луга необманным лепечут приветом,
да ещё за холмом веет речью древлянскою лес -
родниковой водой и крушинным листом разогретым...
* * *
Порхает рыжий мотылёк
в горячем воздухе июля.
В миру ли он огонь возжёг,
над грядкой лука во саду ли? -
Наверное - и здесь, и там.
Скорей всего - и днесь, и присно.
Июльским полноцветным дням
и сам я предан бескорыстно.
И я лишь в дар отдать берусь,
но не меняю на коврижку
знакомую мне наизусть
ванессы-огнекрылки книжку.
Зной гуще, ближе файв-о-клок.
И вот в окне моём, в контрсвете,
порхает чёрный мотылёк.
И резвым крыльям невдомёк,
с кого взыскуется урок,
по ком черны сполохи эти...
Не назову твоё давнее имя...
* * *
В мае гремело, и пахли нарциссы
вслед за грозою и пряно, и резко.
Ветер с тетрадей сдувал биссектрисы,
влажный сквозняк развевал занавески.
Май взбеленялся и веял страстями,
будто бы стеблями – прямо из сада...
что-то цвело в этот месяц над нами,
что называть и грешно, и не надо.
Я и теперь, убоясь суесловья,
неабсолютным, неподлинным звуком
не назову наши взоры любовью,
солнце, и дождь, и фрамуги со стуком...
Не назову твоё давнее имя –
истинней то, что летуче-воздушно.
Ливни стихали, а небо за ними
радужно было и великодушно.
Парты-галеры, зрачок директрисы.
Наши крамольно сплетённые руки...
Белые, в зелени мокрой, нарциссы.
Свежесть грозы над соломой науки.
* * *
Где улыбалась ты? Где мы встречались
в то загорелое звонкое лето?
Был зоопарк, как усадьбы участок
при небоскрёбе университета.
Там, на задворках учёного зданья,
негородские овражисты чащи,
клики зверей, летунов щебетанья –
млекопитающи, живородящи!
В сонном пруду – лебедей изобилье,
тусклое золото мелочи рыбьей.
Шатким мостком мы овраг проходили,
заполонённый зелёною зыбью…
Ласковоглазое юное лето
птицей мелькнуло, не в силах вернуться.
Только в чащобах смородины где-то
те же пичуги, что раньше, смеются…
Если случится – увижу сквозь будни
тропы, где ты улыбалась когда-то, –
пусто… У синей кондитерской будки –
лишь школяры да в отгуле солдаты.
Вспомню – покажется тоньше и чище
монстр носорожий, свояченник зебры,
в серых, нечищенных век сапожищах,
в лобных натёках воинственной лепры…
Жил, спешил, наворожил...
* * *
Ветер, ветер, умник улиц!
Я люблю тебя, истца
и творца воздушных буквиц,
симфониста-игреца.
Как ты в свисте ритмы ищешь,
как ты, с хрустом, ветки рвёшь!
Ни одной железной крыши ж
без хард-рока не минёшь.
Я и сам - твоей породы:
то норд-ост, а то зюйд-вест.
Ливнем нежу огороды,
всласть листаю палимпсест,
то есть, книжицу такую,
где пергамент поскоблив,
поверх мая я рисую
август, яблочный налив.
Где над юностью неверной
"дождь" и "даждь" я рифмовал,
наживая эфемерный
ямбов-яблок капитал...
Тот, что цифрой не измеришь -
где не козырнёшь числом...
Ты один мне, братец, веришь,
ветер, знающий о том,
что уже не нужно много
в резюме - и слов, и сил,
в аннотации итога:
"Жил, спешил, наворожил..."
Вдоль квадратуры, вдоль овала...
* * *
И целакант, и чупакабра,
в гербовнике из первых рук,
топорщат розовые жабры,
смыкая жизнелюбий круг.
А ископаемых рептилий
шипы, затылки, позвонки
подпитывают корни лилий,
румяня охрой лепестки.
Равноапостольной в природе
задумана любая тварь.
В неповторимом генном коде
тысячелетий календарь
прочтён и принят как наследство,
и плавно вплавлен в силу жил.
В океаническое детство,
ныряй, планетный старожил!
Соитье Альбы с альбатросом,
сей Леды с лебедем камбэк,
аукнется хриплоголосым
птенцом, химерным, как ацтек:
"Метаморфоз - целебны жала!"
Скачи, конёк-единорог,
вдоль квадратуры, вдоль овала,
где блещут рыбы у причала,
где эволюция устало
молчит. Но полон планов Бог...
Длить канон серебряных ключей...
10 мая 2013
Милый деда мой Иван Иваныч,
нынче - день рожденья у тебя.
На дворе лютует Ятаганыч,
злобным глазом родину любя.
Зря ли ты при Сталине-шайтане
лямку вдоль пайковых дней тянул?
До сих пор в родимом Уркистане -
тех же эшелонов скрежет-гул.
В тех же дурах-ямах вся дорога,
та же всюду крепнет перемать.
Лишь в углах тоскуют лики Бога,
ибо есть о чём Ему страдать.
Мы давно не виделись с тобою,
промелькнуло мигом сорок лет.
Как была УкрАина рабою,
так рабой и пялится на свет.
Добрый деда! Май, однако, светел -
всадник-май, твой месяц соловьёв.
Ворон сдох, откинул лапти петел,
знавшие пяток тюремных слов.
Но осталась эта чудо-птица.
В глубине каштановых ночей
выжила! И звукам - снова литься,
длить канон серебряных ключей.
Так и начал я твой час рожденья -
слушал соловья до четырёх.
Слушал, и цветущих веток тени
тоже затаили выдох-вдох.
Лился Моцарт из больничных кущей,
и к балкону нашему взлетал.
Милый мой, и ты, во мне живущий,
улыбался, словно что-то знал...
Остались миф и быль...
* * *
В.К.
Открылся магазин "Живые вина Крыма".
И, без улёта в Крым, вникаешь от и до
в вино "Кара-Чанах", молитву караима
и в киноварь богов Тавриды - "Бастардо".
Мы сорок с гаком лет одни твердили мантры,
но сжёг себя мой брат в запое день за днём.
И как мне не прийти в "Живые вина" завтра,
не помянуть его и не вздохнуть о нём?..
Уплыл мой Магеллан, мой штурман сопромата,
шутник и зездочёт, и труженник наук.
Остались миф и быль - не кляты и не мяты -
июль, вулкан Кастель, волны понтийской звук.
Нам снова двадцать лет. И мы не пьём - вкушаем,
душою становясь ветвистей и полней.
И набухает жизнь зернистым урожаем
cмородинных ночей и виноградных дней...
Не в курсе я борьбы с циррозом в блоке НАТО,
но знаю, что в моей внеблоковой стране,
кто сердцем подобрей, сбегает в алконавты,
сгорает без вины и топится в вине.
Кто ж снова мне звонит и произносит в трубку
простое слово "друг", как самый верный стих?
Надеюсь, там, в раю, из призового кубка
не выпьешь весь запас. Оставишь для двоих...
Словно жемчуг, нанизаны дни на правдивую нить...
Майский полёт
На лету не поймёшь, то ли бросится пёс под колёса,
то ли ветер швырнёт под "восьмёрку" шуршащий пакет.
В сдвиге линий, объёмов и форм на бездомность вопроса
не услышишь ответа, которого, в сущности, нет.
Не успеешь заметить, кто слева подрежет, кто справа,
кто на "бумере" прёт напролом, наркотою взбодрён.
Просто держишь штурвал, дабы чудищ сакральных орава
не спровадила - так, между прочим - скучать в пантеон.
И ласкали кастетом, и крылья передние мяли,
и на правой двери оставляли засос-поцелуй.
Но квадрига колёс, но рысак светло-серой эмали
держит путь, и sic transit - покуда, латынь, не балуй!
На ходу, на лету не поймать промелькнувшей детали,
но несущая линия - твёрже ведёт и верней.
Сокровенные дни обновления солнца настали.
Снова светится жизнь - и живьём растворяешься в ней!
Мент ли жадный засвищет, в беретке малиновой "Беркут"
тормознёт ли, пятнистый, с "Калашником" наперевес -
сердце держит свой путь. Время шепчет, что всё перетерпит.
И, несолоно евший, неврозами мается бес...
Белых свечек полны терема проповедника-мая.
Словно жемчуг, нанизаны дни на правдивую нить.
Мне бы руль удержать. Книгу книг я на миг закрываю,
чтобы, очи раскрыв, Божий хаос навек возлюбить.
Щавель, крапива да полгорсти ржи...
Вдова
Взглянув в глаза вдове солдатской,
апрель могилы отогрел.
И снова стало ей казаться,
что мир немного подобрел.
Что там, в сорок шестом, в апреле,
она, как прежде, - рядом с ним,
ушедшим на Страстной неделе
несдавшимся и молодым,
успевшим в муке госпитальной
вдохнуть ещё глоток весны
из глаз мальчишки, из печальной
улыбки на губах жены...
И снова солнце подсушило
бугры промокшие могил,
коснувшись вешней вещей силой
живых и тех, кто не дожил.
И над кладбищенским пригорком
лепечет первая трава.
И, наклонясь над камнем горьким,
метёт надгробие вдова...
Солдатская дочь
Всю жизнь свою Петровна хлеб печёт -
в работе у печи, считай, лет тридцать.
Года спешат, им не упомнить счёт.
Но той зиме до смерти не забыться.
Бесснежной стужей памятна война:
лозняк под ветром - брат да три сестрёнки.
Застыла мать на лавке у окна,
в ладони смяв отцову похоронку.
Не видно бела света среди дня,
и лишь одна вдове осталась сила -
глазастая худая ребятня...
И встала мать, и тесто замесила.
Щавель, крапива да полгорсти ржи -
мука голодной ребятни солдатской.
Но на помин солдатовой души
землистый хлеб сумел в печи подняться.
И был разломлен он на пять частей,
и мать кусок пред каждым положила.
"Не отослать обратно злых вестей..." -
всего-то и сказала через силу.
И лишь на миг оттаяла в лице:
"Помянем батьку горьким хлебом, дети...
Да будет с нами память об отце,
да будет снова хлеб на этом свете..."
Навек на сердце клятая война -
ломоть горчащий поминальной тризны,
жестокая великая цена
отцовства, сохранившего Отчизну.
И зреет поле, и река течёт
по той земле, что до травинки свята.
И для живых людей хлеба печёт
живая дочь убитого солдата.
Всё царство завещал поэту...
В Керчи с Георгием Шенгели
Следы умершего поэта,
сполна живущего в стихах,
искал я два последних лета
на жёлтых керченских холмах.
Искал - и в тутошней Боспорской
Элладе, в мареве царей,
и средь засилья бутафорской
туфты завравшихся идей,
средь догм, окрасивших бордюры
Керчи в кроваво-бычий цвет...
Бугрятся идолищ фигуры,
но их, пустопорожних, нет
в фактуре, в плотности столетий,
в контексте полновесных снов,
чья суть и форма - волны, сети,
шаров серебряных улов.
Я здесь нашёл следы Шенгели -
как двадцать пять веков назад,
сады сверкали, шелестели
листвой. И деспот Митридат
всё царство завещал поэту -
развалины дворца, Боспор,
Азов и Понт, и речку Лету
в тени орехов и софор.
Здесь два Георгиевых брата
драконьим срублены хвостом.
А ирод, идол Герострата,
всё тычет каменным перстом
туда, куда и днесь, и присно
нас наши худшие ведут,
где над большой больной отчизной
недужен - на безбожье! - труд...
Но к счастью я узнал, на фоне
всё преломляющих зеркал,
его зрачок! В лепном фронтоне
он кодом Морзе промерцал.
Его маяк снесён полвека,
но он, средь сломов и синкоп,
сберёг канон, виолы деку,
хрусталика калейдоскоп.
Он, знавший - умереть не трудно.
Больней, страшнее - умирать...
Копись и серебрись подспудно
для ловчей сети, рыбья рать!
Мы, два ловца, двойною тенью,
пойдём вдоль древних берегов
к сакральности кровосмешенья,
к Еникале, к преображенью
ковыльных, дымчатых веков..
Было время - ты пел и играл на гитаре...
Песни после войны
Было время - ты пел и играл на гитаре,
пальцы, не позабывшие, тянутся к струнам...
Проходил в даровом августовском загаре
по задворкам разбитым, но дерзким и юным.
Рифмы радиоточек "народы-восходы"
не жалели на марше казённой обутки,
и за старый пятак продавали газводу
из фанерной, с жестянками-"Крабами", будки.
Победившей страны малолетняя поросль
оживала, ржаной золотясь головою,
голосами звеня, коллективно и порознь,
по-над гарью, поросшей зелёной травою.
А ты пел под гитару - я помню, я слышу -
озаряясь негромкой, но искренней силой.
И трёхструнным аккордом хмельного дядь Мишу
от безногой тоски твоя тишь уносила.
Не гремит он давно деревянной тележкой,
а лицо его, осоловелое, злое,
в ту минуту светлело, почти безмятежно,
и осталось такое, доныне такое...
Кто там снова, созвучью другому навстречу,
вторит медью гвардейского иконостаса?
То учитель - военные твёрдые плечи,
тёмно-грозные очи родителя Спаса...
Репродуктор долбил неустанно и гордо
о невиданно щедром стотысячном росте.
Ну, а пальцы всё помнят четыре аккорда,
словно стынут в изломе сращённые кости.
И суровые люди особого сорта,
необманной души столбовое сословье,
снова молча идут по ступеням аккорда,
несмиренной даря, несдающейся кровью,
наделяя лихою тревогою века,
до кости, до корней иссечённой землёю...
И судьба - без глотка материнского млека -
всё хранит и хранит этот дар над тобою.
Скоро ль, скоро? Может, завтра...
Батько
"Отыскался след Тарасов" -
сто двадцать тыщ войско
поднял старый, поднял разом
на сечу-геройство.
Злые души, паны-ляхи,
битва упокоит -
хрипло волки-сыромахи
над шляхтою взвоют.
Скалясь, конь несёт Тараса
судьбине навстречу.
Запеклась в груди, увязла
боль нечеловечья...-
То не белый стан Софии
с птицами-крестами,
не казнимый лик Андрия
с детскими устами.
То Остапа зов предсмертный:
"Батьку, чи почуешь?"
Ой, поминки, огнь несметный,
пламень, рвущий упряжь...
В пене, Чёрт несёт Тараса
по степи кровавой,
да никто не знает часа -
ни грешный, ни правый.
Ой, не знает кручи старый,
где Днестр колобродит,
где палач гвоздями яро
к дубу приколотит...
Батьку, батьку, брат казацкий,
грозный сын Украйны!
Смерть и муки - ката цацки -
душу не украли.
Этот дух и лоб упрямый -
тезаурус, таврос -
над столетий панорамой
чайки-нени парус.
Этот дух, носитель мудрой
Кобзарёвой сути,
завещает - червень-утро
в свежей мяте-руте.
Скоро ль, скоро? Может, завтра,
может, раньше, ненька, -
в явь сплотятся синь и злато,
по слову Шевченко?
Аллегория срама
Животное с велюром на загривке,
с отравой страха в саморезах глаз,
из шлака терриконов, из фальшивки
косноязычных криворотых фраз
сварганенное – из всего, что гнило,
скользило под резиновой стопой!
Рептилия с угрюмо-злобной силой,
что станет, некий срок спустя, с тобой?
С тобой, кто снова помыкает ненькой,
от срама и стыда уже чумной?
Да грянет Гонта разом с Кукубенкой,
да вспыхнет Стус звенящей купиной! –
Над преисподней, где под скрипку Кафки
Каддафи пляшет чёртом и Саддам…
Где лишь одной – но кровью сердца! – крапки,
Тарасовой – во гневе, оземь! – шапки,
не достаёт архангельским судам…
* * *
Пам"яті Степана Сапеляка
Степане, ясноокий пане,
чому ж так невблаганно рано
твоя сопілка, Сапеляк,
повітрям захлинулась, змовкла?
Немов би відчаєм Дамокла
дихнув із січня березняк.
Носив гуцульські файні вуса,
Тараса привітав і Стуса,
немов старших своїх братів.
Заради України-нені
перетерпів роки скажені,
нічні. І бачити хотів
нарешті ранок... Та не дуже
світанок поспішає, друже,
до териконів, до ланів,
до бань дніпровської Софії.
Вже вкотре шахраї лихії
гнуть нас, женуть до лихварів.
І з сумом дивлячись на неню,
рукописи затисну в жменю,
щоб стерти бруд з очей, з лиця.
Молюсь за тебе, сива Мати.
Дай собі сили не приспати
архангела, сопілки брата,
митця - від Господа бійця!
О Гранаде, печалясь и радуясь...
Альгамбра
О Гранаде, печалясь и радуясь, выдохни слово
там, где смешан влюблённости день с вековечной тоской,
где восходят к дворцу с Торровьехой вдвоём Терранова,
и на холм с Колотравой весь род поспешает людской.
О Гранаде, в лиловых и розовых ветках цветенья,
там, где солнце - в соитье с дождём по-над майским холмом,
где под шлемом седин моложавого чувства смятенье,
паче чаянья, сходится ныне с прицельным умом.
О Гранаде - без скорби! Ведь нежная птица Альгамбры
плещет в небе крылом кружевным и узорным пером.
Носят пчёлы с багрянца Иудина дерева амбру,
белый "Боинг" счастливо садится на аэродром.
И из мраморной чаши фонтана с проточной водою
чёрный дрозд жёлтым клювом аллюзии вечности пьёт.
О Гранаде - всем голосом, всею душой молодою,
мавританский целуя, пропитанный магией рот.
Все потоки пороков и жертв, реки все Реконкисты
остаются за кадром. Журчит в арабесках ручей,
так напевно-молитвенно, так целомудренно-чисто,
что любовь - есть воистину Бог по-над тьмою ничьей.
Белый лайнер "Иберии" мчится по ленте бетонной,
снежной стражей очерчены Сьерры-Невады клыки.
Но смиренно-мудры Халифата почившего склоны.
Об Альгамбре от счастья заплачь. Ибо путь твой исконный,
человеческий - в здешнем узоре Господней тоски.
Лист мушмулы мохнат...
* * *
Лист мушмулы мохнат,
дымчат изнанки пух.
Сорван во тьме виноград
ради наяд-подруг.
Ввысь на обрыв-откос,
по корневищам, камням,
бес ли нас, дерзких, нёс -
в небо, к мускат-кустам?
Дымка волшбы уплыла
за перевал, хребет.
В тех временах, - вне зла, -
каждому -надцать лет...
Ныне же ночью мне -
больше, чем нам троим
вместе, там, при луне,
где каллиграф Керим,
в отблеске мушмулы
вязью шифруя код,
пишет на бланке Аллы
справа налево мне счёт.
Cлышу укоры во сне:
"В суры Мои не вникал,
по вертикальной стене,
яко шайтан, скакал!
Даром мой муэдзин,
выйдя на минарет,
звал тебя сорок зим,
кликал все сорок лет. -
Гурии нежной пыл,
ягоды пьяной кровь
так ты и не забыл...
Слушай - не прекословь!
Слушай же - дни сложив
и поделив на века,
Милость явлю: "Ты жив? -
Ну, и живи пока!"
Восточная кухня
В середине августа – жёлт инжир,
ибо лето красно, как рай-эдем.
С чебурека каплет горячий жир.
Торгаша зовут не Адам, а Эдем.
Это Крым – исламский по чресла край.
А чей выше чресел – не разберёшь.
Меж шурпой и водкою выбирай
и за всё плати окаянный грош.
Погощу сегодня, - в который раз,-
на плато Ай-Петри, Завет-горы,
где блюдёт Корана смолистый глаз
все шайтан-котлы да шашлык-шатры.
Всё бурлит, кипит,в оборот идёт,
то баран свежуется, то баклажан.
И несёт гяуру в зубастый рот
поднебесную пищу кормилец-хан.
В этой сочной-смачной далме-сарме,
в дымламе дымящейся, говорю,
не ищи коварства. В чалме-уме
только мысль – окуклиться к ноябрю,
чтоб, серятину-зиму в зелёный чай
пополам с лепёшкою обмакнув,
снова крымскую песню “начни-кончай”
затевать под майский сквозняк-наддув...
Но пока ещё – август, сезам-сезон,
поцелуй копилку, Эдем-баши,
и ножом, прямым, как прямой резон,
свой лиловый лук и чеснок кроши!
В Партенитской бухте, средь тесных стен
бабы Веры Павловны Чеботарь,
будет снится пир мне – без взятых в плен -
виноградных грядок узор-рефрен
и гостей скликающий, как Диоген,
хан Эдем с вершины, шашлычный царь...
А ещё был светел остров с ельником ...
Острова
Исла Эльба, Корсика, Сардиния,
весь в оливах, рай хорвата - Хвар.
Охрой почвы и смарагдом пинии
каждый остров, словно Буссенар,
дышит в удивлении, в предчувствии,
медно-красной пулей синий ствол
заряжая, чтоб из цельных уст его
в цель летел стремительный глагол...
А ещё был светел остров с ельником
посреди родной реки Донец,
где бродил ты ящериц подельником,
пастушонком облачных овец.
И, ни сном, ни духом об экзотике,
ни гу-гу о пёстрых островах,
проплывал на камышовом плотике
меж кувшинок в слобожанских снах.
В солнечных изломах семилетия
ликовали ритмикой, - без фраз, -
птичьи восклицанья-междометия,
плёса искромётный глаз-алмаз.
Вышивая Эльбу ли, Сардинию,
от Змиёва и начни стежок,
где жива купель золото-синяя,
заводь у Гайдар, ленивый линь её,
плот и мальчик, летних вод божок...
О том, что уставший успеет уснуть...
Над шахтами
1.
Донцом рассечённый полуденный Кряж!
Я знаю твои родовые преданья –
бумажных цветов, над провалом, шуршанье,
сивушный огонь поминающих чаш...
Но вот уже шрамы овражной земли
июнь затянул молодою травою,
и над уцелевшей моей головою
терновника ветки вовсю зацвели.
Над скопом хибар, где хворают отцы,
где матери рвут сыромятную жилу
трущобное солнце детей оживило,
и прытко на грядке взошли огурцы.
И бабки под окнами – легче мышат...
Похоже – ещё нас со света не сжили
безбожные фабрики кривды и пыли,
державные логова угольных шахт.
И солнце над скверной – вот замысла суть,
которому нету земного названья. –
И это - живей и смиренья, и знанья
о том, что уставший успеет уснуть...
2.
И вот, - под слоем копоти угрюм, -
но твёрдости не изменив врождённой,
сквозь кавардак-бардак, шурум-бурум
иду я к цели, предопределённой
не мною, но, конечно же, Тобой,
стахановец и знаменосец Духа!
Под слободой крысиных нор забой
отбойным молотком клокочет глухо.
За Ирода грехи и за мои,
Ты воздаёшь мне больно и сторицей.
Но сквозь слои породы "Элои!",
сыновний зов, мне неизменно снится.
И не спрошу я в нём, зачем меня
средь гиблых терриконов Ты оставил.
Спрошу лишь только - скоро ль зеленя
апрельские ворвутся в бой без правил? -
Там, где, чернея, дыбясь и внахлёст
пейзаж разлёгся зимний, гол и долог,
где в шахту провалившийся погост
являет разом и общак, и ГОСТ
в смешенье чисел, шрамов и наколок...
Когда всё врали вы, писаки-шкуры...
Васыль Симоненко
47-й год
Забылось и обид, и споров лихо.
Но помню я, как в том голодном дне
душистым цветом пенилась гречиха,
и аисты топтались по стерне.
И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, "обеспечить план".
И плакали вдовицы, дети "хлеба!"
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотно, в небо
скелеты шли, герои трудодней.
И не забыть мне взгляд мужицкий хмурый
и матерей в испуге и тревоге,
когда всё врали вы, писаки-шкуры,
о счастье тех, кто падал у дороги.
Вольный перевод
с украинского - С.Шелкового
Оригинал
Василь Симоненко
47-й рік
Забулися давно образи, суперечки,
Злиденні і напівголодні дні,
Та не забуду я, як пінилася гречки
І чорногузи гуртувались на стерні.
І люди йшли байдуже, мов лелеки,
Із косами дідівськими на лан,
В полукіпках лишали чорні глеки,
І, зуби стиснувши, "виконували план".
І вдови плакали, кричали діти "папи",
А на сніданок — жолуді одні.
І в гарбах пнулися скелети-шкапи,
Худі, немов колгоспні трудодні.
Я не забув мужицькі очі хмурі,
Обличчя матерів налякані, тривожні,
Коли писали ви, продажні шкури,
Про їх життя, щасливе і заможне.
21.XI.1956
Я не пошёл к нечистым в услуженье...
Васыль Симоненко
Я
Не знаю - силой дьявола иль Бога -
завет большой печали правит мной:
душой тянуться к радости земной
и правду говорить в оскал бульдога.
А хочется, закрыв свои глазищи
проклятые, забыть о яви-зле,
дом завести, окуклиться в тепле
и улыбаться, словно дурень нищий.
Но только сердце, сердце ненарочно
сжимается пекучей болью, точно
в отчаянье готово умереть.
И шепчет кто-то (может, совесть) властно:
- Не смей идти дорогой той несчастной,
она - не жизнь, а смерть.
Поэт
Я жил не раз, хоть не в одной оправе,
и умирал, и снова воскресал,
и из сердец людских огонь кресал,
а боль смирял мужанием в октаве.
И там, где все вы глаз поднять не смели
от кандалов тюремных, от оков,
Мартыновы из ваших тёмных снов
мне снова в грудь стреляли на дуэли.
Я устоял. На привязи железной
держали холуи меня, как пса,
и мучили в дыре холодной, тесной,
забросив в зауральские леса.
Но раной оставаясь и мишенью,
я не пошёл к нечистым в услуженье.
Можно
Можно верить другу или милой,
грезить наяву или во сне,
белизне июньских нежных лилий
улыбаться в разогретом дне.
Можно жить, а можно в тусклой стуже
вымирать, как тупиковый вид.
Но не в силах словом тронуть душу
те, кто не пылает, не горит.
Люди ищут смысла всё упрямей,
хоть глаза их искони тревожны.
А витают, смерть поправ, над нами
смеющие то, что "невозможно".
Вольный перевод
с украинского - С. Шелкового
Не этим Днепром ли челны византийские плыли?..
Лина Костенко
* * *
Ты смотришь вслед. А я уже - на трапе.
Слов нет. Зато печали - через край.
Жизнь движется по "Гауссовой шляпе".
Вчера лишь - "здравствуй", и уже - "прощай".
Прощай, прощай, чужой мне человече!
Прощай. Тебя роднее не найти.
И эта та единственная встреча,
когда спасенье в мужестве - уйти.
* * *
Снега в снегах. Над речкой - льды литые.
И вербам руки холодом свело.
Бежит волчица - мать - соски пустые,
косясь зелёным глазом на село.
А то село - как призрак-погорелец.
И смерть прошла лесами напролом.
Несутся тучи. Кривит губы месяц.
И воет в ночь волчица за селом.
* * *
Там есть, вдали, гора, где молчаливы птицы.
О горе той горе, и горе тем лесам!
Когда-то там прошли охотники-убийцы,
приказывая дичь нести послушным псам.
И оборвалась жизнь такой певучей птицы,
что занемело всё, и смолкли те леса.
Доныне лишь паук над сетью суетится.
О горе, о гора, отдай им голоса!
* * *
Не спорь, пустым словам не прекословь -
они уйдут. А в рифме - жизнь и жито.
Поэзия есть праздник, как любовь.
О, это не беспечный лепет быта!
Не перезвон и не ассортимент
метафор, слов - на пользу ли, в угоду.
А что, не знаю. Я лишь инструмент,
что плачет снами моего народа.
* * *
Не этим Днепром ли челны византийские плыли?
Царевна плыла,и ей был восемнадцатый год.
И мифы ль о ней записали писцы или были?
Король её сватал, и викинг, и русич, и гот.
Там вид на сияющий Днепр так просторен и дивен!
Там зеркало славы в глаза ещё кривдой не бьёт.
И Киев стоит. И стоит, каменея, Владимир.
И в памяти их молодая царевна плывёт.
Вольный перевод
с украинского С.Шелкового
Вкушал бы влагу вин и суп из мидий...
Из Золотого века
Зачем ты изваял вторую, Фидий, -
Афину-деву?
Афина-воин, в ревности-обиде,
зашлась от гнева.
Несносно светит чудо золотое
во мраке храма.
И смертным нет от зависти покоя,
нет злобе срама.
Плати же, мастер, дань - гоненья, дрязги,
клевет напасти.
То скрежет за спиной твоей, то лязги
тюремной пасти.
Над именем твоим навет сомкнётся
трясиной-гущей.
И сам Перикл уже не отзовётся,
во мглу идущий.
Напрасно посягнул ты, дерзко Фидий,
на совершенство.
Вкушал бы влагу вин и суп из мидий
близ волн блаженства...
Богиня бы, с когортой одесную,
не знала б гнева.
Как смел ты, Фидий, возлюбить другую,
Афину-деву?..
Киммерия
Здесь волны шепчут имя Пифагора,
шуршат «Анаксимандр, аквамарин»...
Здесь нету слов для жалоб и укора,
и круг пространства-времени един.
И этот круг, живая эта сфера,
верней, взаимопроницанье сфер,
искрят то алой альфою Гомера,
то опереньем весельных галер.
Так детородно Понта колыханье,
так страстен стон волнующихся вод!
О, выслушай ещё одно признанье
и продолжай свой кесарийский ход,
клочок земли с налётом перламутра,
где целый век в виду волнистых гряд
встречаю я аттическое утро
и провожаю варварский закат!
И если б каплю пурпура для тоги
сумел я здесь добыть, залётный росс,
да видят беломраморные боги –
и я свернул бы с каменной дороги,
и я бы в эту охру с хрустом врос...
Тот, за кем я ринулся в погоню...
* * *
Серафим летел на Симферополь,
семафор - до лампочки ему,
и гонца в вечернем небе тополь
узнавал по светлому уму.
Он летел, дыша закатом сонным
и любовным трепетом листвы,
и кивал в полёте Крымским склонам
благородной розой головы.
А внизу и я, в вагоне душном,
в клетке, переполненной людьми,
спать не спал - всё думал о минувшем,
о навек минувшем, чёрт возьми...
Но хранитель мой, по знаку Божью,
над железкой к морю курс держал,
чтоб не вытряс мне всю душу дрожью
поездных колёсных пар металл,
чтоб с утра в Крыму цвела софора,
и двумя морями пахла Керчь,
чтоб не стал я думать в эту пору,
как себя по-гоголевски сжечь.
Ведь со мною тот, о ком я помню -
то, что связан гулом крови с ним,
тот, кому давно машу ладонью,
тот, за кем я ринулся в погоню
в самом первом детстве: "Серафим!"
И лишь до третьей крови...
* * *
В Москве хохол, а в неньке-Украине
нездешний псалмопевец и москаль,
аз есмь! Аз на крыле ещё доныне,
не лизоблюд, не трезвенник, не враль.
Дух дышит, где захочет: в гиблом поле
и в напрочь обесчещенной стране.
Как истина в вине, живет он в соли
на самом вязком и нечистом дне.
В Европе варвар, на Руси — ненужный
старатель слов и толкователь снов,
я редкий ныне, – ибо не бездушный
и не безгласный – из её сынов.
Я тот, кто смеет настоять на праве
любви к своей расхристанной стране –
пусть вопреки недоброй нашей славе
и злой молве, язвящей нас извне.
Ведь Дух живет, где хочет: Достоевский
из петербургских сернокислых зим
окликнут Джотто-флорентийца фреской…
И лишь до третьей крови тон мой резкий
в закланье отдан дням глухонемым.
* * *
Мой маленький мальчик, игрун и шалун,
в узорный звенит колокольчик.
За окнами бродит мороз-колотун,
зубами скрипит, как подпольщик.
За окнами – криво сколоченный мир,
предместий батрацкие сотки,
провалы в асфальте, синюшный кефир
в слабеющей старческой глотке.
Когда-то двойник мой хотел убежать
в леса могикан и апачей.
Я здесь. И кому же мне руку пожать
на лестнице драной кошачьей?
За окнами тысячелетье и век -
опять не по нашему Сеньке…
Когда б и рискнул я на новый побег,
прикончили б снова за деньги,
убили бы - за достоевскую жизнь…
И здесь, где сюжет окаянства –
куда изощрённей, чем Брейгеля кисть,
здесь время - лишь эхо пространства…
Сугроб да погост – гробовая страна,
которую с плеч не снимаю,
то в голос кляну – ни покрышки, ни дна! –
то вновь, до любви, понимаю…
Тебе, мой заветный, не зряшным гостям,
тебе, моё ясное око,
я медный бубенчик по льдистым путям
в кармане везу издалёка.
И вот бубенец наш средь хвои звенит,
на нитке искристой подвешен,
и город к сочельнику снегом укрыт
и сызнова – небезутешен…
Цветком ли аукнется зимний звонок,
синея средь русого лета?
Тогда мой дружочек, я буду далёк
от полного зелени света.
Но если б в лугу, средь огромного дня,
под колокол, с горки плывущий,
ты понял на миг, что лишь з д е с ь для меня
возделаны райские кущи!..
Днесь, данас
ДНЕСЬ, ДАНАС
2013-й год начался для меня необычно и неожиданно. После новогодних, по-родственному тёплых, посиделок в гостях у дочери и внука, под особенно пышно-разлапистой и пахучей на этот раз, праздничной сосновой хвоей, я возвратился в своё гнездо на Чернышевской улице уже в начале третьего ночи. И тут же, по укоренившейся в последние годы привычке, заглянул в свою ячейку мировой информационной сети - в почтовый ящик мэйл.ру. Точно так же, думаю, и во все незапамятные времена не терпелось каждому настоящему ловцу-рыбаку поскорее проведать свои невода-тенёта: не затрепещет ли в них рыбка - серебряная простая, а то и особенная, золотая?
Письмо, ожидавшее меня в праздничном почтовом ящике, в глубине новогодней ночи, несомненно принадлежало к категории "нечаянная радость". В нём я обнаружил пять моих стихотворений, почерпнутых, ясное дело, из интернета, в переводе на сербский язык, лаконичное поздравление с Новогодьем и подпись - Владимир Ягличич. Так впервые, с удивлением и радостью узнавания, прочёл я около сотни своих строчек по-сербски и так впервые познакомился с сербским поэтом Владимиром Ягличичем, живущим в Крагуевце, в Шумадии - историческом сердце Сербии.
До того дня, вернее, до той ночи 1 января, наши жизненные траектории не соприкасались ни в пространствах интернета, ни в реальных координатах. Теперь же, поискав своего нового знакомого на нескольких литературных сайтах, я прочёл, что Владимир - известный писатель, автор десятка собственных книг стихов и прозы и чрезвычайно активный и опытный переводчик поэзии со многих языков - количество его переводческих томов исчисляется уже многими десятками. И уже почти двадцать лет он неутомимо трудится над созданием антологии русской поэзии ХХ века в переводе на сербский язык. Без всякого преувеличения, его можно назвать подвижником, торящим пути русской поэзии к сербскому, да и к балкано-славянскому в целом, читателю.
События, несущие в себе живительный заряд "нечаянной радости", эти редкие подарки, словно слетевшие к тебе с небес, конечно же, не забываются. Так вспоминаю я с особым чувством и своё, уже давнее, лето 1984-го года, когда из Москвы, из редакции "Молодой гвардии", позвонили мне совершенно неожиданно, сообщив, что вскоре будет напечатана моя первая книжка стихов "Всадник-май". То был, несомненно, очень важный для меня и обнадёживающий поворот судьбы и, при всей внутренней закономерности этого события - некий счастливый выигрыш в непредсказуемой лотерее житейской круговерти.
После "Всадника-мая" вышли в свет ещё двадцать моих книг стихов и прозы, и каждая из них мне дорога по-своему. Но такого ярко-молодого и ободряющего ощущения благосклонности небесной канцелярии, как тем летом 84-го в Киеве, на днепровской набережной, где застала меня внезапно московская весть, я, наверное, уже не испытывал. Сегодня нет уже среди живых ни редактора Галины Рой, ни чистосердечного лирика, поэта Коли Дмитриева из подмосковной Балашихи, написавшего напутственное слово к моей первой книжке. Помню о них и о тех днях моего неофитства, помню о живом трепете надежды и мысленно произношу вослед ушедшим людям, вослед пролетевшему времени: "Спасибо, спаси Бог..."
Чувство, напомнившее мне ту радость далёкого 84-го года, возникло во мне и в нынешнюю новогоднююю ночь - навстречу светящимся на экране компьютера строкам письма Владимира. Конечно, интенсивность моей теперешней реакции не могли не приглушить, в сравнении с той, давней, три десятилетия реального бытия с его неизбежными ежедневными уроками и постоянными счетами к оплате. Но негромкая умиротворённость с неким привкусом лёгкого удивления: "А справедливость-то - нет, нет, да и заглядывает к нам в гости...", явно поселилась внутри меня в ту минуту.
И благодарность моя только что совсем незнакомому человеку, возникнув в сознании, всё крепла: ведь и впрямь по-настоящему великодушен его поступок - отыскать стихи в сети, приветить их, сделать переводы да ещё и столь обнадёживающе превратить их в новогодний дар и символ! Что-то подсказывало мне изнутри, что в первые часы первой ночи 2013-го года по сути рождается моя новая книжка стихов - и при этом совсем необычная, такая, каких у меня до сих пор ещё не бывало. И название у неё будет краткое, но не простое, по-сербски звучное, "Данас", что и в старорусском варианте "днесь" определяет одно из самых точных и ёмких имён времени.
Прежде я, конечно же, нередко летал во снах, - то паря, то лихо ускоряясь, - ныне такие полёты стали уже не столь частыми. Хотя и надо признаться, без всякого лукавства, что и до сих пор эти ночные ощущения реликтовой крылатости не оставили меня на полный откуп земной гравитации. А иначе, наверняка, и всё новые стихи, невесть чьи и невесть откуда, не влетали бы, сами собой, в моё жилище - пошептаться, помолчать, спеть что-то любимое. А там, глядишь, и остаться, если, конечно, им захочется, - буквами и словами, - на листе бумаги.
Мой полёт во сне этой новогодней ночью, уже после четырёх часов, после отправки электронного письма-ответа Владимиру, оказался щедро благодатным по ощущению и узнаваемым по пространственным координатам. Я не просто парил или кружил в воздухе, как бывало раньше, в общефилософском, сказать бы, антигравитационном контексте, но двигался в полёте целеустремлённо и словно бы победительно. Это был даже не полёт, а некий протяжный и замедленный прыжок в длину вдоль пологой подошвы склона крымской горы в местах обетованных - в хорошо знакомых мне по многочисленным юношеским и зрело-моложавым приездам.
И это было исполненное значения возвращения именно сюда в Малый Маяк, то есть, в Кучук-Ламбат (что сказано на таврической смеси греческого и турецкого), к тем самым пенатам, которые явно или же подспудно, но всегда живым и освежающим воспоминанием, проникали и проникают в ткань и в интонацию множества моих крымских песен. Ещё точнее, возвращение в спортлагерь моего университета, лежащий прямо на берегу Понта Эвксинского, как раз по середине пути по кромке моря между двумя знаменитыми, потухшими ещё в древности, вулканами - Аю-Дагом и горой Кастель. Давно я уже не заглядывал сюда, приезжая в последние годы то в пушкинский Гурзуф, то в волошинский Коктебель, а то и к азовскому берегу Крыма, на Казантип. И вот снова принесло меня некой метафизической волной именно сюда, на незабываемый клочок побережья под посёлком Малый Маяк. И сколько же раз ходил я отсюда пешком вдоль берега моря до Профессорского (теперь Рабочего) Уголка под Алуштой, до того склона горы Кастель, на котором, в начале ХХ века, в белом домишке с "огромным коричневым садом", родились замечательно-молодые стихи Осипа Мандельштама, памятные многим читателям поэзии каждым своим звуком - от "Золотистого мёда струя из бутылки текла..." до "Одиссей возвратился, пространством и временем полный..."
Ощущение приснившегося полёта-прыжка между Аю-Дагом и Кастелем оставило и после пробуждения живое и бодрящее послевкусие, и, пусть покажется странным, но в памяти совершенно отчётливо задержался и весьма достойный результат этой попытки - 737 сантиметров, объявленный чьим-то уверенным голосом за кадром сновидения. Похоже, что воздухоплавателя-ветерана и извечного собеседника Крыма по-настоящему вдохновил и окрылил новогодний сюрприз сербского поэта, подтолкнув к столь многозначительным и ярким фантазиям-символам.
* * *
Но перейду, пожалуй, от предыстории и предощущений события ближе к самому событию - к этой, похоже, живорождённой, книге, название которой, "Данас", возникло почти сразу же, спонтанно, при прочтении мной самых первых переводов, сделанных Владимиром Ягличичем. В "данас и днесь" слышатся и Дионис эллина, и дениз-море османа - неслучайные отголоски, непустое эхо. И это "данас-днесь-сегодня" - и вправду одно из самых важных и ёмких имён такой загадочной и всевластной субстанции, как время. Ибо "сегодня" вмещает в себя не только окончание "вчера" и начало "завтра", что очевидно, но вмещает, - и в метафизической, и в реальной сущности, - и прошлое, и будущее во всей их полноте, как две, всегда пересечённые в "сегодня", полубесконечности.
Ну и конечно, в этом "днесь" не умолкает двухтысячелетнее, первородное и ключевое: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь", ибо именно этой нелукавой молитве научил нас Он сам в самом начале Его времён.
Наверное, и многие из моих предыдущих книг, - то безотчётно, то осознанно,- были названы именами, взятыми из ряда бесконечно-изменчивых, и всегда только приблизительных, имён времени: "Всадник-май", "Три времени судьбы", "Вечеря", "Июнь-июль", "Эон" и наконец, "Аве, август" минувшего года. Да и сквозь названия других моих книжек "неизменно дует ветер свежий" - ветер перемен и странствий. Такими, по крайней мере, они мне представляются. В этих словах на обложках - и ощущение, и, наверняка, уже потребность в подвижности времён и пространств. В них смешаны и тяга-тоска вечера, и бодрящий сквозняк утра, неустанно зовущие в дорогу: "Воздушные коридоры", На кордоне", "Мандры"("Путешествия"), "Парусник"...
"Затем и бродяжишь, чтоб высветить ближнее дальним...", затем и улетаешь, уплываешь невесть куда, чтобы пристальней вглядеться в свою собственную суть. Чтобы понять нечто важное о самом себе, взглянув на свой мир под новым углом зрения, порой острым и неожиданным.
Поэт, читатель поэзии - всегда странник, путешественник в пространстве и во времени, "очарованный странник", говоря словами Н. Лескова. И я искренне благодарен счастливому расположению звёзд и сербскому поэту Владимиру Ягличичу за то новое и чрезвычайно важное для меня путешествие, которое неожиданно началось в новогоднюю ночь 2013-го года. Два полных зимних месяца, когда рождалась эта книга "Данас", все дни января и февраля, все днесь-сегодня, помеченные, каждое своим, календарным числом, были одушевлены для меня всё новыми и новыми виртуальными погружениями в старую и новую историю Сербии, в её искусство и литературу, в её языковую и песенную стихию.
С Косова Поля переносился я в Герцоговину-Захумлье, на родину Святого Саввы. От дунайских берегов Белграда, от Сараево и Мостара, тоже накрепко связанных с историей сербства, - к печальному греческому острову Корфу, "где цвета лимун жут", откуда и до сих пор звучит песня скорби, гимн и молитва сербского воинства, "Тамо далеко", проникая в самую глубь каждого славянского сердца.
И перелистав на библиотечном сайте полторы сотни страниц тысячелетнего "Мирославова евангелия", я снова возвращался к Николе Тесле, к его строкам о сербском поэте Змае Йоване Йовановиче, в которых он ещё в начале минувшего века точно произнёс именно то, что сам для себя я осознал в полной мере только в последние недели; воистину сербы - нация воинов и поэтов. И сам Никола Тесла, по моему глубокому и давнему убеждению, - не только инженерный гений, который, по определению, например, американцев "изобрёл ХХ век", но более и выше того, но в первую очередь, он - некий сверхпозитивный и светоносный ответ сербского духовного генома на все несчетные вековые страдания своего народа. Серб Господа, великий воин человеческого и Божьего Духа.
А читая прочувствованную статью Теслы о Йоване Йовановиче, могу ли я не помянуть добрым словом своего кровно-дорогого человека, носившего то же, по сути, имя - своего деда Ивана Ивановича, отца моего отца?
Иоанн Иоанныч, не выдохнуть гласных священнее,
не найти всенароднее имени и веселей...
Сторона моя русая, правда моя погорелая!
Что и взять с тебя - водки пузырь да костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот, что от сердца я сделаю -
снова вспомню своих: Иоанна, Николу, Петра...
Сама же нынешняя встреча с сербским языком для меня - словно встреча с дорогим и всё ясней и полней вспоминаемым прошлым. Снова ярко-белые полотняные одежды до самой земли, вышивки красным крестом на груди праславянских детей и женщин явственно оживают перед глазами. Отголоски и отзвуки древнеславянской речи завораживают слух, согревают и радуют душу. Самоценный и полный энергии язык, но сколько же слышится в нём родных и узнаваемых корней из русского и украинского, из зернистого старинного речения "Слова о полку Игореве" или Несторовой летописи!
Услышишь ли в по-сербски "песник"(поэт) или "песма"(стихотворение), и сразу же угадаешь, со слуха, суть нового для тебя слова. И между песней и письмом как будто ещё больше стирается грань, ибо и то, и другое - сохранённая память, запечатлённое время. И то, и другое - из единого, циклически повторяемого ряда: имена, письмена, времена. Прочитаешь ли "домаћин"(хозяин), и подумаешь, насколько ёмко и полнозвучно скрепилось в себе это слово, и как чревато его плотное лингвистическое зерно ветвлением всё новых и новых самоопределений: он, домаћин, и в доме всё, от пола до кровли, починит; он же и среди чад-домочадцев праведный суд учинит, и всё, даст Бог, вослед его неустанным трудам, что в дому, что на подворье, будет чин-чином, чин-чинарём. А "шума" (лес), - и тот самый, что сторожит склоны Шумадии, тоже, - разве не готовый, живой и выразительный, поэтический образ шумливых полнолиственных ветвей, запечатлённый в одном слове?
Или же "едрилица" (парусник) объявится вдруг белым полотнищем над виноцветием Ядрана. И тут же некое световое ядро, заряд благодатной энергии, - и морских вод, и человеческой отваги морехода, - заиграет и высветится ещё ярче и лучистей. Нет, не смутит моего благодарного слуха лёгкое фонетическое смещение начальных гласных. Затеплится рядом и мерцание "ядрицы" русского языка, зерна твёрдых и благородных пород, тяжелеющего в корабельном трюме. Или, наконец, - великолепно звучное, простое и точное, имя Божье и человечье, переходящее мне прямо в сердце из сербской речи, - "Божич"! Бог-младенец, Бог-человек - сколько же теплоты и любви в этом сербском наименовании праздника Рождество Христова!
Я вспомнил здесь, конечно, лишь о нескольких словах, устремившихся мне навстречу из стихотворений Владимира, из его сербских переводов моих стихов. И казалось бы, что это лишь отдельные примеры слов-образов, слов - смысловых сгустков. Но за этими частностями явственно видится мне и неизмеримо большее - необъятное пространство родственной и неповторимой речи, её живое дыхание. За ними - возможность благодарного и любовного узнавания, осмысления, исследования нового для меня языкового и духовного богатства, возможность причащения к новым путям вольнотекущей и чистоструйной реки-речки-речи.
Да и от частных слов-образцов, от этих сверхтвёрдых зёрен сербского языка, честное слово, уходить не хочется. Вот они снова стоят, словно сплочённые воины в строю, плечом к плечу, без единой слабины-прогалины, эти слова, эти буквицы - знаки сплошь согласных мускулистых звуков: крв и срп, врх и смрт, прст и брз, црн и црвен. Или же, чуть смягчаясь к концу слова гласной: срце и црква, дрво и врба, зрно и грло, срна и грба. И переводить-то на русский, пожалуй, мало что надо из этого пространного ряда, разве что "врх" - острие пики, копья, булата, наряду с острием горной вершины. А в иных сербских словах, твёрдых и упорных, подобных самому характер народа-воина, там, где рядом с мускулинумом традиционных согласных кириллицы, стоят буквицы Вука Караджича, узнаю в его ћ,ђ, в их верхушках-крестовинах, те силуэты православных часовен и церквей, что видел я в майском небе Котора и Будвы, Цетине и изумрудной Боки Которской.
И невозможно не устремиться ответно навстречу, с открытой душой, к родственно-памятной речевой стихии, к сербскому поэту Владимиру Ягличичу, пробудившему эти воспоминания:
Когда я говорю: "Мне дорог Нико Тесла,
славянского гнезда магический пилот",
я знаю, что душа Николы не исчезла,
что не сбавляет ход сети вселенской крот.
И вновь я повторю: "Мне сербы серебрятся -
и там, где у ножа спиральна рукоять,
и там, где - Божедар, Кирилл, Мефодий! - святцы
не могут о родном со мной не толковать.
.......
Вот и гляжу в глаза электрочудотворцу. -
Мой Тесла, сердцем серб и почвою хорват,
дар молний обретя в геноме змееборца,
при каждом Божьем дне мне - собеседник-брат.
Чтоб с ним потолковать о малом и великом.
вернее, помолчать, свежей любых речей,
я все чистовики сложу пред Отчим ликом -
на юге, рай-дуге, на севере ли диком -
всю жертвенность ягнят, всю мускульность вещей...
Эти же слова о взаимопритяжении наших культур звучат и в мартовском письме Владимира,
написанном уже в дни завершения нашей работы над книгой: "У меня есть ощущение, что многое из нашей совместной работы останется в наших братских культурах".
Большое спасибо ещё раз, дорогой Владимир, много хвала.
Разделяю Ваши надежды - да будет так. Дай Бог и Боже помози!
2013 г.
Спасётся лишь цветок стихотворенья...
* * *
1.
Французова, фиалка Коктебеля,
я вспоминаю море за окном.
Там чайки предзакатные летели
к синеющему мысу Меганом.
Там, белые, с небес они кричали
по-эллински: "Лариса, красота..."
Твоих очей две галльские печали
и маки зацелованного рта... -
Когда всё это, - за долги, - забвенье
возьмёт себе, тогда, в разломе дней,
спасётся лишь цветок стихотворенья,
средь киммерийских спрятавшись камней.
Тобой ли, коктебельская фиалка,
грущу иль облаками за окном
закатным? Или просто жизни жалко,
обманутой заезжим моряком?
2013
2.
«В бананово-лимонном Сингапуре»
очнулся на похмелье Коктебель.
Не доучился Макс в магистратуре.
Ассоль теперь – гламурная газель,
в трёх колерах, но с гибельным отливом –
в кумач и в сурик, в киноварь, в багрец…
Её споил замоскворецким пивом
чухонский карлик, бешеный песец.
На Кипре, на кокосовых Коморах
взбухают явно тайные счета.
И ворам панегирики о ворах
вольно чертить, кивая на Христа.
Французову и Коктебеля маки
отпел восточным воем Азнавур.
Клокочут орки, квакают макаки,
суля Парижу тот ещё бонжур…
2015
Три письма с крымского балкона
1.
На прямую надеяться, друг мой, сегодня нелепо.
Повезёт, если вывезет часом дорога кривая.
Разлюбил я все зрелища, стал не охоч и до хлеба. –
Календарные тихо записки-листки обрываю.
Между скифами слова незлого и встарь не водилось.
А на днях, и подавно, добро отменили декретом.
Если снег упадёт, я вполне оценю эту милость,
хоть июльский я фрукт, и согреться могу только летом.
Всё трудней приезжать мне к желанному некогда морю.
Одиноко вдвоём, одиноко на людной гулянке.
Длится время во мне и снаружи. Подобному горю
не помогут дельфин говорящий и Ельцин на танке.
Подметаю балкон, и шуршит бородатый мой веник,
но посланье к тебе, уж поверь, завершаю при этом.
Если знаешь, где взять хоть на зуб неотравленных денег,
поделись и со мною своим кулинарным секретом.
Уж кого не читали мы, брат, на приморском балконе,
что за образы не воспалялись в лирическом сердце! –
А в загоне не те. И не те, особливо, в законе...
Впрочем, каждому – свой, как сказали бы в Риме, сестерций.
Что до Рима, увы, – продолжаю ценить понаслышке.
А вприглядку – любуюсь отчизной в разобранном виде.
Допускаю, однако, что дома метафор в излишке:
здешний воздух шершавый глотнул напоследок Овидий.
Прекращаю писать. Не хотел бы прослыть говорливым.
Не пристало нам, друг мой, к сединам дружить с болтунами.
Время к вечеру клонится. Юг остаётся красивым.
Шума больше, чем прежде. Но нету угрозы цунами.
2.
С монгольфьера-балкона, – в хлопчатых бывалых шортах, –
в час сиесты сочувственно вслушаюсь в родственный шорох
стихотворному ритму нечуждой волны понтийской,
работящей близко. И с берега этой запиской
о тебе, наследник мой льняноволосый, вспомню.
Ибо я всё ищу своему землепашеству ровню –
там, в минутах свиданья на улице Жён Мироносиц,
где решает отец с нежно-розовой мамой вопросец,
и в другой стороне – в сочленённой из пик ограде,
где простится мне всё, и Христа, и язычества ради...
Где оставлю в осадке я, максимум, дюжину стансов,
для которых прочтенья без желчи и реверансов
я хотел бы. Но, впрочем, желание это
есть типичный симптом для невольника чести, поэта...
Извини, славный мой, этот мессидж в конверте из Крыма,
где связались пути, те, что далее вьются незримо
до родных островов, где на эллинских скалах я вырос,
хоть по-гречески помню лишь альфу, как Папасатырос.
В сернокислом году этом, – от несварения Феба, –
обжигающий зной изливается в августе с неба,
и в цветах ленкоранских акаций размножился бражник,
мотылёк, толстобрюхий, как честного вора бумажник.
Но тугая вода, но первичного лона стихия,
где и вволю грешил, и смывать порывался грехи я!
И для взора просторного, и для широкого вдоха –
хорошо! Яко Кормчий сказал – хорошо, а не плохо!
Оттого, эллин мой, мне бы очень и очень хотелось,
хоть и глупо мне брать на себя ожидания смелость,
чтобы день наступил, когда плыли бы молча мы рядом
в параллель Партениту, смоковницам и виноградам,
у границы буйков по сентябрьскому синему Понту,
вдоль отвесного берега, – не к миражу-горизонту, –
а вдоль спелых пейзажей из зелени, охры и мела,
вдоль крупитчатой правды, что не изолгаться посмела.
Ибо в старом пароле, ещё не отжившем, – "Эллада» –
на свой лад, но таится пропажа семейного лада…
3.
Татар и Тартара гортанней,
пылает охра берегов.
А плечи полночи – желанней
благоволения богов.
Таврийской ночью на балконе
крепчает красное вино.
Сипит пластинка в патефоне,
жужжит судьбы веретено.
Воркует Клава ли Шульженко
иль округляет зычно рот
в правах богатых пораженка
Русланова полков и рот? –
Поют. И на балконе снова
так молоды отец и мать!
Но не разнять мне губ для слова,
не дотянуться, чтоб обнять...
А лишь вдыхаю воздух чёрный,
приснясь, к перилам наклонясь.
И вижу с высоты дозорной
сквозь кипарис мелкоузорный
слоистых гор водобоязнь.
Удары волн и ласки пены
отломят от подножья шмат.
Но выше, вдоль речушки-вены,
на полном вдохе Ойкумены,
парит – полвека без измены –
в ночи белеющий фасад...
Родимые до вздрога лица. –
Она тонка и мощен он.
И снится дом с балконом.– Длится
догалилеева страница,
столпов парящих небылица –
балясины, слоны колонн.
Позволь, земля Святого Саввы...
Владимир Ягличич (Сербия)
Элегия
Ожидая Йована Дучича
Позволь, земля Святого Саввы, вернуться сербскому поэту,
тому, кто не избрал изгнанья, но испытал его сполна.
Прими его сыновью душу, и в облаках, в потоке света,
пусть рядом с белым серафимом, крыло в крыло, летит она.
Час наступил. Поэт изгнанья, растаявший в дыму пространства,
не виделся уже полвека с родной землёй. Но вот - уму
и сердцу странника прощенье, вот сыну блудному лекарство -
день истинного возвращенья к себе, к истоку своему.
Сполна устав от груза комьев чужой земли, бездушной почвы,
он наконец спешит в объятья своих домашних и родных,
в объятья тех, кто слышит сердцем его сонеты в час урочный,
кто чувствует и понимает его золототканный стих.
Спешит туда, где ангел снимет плиты надгробной заклинанье,
туда, где строк цветы и стебли сольются в радужный букет,
чтоб избежать удела тёрна и глаз чужих непониманья,
чтоб на вопрос зерна о смерти алел цветущих роз ответ.
За светлый призрак возвращенья полвека мечены тоскою,
четвёртый год войной дымятся селения родных земель.
Так на реке столкнётся бурно волна со встречною, другою,
чтоб в усмирении теченья осуществить потока цель.
Мы ждали дня, не проклиная ни сына блудного, ни фата
салонного, ни дон-жуана, ни бессердечного отца,
поскольку знали, что поэта и звонаря ведёт к нам фатум,
тебя - восставшего над смертью, всевидящего мудреца.
И ты придёшь, хоть хрупкость мысли сквозь трезвость утра постигает,
что вряд ли нам вослед тоскует родных пейзажей череда.
Так знай, что твой приход есть радость, в которой грусть не исчезает,
поскольку многие из званных и ныне не пришли сюда.
И тот, кто слал тебе презренье и отлучение навеки,
теперь уже постичь способен твоей духовной силы смысл.
И может, мы с тобой вернёмся к любви - и в каждом человеке,
и в этом одиноком мире, что исчезает в бездне числ.
Пусть зазвонят тебе навстречу родные звонницы Захумлья!
Пусть плакальщицы, жёны скорби, сойдутся над тобой гурьбой.
Пусть с нами наша боль и гордость и наше чёрное безумье
объявят ныне о победе, взлетев над вязкою землёй!
И ты, кто знал чутьём пророка, как тяжело, опасно, зыбко
нам будет в новой той погоне, где прежний ужас оживёт,
усни спокойно! Над тобою, играя, с яркою улыбкой,
босые сербские мальчишки промчатся по траве болот
требиньских. И тебя услышат те, кто имеет слух и душу,
понеже голос патриарха взлетит поверх колоколов:
"Что привело ко мне вас? Страх ли меня зовёт ваш, иль хуже -
власть победителей? Иль верность священнодействию отцов?
Меня вы больше не ищите - ни за холмом, ни за рекою.
Я возвратился, чтобы дальше плыть над земною пеленой.
И пусть меня не отделяют от неба, от его покоя
и от земли обетованной, земли, единственно родной.
_________________________________
Стихотворение возникло после решения возвратить из Америки прах Йована Дучича, сербского поэта, в родной город Требине, в Герцеговину, в Республику Сербскую. Там, на горе Леутар, воздвигнута церковь, в которой он теперь лежит.
Земля Святого Саввы - и метафизически, и физически. Святой Савва родился в Герцеговине.
Половина века – пятьдесят лет прах Дучича лежал в Либертвиле.
Четвертый год войны - стихотворение написано в середине девяностых годов, когда в Сербии шла война.
Захумлье – старинное сербское название Герцеговины.
Чутьём пророка – многие стихи Дучича оказались пророческими.
Блудный сын, салонный соблазнитель, бессердечный отец – из частной жизни поэта Дучича; он долго был салонным поэтом, другом королей, дипломатом, человеком, разрушавшим браки, отцом, который не признал своего сына, совершившего в дальнейшем самоубийство... А в конце жизни стал убогим изгнанником в Америке и – великим поэтом.
Плакальщицы - рыдающие на похоронах женщины, по образцу античных трагедий, по-сербски - нарикаче.
Вольный перевод С. Шелкового
Отрок, в жмурки, игравший...
* * *
М.
Отрок, в жмурки, игравший, и завтрашний жмурик-мертвец!
Говорить с отраженьем своим - запредельно опасно.
Благо, к розовой маме давно подкатился отец,
чтоб решить мой вопрос по-мужски, неотложно и ясно.
Пламенел лишь вчера на ветру первомайский флажок,
а сегодня мой сад пересохлыми ветками ропщет.
Как советский, с горячей картошкой, остыл пирожок,
так, того и гляди, клюнет в темя сегодняшний кочет.
Закрутилось в жгуты окаянное время чудес.
Не отыщешь себя в оболваненной бизнес-вселенной.
И пока за холмом спешно рубится Господа лес,
человеческий суд за изменой штампует измену.
За коленом колено трещит - то утроенный грех,
то двуглавый эмпирик, то понтификат шестипалый...
Вот мы, милое чадо, сполна и ответим за всех,
за все дыры времён, за пространства распутицы шалой.
Не горюй, мой заветный, я сам свою соль проглочу,
открестившись от выпитой водки и будущей песни.
При последних минутах поближе к родному плечу
мне прижаться бы, без причитаний о стуже и бездне.
Не грусти, мой хороший. И я ни о чём не ропщу,
только всё молчаливей на Бога смотрю и на присных.
Только в искре зрачков твоих снова и снова ищу
обещания встреч - в бесконечных непознанных жизнях.
Из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера...
Владимир Ягличич (Сербия)
Стихотворение
Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом – и смертною мукой, и счастья истомой,
разом – и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,
словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.
Из жития возникают, из охры пещеры, –
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи, –
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.
Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.
Дары
Миловану Беконьи, скульптору
Когда проводишь друга – снова, снова! –
в нездешний мир, в загадочную тишь,
закрывшись в мастерской, не помня слова,
с немым резцом опять заговоришь.
Но все шумы, весь хаос многоликий
в затворничество целятся твоё –
шаги влюблённых, фар вечерних блики,
околичное, с лаем псов, жильё.
Пусть гул толпы бахвалится победой.
Но надо было с демоном сойтись
в единоборстве ради правды этой –
искусства, светом полнящего жизнь.
И пусть друг друга рвут они на части,
Ни разума не помня, ни стыда, –
и те, кто рвутся к вожделенной власти,
и те, кто должен уступить места.
Ты знаешь: шум машин, надменно-сухо
звучащий, страсти зов, поход во власть –
всё это – не от сути, не от Духа,
и, как вселенский прах, должно отпасть
перед смиренным обликом иконы.
Все лжи слои осыпаться должны
пред вечным, перед тем, что ждёт исконно
на самом дне духовной глубины.
И только тот, кто наших слёз достоин,
кто прожил и ушёл как человек,
вернётся в некий час, поэт и воин,
чтоб с мастером вдвоём назвать свой век
по имени. Взгляни же миру в очи,
ваятель, чтоб в резце себя нашла
надежда, чтоб Судья небесный зорче
вгляделся в штрих-пунктир добра и зла.
Чтоб в дереве, металле или камне
прошли бы пред судом Его седин
тысячелетья следом за веками -
пешком, бегом ли, «формулой-один».
В счастливой силе дня ты и не вспомнишь,
что слаб и наг, что на две трети сед.
Лишь в мудрой одинокой думе полночь
шепнёт, что каждый свой оставит след.
И этот след на вязком бездорожье –
итог трудов резца и мук пера.
Свой нежный дар Христу и плану Божью
несут сквозь скудость мира мастера.
Несут сквозь казнь бездушья и бездумья
отвагу и отзывчивость сердец,
дабы, итожа счёт жестокой сумме,
простил хоть часть стадам своим Отец.
Тесла
На говор грома, на вопрос природы
сверкнёт в электрокабеле ответ.
В прозреньях мага - проблески свободы
над мраком. Но предела спору нет.
И он поймёт, что в нём душа эфира
живёт, и откровением звучит.
И надо ль умножать упрёки миру,
когда лишь Дело правду утвердит?
Всех демонов, что дом его сжигали,
пронзит он, в медитации, насквозь
О бедный гений! Длится путь реалий
сквозь темноту, где каждый - только гость.
В величии и в ризе покаянья
идти ему - вне Святости ночей.
Не людям о своей шепнёт он тайне,
но лишь голубке белой на плече.
Лишеньем пола сблизив Ур с Ростовом
и Колорадо с первым светом дня,
он - вестник мировым первоосновам,
Серб Господа и звёздного огня.
Хозяин
И в праздник Крестной славы ото сна
поднимет ночь меня негромким зовом.
В букетах звёзд, небесная страна
не спросит о пути моём ни словом.
Увижу вновь порог, под ним змею,
притихшую на камне в чуткой дрёме.
В траве двора узнаю тень свою
и шаг минувший свой почую в доме.
Опустят тёмный занавес немой
и тишина, и голос эха странный.
И перед тем, как я вернусь домой,
замру, застыну, словно и не званный.
Чтоб шорох из гостиной услыхать,
согреться вновь слезой свечи о Боге
и чтоб открылось благо мне опять:
калитки скрип - под ветром от дороги.
---------------------------------------------------------------------------
Крестная слава - праздничная дата, нечто сродни русским именинам. Каждый дом в Сербии помнит своего святителя и славит его в ночь Крестной славы, собирая родных и друзей за столом с угощением .
Праг – распространённое в Сербии верование о том, что под каждым порогом в доме спит змея, хранящая дом.
Вольные переводы С. Шелкового
Самым последним порывом, посылом...
* * *
Словно бы в детстве, рассветное майское,
настежь раскрыто окно.
Словно воздушной и щедрою ласкою
нечто навек мне дано. -
То, чему имя доныне не найдено, -
вечной ли радости дар?
То, что всем миром по нитке раскрадено,
смолото в мелкий товар.
Чайные розы цветут, осыпаются -
Марфы-садовницы куст.
"Доброе утро" - с ребячьих срывается
быстро-улыбчивых уст.
Дышит воздушное, вечное-майское,
утро - вне скудных времён.
Словно, уста причащая подсказкою,
длит евхаристию Он.
* * *
Каждый изломан, шарадою скручен –
вроде тебя.
Нету путей вдоль извилин, излучин,
и лишь любя,
самым последним порывом, посылом,
рвёшься успеть
к заводям, неувядаемо милым,
дабы их сеть –
ивовых гибко-девических веток –
пела своё,
чтоб зимородок, смарагдово-меток,
птица-копьё,
бил бы в пике в серебрянку уклейки,
шёл в вертикаль...
Старость нищает, и яркой копейки,
бронзовой, жаль –
той, что сверкнула и канула в воды
с медью крючка,
под феерический веер удода,
с пеньем смычка,
с былкой полыни, с игруньей-кобылкой
там, где зверьё, –
тролли, в обносках, но в щедрости пылкой, –
пилят сушняк насекомою пилкой,
варят над золотоносною жилкой
счастье твоё...
И нас осенний сон, чем сможет, защитит...
Владимир Ягличич (Сербия)
В горах
10.
Как лёгок голос твой, осенняя цикада!
От тёплой полосы бетона под окном
сквозь сумрак он летит. И в мире, полном лада,
смолкает лишний стих, смирённый полусном.
Вот вечер, где сонет в сонате умирает,
где каждый малый такт - прощальный взмах руки,
где преданность зрачков мой взор во тьму роняет,
а нот твоих ключи - строги и чуть горьки.
Прощанье - ток минут, стеклянная воронка
невидимых часов. Но доверять ли мне
пространству, что поёт неуловимо-тонко,
но с холодом судьи, но всё-таки извне?
Ведь солнца детский дар - всё обречённей ныне,
дионисийский плод прикрыли облака.
"Спасибо и прости" я говорю святыне,
что осенью умрёт для майского цветка.
Позволь же взять тебя в ладонь, как каплю влаги,
и к уху поднести, чтоб отзвук давних сил
поймать. Чтоб без чернил, без версий на бумаге
я будущее, вслед уходу, ощутил.
Не бойся же уснуть на высшей ноте трели,
певунья. Дни без нас настанут вне обид,
ведь были мы собой и, что судилось, спели.
И нас осенний сон, чем сможет, защитит.
Вольный перевод С.Шелкового
У горама (оригинал)
10
О, како лако певаш, зрикавче ранојесењи,
под прозором, на бетону, пред мрак који се гусне,
и сав се околиш у твоју лиру пресели,
и застане стих сувишан с полуотворене усне.
Ово је доба у ком се најопојније умире,
сваки твој такт је мера руке што маше збогом,
узалуд моје око поглед у вече упире,
ти си сад у стварнијем, невидљивом и строгом.
Опроштај леп су нам сати, стакленим судом спојени,
ал ја не умем тако безмерно да се поверим
надолазећој ноћи што твоју песму поје ми,
несхватљиво и студено, на некој судњој провери.
Јер сунце више није савезник наш детињи,
и облаци су застрли дионизијске плодове,
допусти да се с тобом поклоним овој светињи
која се јасно губи у славу нове обнове.
Допусти да те узмем у длан ко мало воде,
да те принесем уху спремном за бајке негдање,
да пре него све оде тамо куд мора да оде,
осетим како пева будуће наше немање.
И не бој се да усниш на распеваном врху,
туга је, ал не мари, без тебе дан нек огране.
Били смо то што јесмо, и испунили сврху,
од онога што предстоји не треба боље одбране.
Владимир Ягличич (Сербия) Милость
Владимир Ягличич (Сербия)
Милость
М.Янковичу Мидже (1932 - 2010)
Сел мужик на треножник в прекрасный Господний день,
хвост коровий к ноге подвязал - хлопотать не лень.
Доит вымя парное и полнит ведро молоком,
только вдруг опрокинулся, рухнул у яслей ничком.
Это было вчера, а сегодня слышно: "Ну вот,
наконец-то от дум и забот старик отдохнёт".
И свеча на столе слезится, и катится воска сок,
и покойника бороду подвязал атласный платок.
После тяжкой работы родные стоят над ним,
лёг хозяин чуток вздремнуть, лежит недвижим.
Тридцать лет я здесь не был, блуждая в добре и зле,
не был близко, вплотную к смерти, к родной земле.
Тот же дом невысокий, где жизнь человека трудна,
только трещин погуще и вспучена больше стена.
Тридцать лет промелькнуло, как будто ладонь о ладонь,
и сияет над днём похоронным небесный огонь.
Может быть, я живу в глухоте, словно в неком плаще,
в слепоте, в непроглядном сиротстве людей и вещей,
где, явив свою милость, отбросив прозрачную тень,
смерть приходит мгновенно в сияющий дивный день.
Вольный перевод - С.Шелкового
Милост (оригинал)
Сељак на троношку сео, у дан леп,
привезо за задњу ногу кравин реп.
Музо сисе - млеко у кофи већ расте,
па се претурио и пао под јасле.
То је било јуче, а данас се прича
да се, ето, најзад, одморио чича.
Данас - на асталу свежа паки јаче,
подвезало браду свилено марамче.
По напорном раду, док га својта двори,
прилего домаћин, малко, да одмори.
Тридесет година нисам био ту,
тако близу смрти и родноме тлу.
Иста кућа, сниска, малио шта заувар,
само испуклином прозевао дувар.
Тридесет година, ко дланом о длан:
за сахрану диван освануо дан.
Можда живим слепо, ко у неком плашту
према недостижном, глувом сиромаштву
где се смилостила, ко дланом о длан,
Смрт да стигне, брзо, у прелепи дан.
Окольцован волхвами январь....
* * *
Рождество, Новогодье и Святки -
много снега и много стихов.
Что за детская радость вприглядку, -
для тебя, кто не юн, но рисков, -
разогнавшись, по скользанке мчаться,
вдоль полоски зеркального льда!
А смеются ли вслед домочадцы:
"Ну даёт, старина!" - не беда.
Да, и что за года наши, друже?
Слава Богу - душа налегке
и живится, не втуне, не вчуже,
смаком буковки на языке.
А и что за грехи наши, братец?
Небезгрешные, с тем и умрём.
Кроток снег и пушист, словно агнец,
в благодатном паренье своём.
Мудрый серб весь январь переводит
твой дневник на иконный язык.
"Църна смърт" нет, не всем верховодит.
И заснеженно бел материк.
Много свеже-летучих мелодий.
Окольцован волхвами январь.
Входят в сердце с Кириллом Мефодий
и кладут алфавит на алтарь.
Вспоминался, как живой, Шенгели...
* * *
Георгию Шенгели
Вспоминался, как живой, Шенгели
средь горячих стен Ени-Кале.
Над Боспором травы шелестели,
и томилось прошлое в земле -
вычурной монетой султаната,
царскою медалькой храбреца,
флягою германского солдата,
сгрызенной коррозией с торца.
От Ени-Кале до Митридата
тянется зелёном садом Керчь.
В словаре Георгиева лада
по краям дороги - смерть и смерч.
Говорил, что "умереть не страшно",
только вправду "страшно умирать..."
А читалось - время множит брашна
там, где длится моря благодать,
где рождались первою любовью,
верностью до самого конца -
полнозвучье Духа, полнокровье
повести от первого лица,
где всё плавят бронзу с мельхиором
почвы, источающие желчь,
где всё дышит в сини над Боспором
юность, не попорченная мором,
золотистый блик Эллады - Керчь.
Январь 2013
* * *
Хриплый Харьков, торгаш и картёжник,
дёрнув двести, гордится собой.
Под холмом Журавлиным художник
спит в обнимку с промёрзлой судьбой.
А на Лысой Горе, на Голгофе,
за Холодной, тюремной, Горой,
снеговей – свежемолотый кофе,
и мерцает во тьме аналой.
В честь Казанския Матери Божьей
освящён краснокаменный храм.
Век мой – зимний, но я–то - всё тот же,
вновь по-детски внимающий вам,
вам, в Сочельник раскрытые двери,
снег, оклада иконного блик,
запах грусти, надежды, потери
и Марии хранительный лик!
В зимний вечер – тоска изначальна,
сквозь метель всё былое видней,
а душа – просветлённо печальна
в ожиданьи Рождественских дней.
Век мой отдан без спросу Иуде,
но, пока не занёс меня снег,
лепечу о прощении-чуде
в непрощаемый Господом век…
Январь 2013
Ещё не разобрали ёлку,
и смутно пахнет хвоей дом.
Притихла сойка-балаболка
в развилке вяза за окном.
Там крупка сыплет ледяная
с послерождественских небес.
А я не даром вспоминаю
горячих пряных дней замес,
тот запах пиний возле моря,
что вправе дух взбодрить теперь,
когда, нахмурясь априори,
число 13 входит в дверь,
когда рычат по телефону,
сдирают коммунальный долг
псы-мытари того закона,
где ненасытен зимний волк...
Под боком книголюба-шкафа,
в углу, чуть слышно веет ель -
софорой и орехом Кафы,
тропой-босячкой в Коктебель,
как будто бы на ветках зябких,
в трёх метрах за моим окном,
не чует сойка льда на лапках
в дыму кофейном пуховом.
В груди ли дверцу отворю...
* * *
В груди ли дверцу отворю,
кто выйдет - заяц, волк?
А я вослед проговорю:
"Пускай бы вышел толк
из этих экзерсисов всех,
и вариаций-тем,
где наши слёзы или смех -
не наши, вместе с тем..."
Загулит голубь ли в груди,
пробулькает ли сыч:
"Всё - позади, а впереди -
чёт-нечет, паралич",
мне всякий раз, когда гляжу,
назад на пепел дел,
всё внятней тёплое "жу-жу"
пчелиных ярких тел.
Они летят, то здесь, то там,
на слабые цветки.
Сильны их ноты по утрам
и, как земля, низки.
И если, милуй Бог, кондрат
догонит беглеца,
он вечный луга аромат
почует у лица.
И в мир, в открытое окно
шепнёт: "Когда-нибудь
всё вправду будет сочтено.
А я допил своё вино -
прощай, не обессудь..."
В распахе новых летних дней...
* * *
Плоды садов и сновидений!
Сроднившись с вами наяву,
глядишь, всю заумь зимних бдений,
все льды-бугры переживу.
Все ливни пополам со снегом,
любовь с обидой пополам
осилю. И ушанку с мехом
облезлым секонд-хэнду сдам.
Месяцеслов, однако ж, смутен,
когда за январём февраль
бредёт, поддатый, как Распутин,
прёт на рожон и на шкандаль.
Его недаром кличут "лютый"
в стихе. На всенародный труд
он, в валяный сапог обутый,
идёт, уже с утра надут,
поскольку витамина мало
в его натуре продувной...
А я скажу: не раз бывало -
мы с другом тяпнем по одной,
дабы верней осилить зиму -
февраль, всех троллей, всех вралей.
О зимний сон! Стыда не иму -
машу рукою пилигриму,
румяных яблок побратиму,
в распахе новых летних дней!
Из "Луговых песен"
1. Покос
Певучи луговой работы звуки.
От солнца и приволья охмелев,
звенит коса, и в ровном полукруге
ложатся стебли – плавно, нараспев.
Наступит вечер, и закатный воздух
войдёт, как царь, в станицу за холмом.
И косари, уже при первых звёздах,
узор покоса впишут в окоём.
И будто бы играя с полуснами,
ладонью вытру начисто косу…
А всё, что свежевычерчено нами,
с собою в звёздный атлас унесу.
И кажется - всё внятней шёпот свыше:
мерцанье-дрёма лезвий в тишине
и луг Вселенский, где всё ближе, ближе
подходит некий замысел ко мне…
2. Свадьбы
Летят сквозь июнь мотыльки.
Лимон и жасмин – их рубахи.
О бабочки, швеи и пряхи, –
как станом тонки и гибки!
Как нравом невесты чисты,
приветливы, трудолюбивы!
Весь день их персты терпеливо
в ручье полоскали холсты.
Фонариком белый налив
мерцает сквозь полночь июня,
а свадебных крыльев наив
не дремлет - ни всуе, ни втуне.
Фонарики яблонь легки. –
Всю ночь бесприданницы шили,
сшивая гвоздик и ванили,
и жимолости лепестки.
И ус выгибая, и бровь,
кружит мотыльковая братия!
И в скромное убрана платье,
смеётся девичья любовь…
3. У озера
Полдень. Дрожащие веерно крылья.
Горизонтальный сапфировый хвост.
Над первобытным лугов изобильем,
словно гипноз, – трепетанье стрекоз.
Плавность пришельца в летательном жесте.
Вот, к лепесткам наклоняясь едва,
в зное стеклянном застыли на месте
внегалактические существа.
Кто-то у линз Андромеды туманной,
губы кусая, завидует мне –
снам луговой приозёрной поляны,
лепету летних малиновых дней…
Владимир Ягличич (Сербия) Межа
Межа
Тем летним утром солнце встало рано
и спряло золотую пряжу споро.
В тот яркий день на ум пришло Йовану
поставить на меже столбы забора.
И с проволокой, с бухтою колючей
стал Йован на меже на пару с зятем.
Семейной злой обиды, тёмно-жгучей,
с похмурых лиц не смыть и не согнать им.
"Зачем же, Йован, - грянул голос брата -
отрезал ты моей земли полметра?"
И взвился над межой клинок булата
с коротким свистом жалящего ветра.
И прибежали люди в Божьем страхе
к меже, где тишина сгущалась грозно.
И брат стоял в разорванной рубахе
и в сердце бил себя, но было поздно.
И умер Йован в братовых объятьях.
уснул под пряжей солнца золотою.
И только небо ведало о братьях -
что нет межи, лишь вечность за межою.
Перевёл С.Шелковый
Оригинал на сербском
Међа
Дан кад се сунце усијало,
испревши златну пређу,
кад је Јовану на ум пало
да оивичи међу.
Ступе, диреци и косници,
и он, и зет, и жица,
и скрито зло у породици,
и намрштена лица.
„Засекао си“, рече брат му,
„више од пола метра!“
И трже каму, ону ратну,
фијукну попут ветра.
И притрчаше, схватив, људи,
да зби се нешто страшно,
и бусао се брат у груди,
али је било касно.
И усни Јован братским крилом,
у дан од златне пређе...
Само је небо сведочило
да више нема међе.
Уронив со щеки бесполезные честные слёзы...
Пейзаж
Выбирать между жизнью постыдной и Армагеддоном -
всё равно, что встревать в диалог между папой и мамой.
Прогремит ПВО над фабричным внебрачным районом,
взбеленится за стенкой твоей пианистка над гаммой.
Выбирать между харьковским злом и кидалой Херсона
не приходится - оба избранники-ники народа.
А магистры наук, сохраняя число Пуассона,
не испортят ни песни о родине, ни хоровода.
Кенгуру - на ура, в вавилонском саду Межигорье,
и всё круче блестит чешуя колесниц Междуречий
там, где шапка на дважды и трижды не пойманном воре
не горит, и никто на стыдится дикарских наречий.
Что-то стонет под угольной почвой в ночной панораме,
где присыпаны снегом и копанки, и терриконы,
где не следует и на секунду касаться глазами
гуттаперчивой порчи, смотрящего тутошней зоны.
Светят Святки вослед Рождеству. Но рулит бесовщиной
бригадир, словно нет, да и не было нот Лакримозы.
Пролетит НЛО над промёрзлою отчею глиной,
уронив со щеки бесполезные честные слёзы...
Говорить о предчувствиях начистоту...
* * *
C золотого крыльца золотое крыло
огольца подхватило и ввысь вознесло
над заросшею ряской Луганью.
Из сатина трусы, полдесятка годков -
вот и весь его скарб, но на взлёт он готов
над рассветною Тмутараканью.
Даже если на первый покажется взгляд,
что напрасно спешит он,- стремглав, наугад, -
оттолкнуться толчковой, чумазой,
необутой ногою от известняков,
всё же ягодных кущ за грядой облаков
достигает он, пристальноглазый.
Там средь веток колючих крыжовник поспел,
и в качалке из ивы, устав, не у дел,
великан задремал над романом...
И с такого же, как над Луганью, крыльца
снова фатум и фарт летуна-беглеца
ускореньем влекут постоянным.
То ли это во сне повторяется с ним,
то ли явь навевает ему пилигрим,
ангелок за плечом, бодигардер?
Но ничто не прошло - мочки пальцев кровят,
и живыми колючками колется сад,
хоть давно отменён к нему чартер.
Трудно не потеряться в двойных зеркалах,
в кривизне зазеркалья не выдать свой страх,
не свернуть к полуправде линейной.
Но кому-то ж написан удел на роду -
говорить о предчувствиях начистоту,
не теряя колючей звезды высоту,
не гнушаясь и гущи кофейной...
* * *
Я просто мальчик в давнем синем дне,
и некий хмель крепчает в слабых венах.
И тянутся во сне от лун ко мне
предчувствия о многих переменах.
И яблоко в ладони всё круглей,
всё полновесней и правдоподобней.
А вольный дух июньских тополей –
любим ноздрями, слышим костью лобной.
И пальцы в шрамах – быстрая рука
при ярком свете так неосторожна!
А ночь – близка, нежна. И у виска
всё шепчет, шепчет: «Жизнь твоя возможна…»
Когда я говорю: "Мне дорог Нико Тесла..."
* * *
Владимиру Ягличичу
Когда я говорю: "Мне дорог Нико Тесла,
славянского гнезда магический пилот",
я знаю, что душа Николы не исчезла,
что не сбавляет ход сети вселенской крот.
И вновь я повторю: "Мне сербы серебрятся -
и там, где у ножа спиральна рукоять,
и там, где - Божедар, Кирилл, Мефодий! - святцы
не могут о родном со мной не толковать.
И свойским словарём с утра искрится Павич,
чей аргус, как узор мозаик, - многоок.
А к Тесле сквозь июль меня Григорий Саввич*
зовёт - сквозь слободской шипшины лепесток.
Люби, люби своё! И родичайся свято
со всем, что по уму, по совести - светло.
Слаба от кутюрье на кутерьме заплата -
значение вещей по капле вглубь ушло.
Вот и гляжу в глаза электрочудотворцу. -
Мой Тесла, сердцем серб и почвою хорват,
дар молний обретя в геноме змееборца,
при каждом Божьем дне мне - собеседник-брат.
Чтоб с ним потолковать о малом и великом.
вернее, помолчать, свежей любых речей,
я все чистовики сложу пред Отчим ликом -
на юге, рай-дуге, на севере ли диком -
всю жертвенность ягнят, всю мускульность вещей...
* странствующий философ Г.С.Сковорода
Остров Хвар
В продолжение странного странствия, плавного плаванья,
проходя между пристанью Шолта и островом Брач,
достигает мой белый паром Твоей, Господи, гавани -
на попутной волне, на смешенье утрат и удач.
Приближенье к сокровищу Хвара, ядранского острова,
к сиво-пепельным рубищам тысячелетних маслин
ощущается свежей добавкой акцента-апострофа
к бесконечности ритма, что всюду велик и един.
Ты, мне славшая мэйлы и смайлы, не очень надёжные,
назначая свидания в неких ресурсах сети,
если б знать ты могла, как всевластвует тягой подкожною
не дающий покоя сквозняк, оператор пути!
Не затем ли и я умыкаю тебя у компьютера,
что меня самого солнцедар, ослепительный Хвар
в одночасье срывает с крючка, с поводка и цугундера,
виноградарь мой, сборщик олив, моцареллы овчар?
И пробившись на остров-Буян, не с одной пересадкою, -
самолёт, серпантина гудрон, внесезонный паром, -
собеседницей праздник украсив и ракией сладкою,
о любви не совру я, лишь скрипну, пост скриптум, пером:
ты не первая хворь моя, Хвар! Островной лихоманкою
въелся в душу и плоть ещё Хортицы дымный ночлег.
Но и даже не Сечь утирает мне рот самобранкою,
не пурпурные гидры Ядрана сверкают обманкою,
просто - голубю вслед, всё плывёт к Арарату ковчег...
Ночь отшумела – петарды за окнами хлопали...
Первое января
Тесные джинсы расшиты узорчатым золотом,
Элвисом колются, архиерейской парчою.
В оба глядел – а изранился смыслом расколотым,
не осветил все углы и сусеки свечою.
Год отпевая, бузят непристойные праздники.
Стужа чернеет, паучья вдовица, без снега.
В стае щенячьей дышал я теплом, одноклассники,
но холодила мне яблоки глаз неизбежность побега
каждое утро – водой из-под крана латунного,
родственно-грубым, на грамм справедливым, упрёком,
неким предчувствием отклика струнного, рунного,
каждое утро – под пристальным Пастырским оком...
Юные лица и камни в отметинах времени
больше всего и любил я. По-прежнему помню,
как разрешается почва средь мая от бремени,
трепет ветвей отдавая стожильному корню.
Снова с нуля, к яркопёрой гулянке на тополе
двинутся дни – штрих-пунктиры, пробелы терпенья...
Ночь отшумела – петарды за окнами хлопали,
вспышки бросая на стену сосновою тенью.
Страусы-Леви искрят балаганною ниткою.
Улица с кожей гусиной – извилистей змея.
Не угонюсь за трамваем, за паствою прыткою.
Нечем как будто и крыть. А и сдаться не смею.
Смена года
Кто со скрипкой в футляре, а кто - и с канистрой зелёной
по Рождественской Пушкинской, мокро-вечерней, идёт.
Льётся, - колера кьянти, - витринная влага неона
по губам, по устам, но ни каплей не падает в рот.
Да не ты ль, пешеход-вездеход, - и со сменою года, -
обращаешься сызнова в ритм, на бегу, на лету?
Ни финансовый кризис, ни шизофрения погоды
не поймают на слове твоей простоты правоту.
В том и радость твоя, и нездешняя сумма в итоге,
чтобы с искрой в зрачке, с ускорением пульса в виске
вдоль по улице Пушке, по харьковской дыр-дыр-дороге
добираться до неба с железною тарой в руке...
Хорошо - что пешком полверсты от заглохшей "восьмёрки"
до разбойной заправки с лимонной рекламой "Леон"!
По пути и скрипачку поздравишь, и, трезвенно-зоркий,
виноцветье неона вольёшь в свой попутный пеон,
в крупнояблочный ямб или Далевский дактиль, к примеру.
За тесниной кварталов - размашиста певчая даль!
Смена года черна: всем - по вере и каждому - в меру...
Но гремит, но сверкает - трамвая концертный рояль!
И заурчит, оживая, движок...
* * *
Судный декабрь, Судоплатов погоды -
плети дождя истязают стекло.
В аккумуляторе клемма анода
мокнет и напрочь скисает - на зло
Захер-Мазоху, владельцу "девятки"
и бакалавру искусств и наук.
Не завестись! - Не надёжны, не хватки
пальцы расслабленных "клавою" рук.
Не завестись! Из ума у телеги
выжили брежневские провода.
Альфы искрят, не контачат омеги,
минус - не в жилу, и плюс - никуда.
В зимнем безвременье гаснет эпоха.
Мутно точат арамейскую грусть
очи львовянина Захер-Мазоха,
но фильтровать её я не берусь.
Крылья подельника хеттам, Советам,
ворона перья - мокры и черны.
В джипах спешат, по реальным заветам,
чисто конкретных кровей ездуны.
Тьма по-декабрьски сгущается быстро.
Слёзы ль дождя искупили должок
или не зря я сдавал на магистра? -
Прямо из шуйцы вдруг выстрелит искра,
и заурчит, оживая, движок!
Заветный мой! Ты изменился, вырос...
* * *
М.
Вот бенгальские свечи тебе, мой дружок!
Вот и сердце моё – тоже с искрой Господней.
Новый год у порога. Имбирь в порошок
истолчём и корицы чуток новогодней
со щепоткой гвоздики добавим в пирог –
в золотое, домашнее-пышное, тесто.
А кому посвящается каждый мой слог,
я не выдам секрет – ни ползвука, ни жеста...
Под сосновым дыханьем, вокруг пирога,
соберёмся, за скатертью, вышитой гладью.
Не стихает любовь – вот и вся недолга.
Длится чадо небес над асфальтом исчадья.
Вот и выпал бы снег за декабрьским окном,
вот и диск серебристый блеснул бы в тумане!
Я запью темноту тёмно-красным вином.
И не выдам ни слова – о самом родном,
как бы таймером пульс ни частил о признанье...
* * *
М.
Заветный мой! Ты изменился, вырос.
И если на мгновенье резковат
бываешь - это Зевс или Озирис
вживили нам в зрачки по сотне ватт.
Как не узнать в тебе мою горячность
былую. Но о завтра я смолчу.
Господь не зря забрал прозренье-зрячесть
у чад своих. Добро, коль по плечу
нам будет камень - нет, не философский -
но груз, но за грехи генома счёт,
за мнимость математики бесовской,
за смутных дней фатальный поворот.
Я б отдал сумму всей своей науки
за твой счастливый в новом веке след...
Люблю тебя, мой сын. Верней поруки -
Бог видит! - у всего вселенства нет.
Ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон...
* * *
Между пламенем жёлтым и белым морозом
возникает бубенчатый зов Рождества,
между слабым ответом и вечным вопросом
быть не может и нет никакого родства.
Но и то хорошо, что морозно и снежно
в некрещённой и тысячезвёздной ночи.
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно
то ли имя души, то ли пламя свечи.
А когда пеленает Мария младенца,
очи добрых животных лелеют вертеп,
и ягнёнок, ложась, подгибает коленца,
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,
а Иосиф ладонью потреплет руно,
чтобы агнец тучнел, завитками белея,
ибо взыщет горячего мяса вино.
Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –
ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон,
и назавтра во всём Вифлееме проснутся
чада, камни, смоковницы новых времён.
Между жизнью короткой и правдою долгой
прохудилось до дыр одеяло родства.
Нитка рвётся, и палец изранен иголкой...
Но студёная ночь дышит хвойнею колкой,
но трепещет в пещере огонь Рождества.
* * *
Но свету Рождества – не потеряться
в содомах, среди каменных химер.
Больному миру легче просыпаться
в присутствии волшебнейшей из вер –
во дни, где хлеб и хлев роднит Спаситель,
где лепит вечность лепетом Дитя,
где вещим звуком полнится обитель –
крылатым хором с острия гвоздя...
* * *
Углем, маслом, нитью узорочья
золотом, растёртым на желтке,
я опять Твои рисую очи
в деревянном зимнем закутке.
Мой чердак – скрипучее жилище,
а Твоя, Мария, красота –
хлеб душе, доподлинная пища
для доски иконной и холста.
И пускай бубнят, что я – волчина,
битый молью бука и медведь...
Жизнь моя – весомая причина,
чтоб опять в лицо Твоё глядеть.
Пусть не жребий мне – остепениться,
не судьба – нажить товарный вид.
Подоконник мой не голубь-птица,
ворон-ворог заполночь долбит.
Но в морзянке клюва, в мёрзлой порче –
мне слышней иные голоса.
Вновь, Мария, в стыни зимней ночи,
летние Твои рисуя очи,
вижу Сына Твоего глаза...
Под кроной благовонного ореха...
На Боспоре
Не зря пылинку на ноже карманном
кудрявый петербуржец привечал.
Я сам гляжу с пристрастьем неустанным
сквозь зиму на июльский свой причал.
Боспор - полынь, бессмертник киммерийский...
Пускай мне плещет Гибралтар в уме,
но всё ж родней мне - Тузла, Понт Эвксинский
и Меотида с факелом во тьме.
Потру орех, из Керчи привезённый,
чтоб отогреть смолистый аромат,
чтоб ожил снова, пряный и зелёный.
июля - во весь рост! - видеоряд.
Потру ореха плод, экзот далёкий,
проросший на Боспорских берегах,
впитавший Митридата кровотоки,
властителя на глиняных ногах.
Всё длит по-царски ностальгии эхо
сей грек из персов, трагик из владык...
Под кроной благовонного ореха
вздремнул его усталой славы бык.
Но сеятель идёт за бычьим плугом
и веер проса сыплет-веет впрок...
И кружит явь моя волшебным кругом,
и память лепит пазлы друг за другом,
чтоб ожил мозаичный завиток.
Киммерия
Здесь волны шепчут имя Пифагора,
шуршат "Анаксимандр, аквамарин"...
Здесь нету слов для жалоб и укора,
и круг пространства-времени един.
И этот круг, живая эта сфера,
верней, взаимопроницанье сфер,
искрят то алой альфою Гомера,
то опереньем весельных галер.
Так детородно Понта колыханье,
так страстен стон волнующихся вод!
О, выслушай еще одно признанье
и продолжай свой кесарийский ход,
клочок земли с налетом перламутра,
где целый век в виду волнистых гряд
встречаю я аттическое утро
и провожаю варварский закат!
И если б каплю пурпура для тоги
сумел я здесь добыть, залетный росс,
да видят беломраморные боги -
и я свернул бы с каменной дороги,
и я бы в эту охру с хрустом врос...
Молчаливая ночь бесконечных снегов...
* * *
Говори на лунфардо, шути на жуаль
и рифмуй - хоть на суржике, хоть на трасянке.
Электричка, от станции Электросталь
отойдя, утопает в сугробах обманки.
Ворон-мытарь хрипит над Холодной горой
слободской, над базаром-вокзалом Шулявки.
И зачатый во тьме атеизма герой
с детонатором бродит у бензозаправки.
На ветру Азнавура дрожит козлетон -
то ли здешний блатняк притворился шансоном,
то ли пёс, именуемый Армагеддон,
завывает над рано темнеющим лоном.
В самый раз - помолчать на студёном родном
и на всех языках вавилонской напасти
о единственном смысле, навеки одном,
о глубинно-предсмертном предчувствии счастья...
Молчаливая ночь бесконечных снегов
и на чёрном суку санитарная птица
на языческой фене бездетных богов
не устанут во сне о Младенце молиться.
Но безумная бритва хрустит в кулаке,
отсекая третейские головы судьям.
Хоть в конце бы, на снежном уже языке,
не соврать. Хоть отпеты по совести будем...
И в воздухе – то чёрном, то цветном...
Рождество в Лунде
Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.
Неделя Рождества – и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.
Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье «Вифлеемская звезда» –
живой огонь, берущий за живое…
И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –
с рождественской свечою и цветком
за каждою оконной рамой Лунда…
И в воздухе – то чёрном, то цветном –
не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.
* * *
Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!
За что твой абрис помню и люблю?
За то ли, что, - без лишних слов, по сути, -
я путь всё тот же, неизбежный, длю,
за годом - год, за шагом - полстолетья,
связуя с непрерывностью пунктир,
неловко тычась в мировые сети,
толкаясь красной буквицей в эфир?
И не за то ль, что, слепленный отважно
по Отчему подобью пешеход,
дороге друг я, - порассыпав брашна,
она меня в Сочельник приведёт
к заснеженному шведскому порогу? -
Скрипит камнями башен Лунд-чернец
в морозной тьме и посвящает Богу
зажжённых свечек Праздничный венец.
В громадном стылом храме пахнет хвоей,
мерцает в яслях сено Рождества,
и свечек огнеглазье золотое
являет дух живого существа.
Но вдруг средь гулкой стыни отголоском
настигнут слух удары молотка,
как бы взметнув над гиблым перекрёстком,
в пространстве, ставшем на секунду плоским,
чад гарпии, угар еретика...
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза...
Вспоминая Клюева
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.
Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.
Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?
Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.
Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарою,
штофом залью на душе красногривую смуту.
Зиму бы пробедовать без большого пожара…
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара…
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!
* * *
Хрустел мороз орехом грецким,
крещенский снег слезой слепил,
когда в Москве, на Павелецком,
я прозу Осипа купил.
Ау, «Египетская марка»!
Тебя касаясь языком,
папирус, парусник подарка
леплю в мальчишеский альбом.
И будто бы в цвету маслина
благоухает день и ночь
и знойный привкус сарацина
среди снегов не превозмочь…
О, вольность песни! – Антитеза
и умника и дурака.
Ожог январского железа
сдирает кожу с языка…
Свеж Одиссеева ветра анис...
Мастерская зимой
Мандарином повеял сочельник,
снегопадом, смолою сосновой.
Освежи свой подрамник, скудельник,
белотканной хрустящей обновой.
Замело на окраине хаты,
заискрились морозом овчины.
Славно жить – до последней растраты –
в синем колере Духа и Сына!
Простодушны, как буки и веди,
а внутри – снегирёвого цвета,
декабри, где лоснятся медведи,
калачами свернувшись до лета.
Ну а ты, мой художник колючий,
на холстине колдуя-пророча,
возжигаешь и вежи, и кручи
за пространствами вьюжистой ночи.
Разминая стоцветное масло,
полночь шаркает бабкою Кристи,
и покуда свеча не погасла,
скачут рыжими белками кисти,
мышь шуршит серебристой фольгою,
с четверга – домового невеста...
Снег раздался ямскою дугою
по всем весям – от оста до веста!
В лавке красок
Радужный мускус, товар москательный,
пихтовых масел рабочий елей...
Дар свой душевный и век свой скудельный
в тигли упорные влей.
Дышат Гомером холсты и картоны,
свеж Одиссеева ветра анис.
Даром, что годы отвесно-бездонно
канут в Атлантику, вниз...
Зыбкое тело в папирусной коже -
хрупкость скорлупки, шагрени огрех.
Плоть на осенние листья похожа
и на оборванный смех.
Грифель предзимья чернеет. Но мускус
августа - длит живописца задел!
Гончих зрачков перламутровый мускул
собран в счастливый прицел.
Так отыщи мне, глазастая злюка,
в лавке твоей, где в цене красота,
пурпур со взрывчатой спинкою лука
и, с благородным оттенком бамбука,
свиток льняного холста...
И чиж народной песней золотится...
* * *
Полжизни отстояв в очередях,
не выстояв и табаку понюшки,
не я ли маком-кукишем пропах
и заигрался в мёртвые игрушки?
Обильным словоблудьем брызжет хряк
Никита, обличая "пидарасов"
в картинах маслом. Смел его башмак,
обрушенный на темя чуждых классов.
И вслед гугнивый Леонид Ильич
врёт о победах гибельного дела.
Вот так, бухая, заражаясь ВИЧ,
cуя хабарь, бакшиш и магарыч, -
не каясь! - полстолетья пролетело.
Вновь оглянусь - партийные года
впадают в пятилетки через анус.
Гори, гори, печальница-звезда,
там, где до самой смерти я останусь!
Там, где обычай чести не в чести,
как минимум, с нашествия Батыя,
не пыжься, чижик, - я скажу, - свисти
и клюй метёлки сорных трав пустые.
Пусть даже в четверть мира пустота,
сия навек задуманная пустошь,
заточкой вертит у груди, у рта -
ты всё равно цветок-свисток распустишь!
Тосклив степной зимы голодный стол.
Чумны на трассе грузовозов лица.
День Судный, заблудившись, не пришёл...
И пятицветен в сушняке щегол,
и чиж народной песней золотится!
И вновь умножит слово на число...
* * *
«Вселенная, пронизанная Богом»,
и чёрный воздух, пахнущий вином, –
вот эта ночь, что проникает в дом,
неслышно сбросив обувь за порогом.
Присядь же, дознаватель о больном.
Живому впрок – всё, что посмело сбыться.
Цветущей веткой ночь в стекло стучится,
и влажный куст белеет под окном.
«Язычник, – говорю я, – царь зверей,
Улисс, истосковавшийся по маю!
Когда, поднявшись, дверь я прикрываю,
твои ль опорки дремлют у дверей?»
Пойдёшь ли дальше в вечных башмаках
иль двинешься по морю звезд толчками,
пространство исцарапает сучками,
но вдох и выдох пересилят страх,
чтоб здесь, в чуть заржавевшем корабле,
в моём, от книг осевшем на бок доме,
занёс в журнал суждение о том я,
что совершенство ангела – в крыле!
* * *
Душа - ковчег, где каждой твари Божьей
воркует пара, блеет и мычит,
где нежной нотой, с волчьей так несхожей,
волчица на щенков своих ворчит.
Душа, - эдемский сад, океанарий,
узорных махаонов череда, -
с цветком рожденья дарит каждой паре
и шип терновый: "Скоро ли? Когда?.."
Размашисто-всемирная, тугая! -
И йеллов-сабмарин, и монгольфьер
летят в её потоках, потакая
феериям её вложений-сфер.
И вот, над статус-кво, полупрогнившим,
душа, над ПВО, над НЛО,
прильнёт ко временам, её любившим,
и вновь умножит слово на число.
А коль на икс поделит нас с тобою -
жаль, но в остатке у неё сполна
останутся, - без малой йоты сбоя, -
твердь, небеса, Атлантика без дна.
Реальность не ответит укоризне.
Есть ад, вобравший слабость слова "да".
Но выше - правит Дух, хранитель жизни,
и длит в сквозной космической отчизне
бессмертие духовного следа...
Ересиаршьи пруды
* * *
За окном - ноябрь и морось. Снег срывается и тает.
Сизари на свежей жиже клинописный росчерк свой
оставляют... Если пара-тройка душ тебя читает,
надо думать, сочинитель, ты - по-прежнему живой.
Надо знать, что будет утро. Не спеши, мой брат по вере,
ставить крестик, ножки хером, отпечатки зябких лап
на странице теплокровной. Затаились в спячке звери -
зимний обморок рептилий, кома ящериц и жаб.
Но твоё-то бьётся сердце - вот и в мёртвую погоду
звук держи над амнезией землероек и кротов!
Ни любезен, ни полезен сроду не был ты народу,
нет "exegi monumentum" в предрассудках городов...
Но любовь - да будет длиться! Длись открытостью гортани,
отдавая граду-миру незаёмные слова.
Круглолобый, как читатель, сизый голубь, весь в тумане,
сел к тебе на подоконник. И душа - жива, права.
* * *
Одним не скудеешь, нагая земля,
под ветром, под взмахами плети -
светящейся плотью... Родят и поля,
и девы, вчерашние дети.
Державным бичом, дележом да ножом
столетья тебя привечали.
Но тощим коржом, горевым куражом
жила - избывала печали.
Над осенью Ересиаршьих прудов,
над гулко-предзимнею тишью,
над оторопью обречённых садов
вдыхаю твоё светлокнижье.
Да не оскудеешь! - Над пагубой свар
младенец Завета родится,
понеже и впрямь одоления дар
несёшь ты во чреве, царица!
Вдоль Ересиаршьих, вдоль яви и сна,
пройдёшь, проплывёшь, Берегиня.
Во взоре - осеннее небо без дна,
и грешные губы в малине.
Искря в траве жемчужной жменей града...
* * *
Там, где Китеж в стеклярус оправлен,
за пространством, за оптикой рам,
делит дым с воробьём Чичибабин,
сыплет семя щеглу Мандельштам.
Где в окно деревянною буквой –
«Гутен морген!» – стучит Гутенберг,
там ты рос и босотой, и букой,
но гремучих кровей не отверг.
На шершавых задворках бессонниц
нахватавшись репьёв, аки пёс,
от щедрот хулиганских околиц
ты бодрящую дерзость унёс.
Оттого и кивал тебе старый,
что в массовке над чёрной водой,
как винчестером, выхвачен фарой,
до сих пор ты плывёшь молодой!
Из блокбастера вытурен напрочь,
из бестселлера выдут харчком,
сладишь звук – некривой и не навзничь –
нефальшивым подпишешь крючком.
Умягчишь его именем женским,
детским дискантом кликнешь с собой
и Рождественским, Преображенским
синим дымом над рыжей трубой –
полетишь
над мазутной водою,
над острогом – Холодным бугром –
над сестрою, бедой-лебедою,
семижильной травою седою...
Снег с черёмухи, с тополя гром.
* * *
Ты лучше видишь то, что далеко, -
июньским ливнем снова высь промыта,
а ниже - тополь, цвета хризолита,
в лиловое укутан молоко.
Летучей теоремою дождя
Господь отыщет верное решенье
и снова нам отпустит прегрешенья,
десницей, шуйцей тучи разведя.
Земля парит тепло грозе вослед,
пространства полнозвучны и озонны,
и розовеют на углу пионы -
всех лет твоих надёжный амулет...
Ну что ж, остановись, не поскупись -
отдай торговке мятые кредитки,
и уноси светлейшие пожитки -
дождь в лепестках и вымытую высь.
Да будет вновь богаче голытьба,
искря в траве жемчужной жменей града!
Дыханье тополиной анфилады,
цветы и ливни - звонкая гульба!
Две сойки прилетают в сад...
* * *
Мелких куплю хризантем на продрогшем базаре,
белых и жёлтых возьму за доступную цену.
Глуше, темнее ноябрь. И в багряной гитаре
смолк листопад, не простивший тумана измену.
Вот уж и снег приходил. На асфальт до рассвета
сыпал колючею манной, сухою крупою.
Отроду в долг не беру, не приму и совета,
как зимовать-куковать да смиряться с собою,
с исчезновением птиц на ограбленных ветках,
с мутью во взоре торговцев, хороших и разных...
Коль и оставлю я что-то в коротких заметках -
долгие льды и снега перегонов опасных
меж А и В разбиенной на части отчизны,
меж крепостями железолюбивой державы...
Жменю цветов сам себе принесу - не для тризны
за упокой, но для страсти, живой моложавой -
стебель полынный размять и вдохнуть среди стужи...
Выгнулась мёрзлая тьма от Яги до Солохи. -
Вот и затеплю цветка золотник. И к тому же:
крепнет созвучье речей о несдавшемся муже
с речью об отроке, спасшемся в чертополохе...
* * *
Две сойки прилетают в сад -
летят на сладость виноградин.
Земле скудеющей отраден
их перьев радужный наряд.
Слоится веером крыло,
искрит лазурною полоской
над жухлой осенью неброской,
едва хранящею тепло.
И пряно пахнет палый лист
в готовой для кострища куче,
и еле слышно лист падучий
летит, шурша о ветви, вниз.
Густеет лиственный настой.
Вобрав скупых лучей истому,
сияют мошки невесомо
над свежевскопанной грядой.
* * *
Слышишь, мелодию плавно и точно выводит
тот, у кого это клеится, - лабух ли гений?
Cлышишь, всегда недовольное время уходит?
С шорохом прячется в ворох кленовый осенний...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо - услышать
даже себя самого, даже кроткого брата.
Дышит простуженно осень. А светит ли выжить -
знает лишь очень большого умища палата.
Рядом с палатою мер и весов, по соседству
с будкой-киоском, с ларьком всенародно-всеядным,
рушатся с ходу на цель беспородные средства,
свет разжижается в воздухе чёрном, бесплатном.
Мокрых огней и промозглого вечера гамма -
вряд ли уступит в живучести золоту-сини.
Темень ломая, в разломе царит панорама,
магний дуги, магнетизм неопознанных линий.
Это мелодию, дудку строгая, выводит
кроткого отрока никелированый ножик,
это иглу прямо в мышцу сердечную вводит
скорая помощь созвучий, досель невозможных...
Он все глядит, задумчивая птица...
* * *
Б.Чичибабину
То были дни, когда в кафе „Болонья”
входили два ещё живых поэта.
Один из них – давно в нездешнем лоне.
Несут его черниговские кони
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.
То были дни, когда в шинок, на стыке
Студенческой и Пушки, забредали
на пару мы, книголюбиволики,
тревожнооки, бражники-музЫки,
на ангелов похожие едва ли.
Он все глядит, задумчивая птица,
в предзимье том на огневые ветки.
И он – средь тех, кто мне доныне снится,
среди троих... Строга его зеница,
чиста, как подвиг первой пятилетки.
На сердце смуту и целим, и множим
изломом слова, неизломом духа.
В кургузом рабстве пелось о хорошем.
А что споёшь сегодняшним, небожьим,
добытчикам – с плечами, но без слуха?
То были дни без алчи, дни иные.
Скользят сквозь осень золотые звери.
Он курит у окна, и у стены я
молчу о том, что мытари земные
пришли за нами. И ломают двери...
* * *
Чичибабин в розовой фуражке
мне сегодня встретился в метро –
та же мятость ворота рубашки,
тот же клифт, пошитый нехитро.
Тот же свет, – то кроткий, то мятежный, –
из-под сивых вздыбленных бровей,
тот же, простодушно-многогрешный,
закативший очи соловей…
Но осенней пепельною птицей
средь осин мятётся голос твой,
потому вовек не откреститься
мне от смены вех над головой –
от пронзивших свистами пространство
молодильных лучников-стрижей,
от солдат родного окаянства –
воронья с повадками бомжей.
Я любил тебя ещё при жизни –
не за то, что был со мной неплох,
а за то, что в бесовской отчизне
нам с тобой мирволил бедный Бог.
Ни копейки я тебе не должен,
разве что, всю душу задолжал…
Так, давай, – крыло в крыло, – продолжим
перелёт в предзимний наш астрал,
где, фанерный, врёт словесник-петел
над предсмертно дышащей листвой,
но, как Отчий взор, протяжно-светел
бессловесный смысл над головой…
* * *
Кого люблю? Да Осю, да Арсюшу,
да Борьку с рюмкой горькою в руке.
Не клялся вслух, но клятвы не нарушу –
ни здесь, сейчас, ни после, вдалеке…
Ещё Петра кохаю да Ивана,
холщовых братьев, кровников моих,
что долго шли пешком от Иордана,
чтоб на Донце отдать мне осень-стих…
Приснится ль мне теперь, что хлопчик малый,
кому я «Аве!» передать берусь,
приблизится к той ноте небывалой,
что длит Элладу, Галилею, Русь?
Надеяться ли на Господне утро,
на связь живую – ножевую нить?
Но то, что перекрёстной рифмой мудро
решит он мой сентябрь перекрестить?
Пишу своим – Арсению, Борису,
тому, что не отводит синь-глаза…
Да Осипу – про свежий дух аниса,
про осень, чьи осинники и лисы –
заката золотая полоса!
Но там, где под звездою властнолицей...
* * *
Тогда хотелось побыстрее
крылом ударить и взлететь.
Тогда моложе и острее
анапеста звенела медь.
Но оказалось, что для взлёта
нужней не пылкие уста,
но всевлюблённости работа
и самоедства правота.
Отдай единственное сердце
и жизни лакомый кусок –
и может быть, тугая дверца
раздвинется на волосок.
И луч огня в шагрень вонзится.
Но ты успеешь осознать,
что глупые, – другие! – птицы
умеют по небу носиться,
поскольку не умеют лгать...
* * *
Начистоту и начисто. Иначе -
не стоит шумом загрязнять эфир.
Ответ арифметической задачи
на бланке нацарапает кассир.
Но там, где под звездою властнолицей
сквозь мнимость чисел брезжит алгоритм,
опять душа, глагола ученица,
влагает смыслы в междометья битв.
И сквозь туман, где без ума, без чувства,
без рифмы гибнет проза ноября,
ей видится, что в слабости искусства
прицелы сил скрываются не зря...
Танцуют звёзды в линзе телескопа,
и Атлантиды сфинкс на зыбком дне
все десять тысяч лет и зим нон-стопа
подмигивает из глубин потопа
транжирящей наследие родне...
* * *
Время выпито. Крыса Тиберий
сладострастным удушен платком.
В полумёртвые очи империй
ветер севера хлещет песком.
Ветер пагубы сыплет в глазницы
чёрно-жёлтый червивый песок.
Вспыхнет полночь - гроза разразится,
синим пламенем срезав висок.
Хрип Калигулы, клёкот Нерона...
Ливень стихнет - никто не забыт.
Ночь нежна - ни клинкового звона,
ни любовного стона навзрыд.
Это длится протяжное время.
Пахнет долгом доспех вороной,
но пространство в соитии с теми,
кто бессмертному ливню родной.
Но и им, кто летит легконого,
в ком стихия звучанья вольна,
не дана привелегия Бога -
времена, тяготение дна...
Ни шумеры, ни Рим, ни сегодня
настоящих не скажут имён.
Письмена и слова - только сводня.
Посвящённый - смолчать обречён.
Напоминаньем о праздничных братьях...
* * *
В.К.
День подоспеет - со змеем в руке,
со щитомордником или медянкой,
или со снайперской на чердаке
линзой прицельною, радужной склянкой.
Впрочем, из этой юдоли живым
ни одному уходить не случалось.
Тихо по небу летит херувим,
пряча в очах бесконечную жалость.
Тихо осеннее время течёт
над мокро-бурой листвою погоста.
Нечет - сегодня ли, завтра ли - чёт,
всё завершится поспешно и просто.
Тихо, мой братец, с поминок уйду
в наше приморское двадцатилетье,
в то, где так звонко мы славим бурду,
два самых дружных гуляки на свете.
Час мне - хлеба отпускать по воде
и выпускать в поднебесные хмари,
словно свидетелей в Божьем суде,
всех, от души моей, тварей по паре...
День, как апостол с гадюкой в руке,
вторит Писанию: "Будете брать их..."
Тихо два ломтя плывут по реке -
напоминаньем о праздничных братьях...
Когтит свой демос лапой бурою...
1. При дороге
В 33-ем году на икону
положили, младенца, тебя
и у шляха полынному лону
возвратили… Уже не скорбя…
Ибо мать и сестра не вставали,
батьку в глину свезли, за овраг,
и все хаты давно порубали
на баланду костлявых собак.
Положили тебя в придорожье,
в слобожанской солёной пыли,
чтоб Господь и случайный прохожий
над тобою склониться могли,
чтоб седая душа Украины
над тобой зарыдала на миг,
неповинно казнённому сыну
заглянув в нерассказанный лик…
Небом правишь ли, кривда земная?
Средь степи, в людоедском году,
cмотрит с л е п о Мария н е м а я.
Поднимаю дитя, поднимаю –
и по веку, г л у х о м у, иду…
2.
* * *
Опять распутица. Инфляция
идёт-бредёт сама собой.
За флага дрын зарёкся браться я –
власть властвует не головой,
но чревом, чреслами и шкурою,
но кровной кладкою яиц!
Когтит свой демос лапой бурою
и гложет мясо с рабских лиц.
В «Изгнанье бесов из Ареццо» я
вперяю семь столетий взор.
Но ни смириться, ни согреться я
так и не вправе до сих пор.
Ведь зло, что отовсюду изгнано,
пришло, – в большой тупик! – сюда,
где мозгом утренним обрызгана
царь-Иродова борода.
Пеняй на хворь мою невнятную,
здоровая моя родня.
Но снова выдохну стократно я:
«Вне покаянья нет ни дня,
когда бы сила зла не полнилась,
в бездушную вгрызаясь плоть…»
Деснице Китежа запомнилось:
«Ату, отрезанный ломоть!»
3. Аллегория срама
Животное с велюром на загривке,
с отравой страха в саморезах глаз,
из шлака терриконов, из фальшивки
косноязычных криворотых фраз
сварганенное – из всего, что гнило,
скользило под резиновой стопой!
Рептилия с угрюмо-злобной силой,
что станет, некий срок спустя, с тобой?
С тобой, кто снова помыкает ненькой,
от срама и стыда уже чумной?
Да грянет Гонта разом с Кукубенкой,
да вспыхнет Стус звенящей купиной! –
Над преисподней, где под скрипку Кафки
Каддафи пляшет чёртом и Саддам…
Где лишь одной – но кровью сердца! – крапки,
Тарасовой – во гневе, оземь! – шапки,
не достаёт архангельским судам…
Зелёный "Ахмат" с апельсиновым запахом...
* * *
"Зелёный "Ахмат" с апельсиновым запахом" -
ты скажешь. И будет для песни строка.
Так жаль расставаться с тобою за завтраком
и помнить, что встреча теперь не близка.
Оплачет надрывно разлуку с любимою
алкаш и Танатос, советский поэт.
А поезд нырнёт в измерение мнимое,
в котором ни лета, ни ласточек нет.
Так жаль, обжигаясь, фаянсовой кружкою,
дуэтом молчать - об одном, об одном...
И видеть тревожное чёрное кружево
ветвей на ветру, за оконным стеклом.
"Хюндай"-прохиндей, азитское детище,
корейских электриков сверхсамокат,
по рельсам летит, и расхристанней дервиша -
древесный за окнами видеоряд.
С деревьев последние сорваны рубища,
и гаснет шагрень обречённого дня.
Ж/д. Пустота, возведённая в куб ещё,
где нет даже эха тебя и меня...
* * *
Ты молода и странно хороша,
ты вспыхнула мне искрой в Вифлееме.
Но вот уже не стоит ни гроша
звенящих клятв мятущееся время.
Там, на золе уставшего огня,
то ящерицы греются, то змеи.
Наверное, ты не простишь меня.
Но, слава Богу, я прощать умею...
* * *
Парашютистка, резальщица вен,
строптивица, ребёнок длинноногий,
средь никому не нужных перемен
всё отчуждённей наши две дороги.
Пойду, сниму со стенки твой портрет,
сдам, в золоте-багете, антиквару...
Я так шучу. Поскольку больше нет
тех дней-цветков наотмашь, с пылу, с жару.
Парашютистка выцветших небес,
за гущей кофе, трефою ворожки -
не целибат, но пряный Целебес
в воронке завихряет специй крошки.
Румянец твой пылает, как вещдок,
и карие глаза чуть близоруки.
А над запястьем бьётся мотылёк,
чей жёлтый шёлк - законный цвет разлуки.
Я сам его к руке твоей позвал –
расцеловать следы стекла и бунта…
Прокурен дымом угольщик-вокзал,
но циферблат прозрачен - до секунды...
Я не выберу счастья иного...
* * *
Птица певчая, грешник певучий. -
Не строка? Отчего ж не строка...
Я умоюсь июльскою тучей,
вытру лоб рукавом сквозняка.
Молодильною яблочной плотью
на весь древний приход захрущу.
Вслед щеглу, на рассыпчатой ноте -
отчего ж не гульнуть? - засвищу.
Не гордитесь, скрипичные птицы!
Иль не брат я стрижу и альту?
Угадав среди лета родиться,
с лютней лета сольюсь на лету.
Плохо пел, заражён Колымою.
из обреза разя образа,
век, и днесь не отпетый. Промою
горло в ссадинах, в сраме глаза.
И, подельник бельканто шального -
ветра в поле, в запое скворца -
я не выберу счастья иного,
кроме щебета в поте лица.
Вновь проснётся, живучий-рабочий,
мой, Покровского храма, приход.
Вновь, промывший молитвою очи,
день глазастый навстречу идёт!
* * *
Но дальше той мысли, что все остаются чужими,
должно же быть нечто, помимо дороги в дурдом! -
Дитя непропащее. Неосквернённое имя.
Иль дрожь лихорадки любовной во сне молодом...
Боюсь я читающих губ. Шевелить ими трудно.
Усталые уши, опавшие веки - верней.
Что прожито подлинно, то до Суда - неподсудно.
Дух метил юдоль. Не мирскому судачить о ней.
Спасибо за редкоземельность прижизненных писем.
Читатель скончался, когда зазвонил телефон.
Я в синее море тянулся оранжевым мысом.
слова мои - лишь тектонических скрежетов фон.
Когда-нибудь звук отболит. Но немое смириться
не сможет с собою. И там, в Ойкумене души,
то вздыбятся камни, то новорождённая птица
так родственно вскрикнет, что хлеба ей, хлеба, кроши!
Спасибо, что в 20 и в 30 меня не убили -
я был столь же едок, как некий шотландец Лермон.
Прощай, моя птица! Твои своенравные крылья
расправлены ветрами океанических лон.
Далевы дали
Многочисленные литературные произведения Владимира Даля, повести, рассказы, сказки (изрядное десятитомное собрание сочинений) представляются сегодня всё-таки лишь дополнением к тому труду, которому писатель посвятил 53 года своей жизни. Этот главный его труд – четырёхтомный «Толковый словарь живого великорусского языка», для которого Далем собрано, упорядочено и растолковано около двухсот тысяч слов. Для сравнения вспомним, что вышедший при жизни В. Даля в середине 19-го века «Словарь церковнославянского и русского языка», наработанный целым отделением Академии наук, содержал менее 115 тысяч слов. Работником В. Даль был преотменным – его второе литературное завещание, сборник «Пословицы русского народа», включает в себя более 30 тысяч собранных им народных афоризмов.
А родился Владимир Даль, писатель насквозь русский (хотя и с хорошо известными родительскими корнями – из Швеции и Германии), на Украине, в Лугани, в Луганском Заводе – так в те времена, в начале 19-го века, именовался нынешний украинский город Луганск. Уроженец степных и ветровых раздолий, зелёно-луговой земли, он не случайно, но по велению благодарного сердца, подписывал большинство своих книг именем Казак Луганский, В. Луганский. Писательский псевдоним В. Даля навсегда ввёл в историко-литературный обиход, в контекст русской литературы светлое и луговое имя его малой родины. Да и сама фамилия Даль – не истинно ли казацкая по звучанию? И размах, и ширь-приволье степного простора в ней ясно слышатся. Так уж, наверное, одно с другим и должно было сойтись и завязаться в метафизическую связь…
Если эти фразы покажутся кому-то всего лишь лирическим отступлением, то вспомним факты, говорящие о том, что связь творческого пути В.Даля с Украиной – не надуманная, а живая и полнокровная тема. Детство писателя прошло в Лугани и в Николаеве. В черноморском городе-верфи Николаеве служил он и после окончания Петербургского морского кадетского корпуса. Известно и о мужественном поведении Владимира Даля, когда он, будучи уже военным врачом, одолевал эпидемию холеры в Каменце-Подольском на Западной Украине.
В течение всей своей долгой 71-летней жизни писатель постоянно, так или иначе, обращался к памяти о своей малой родине – Украине. Помимо знаменитого словаря великорусского языка, В.Даль подготовил и словарь украинского языка, материалы которого бескорыстно передал Лазаревскому. Он осуществил перевод повести Квитки-Основьяненко и напечатал её в «Современнике», на что последовала благожелательная реакция В. Белинского, назвавшего повесть «замечательной», а перевод В. Даля «прекрасным».
В статьях и письмах В. Даля можно прочесть немало тёплых слов, обращённых к его незабываемой родине: «Будучи родом из Новороссийского края и проведя там молодость свою, я с родным чувством читаю и вспоминаю всё, относящееся до Южной Руси и Украины». А в зрелые годы В.Даль делает однажды дневниковую запись, устало сетуя на столично-чиновничье удушье Санкт-Петербурга: «Я бы желал жить подальше отсюда – на Волге, на Украине…»
Ну что же, это желание писателя посмертно осуществилось – в Луганске, уже успевшем побывать за минувшие годы и Ворошиловоградом, в честь другого здешнего уроженца, «маршала нашего Ворошилова Клима», бережно сохранён подлинный отчий дом Владимира Даля. Маленький, четырёхоконный по фасаду, домик отреставрирован и превращён в мемориальный музей автора знаменитого толкового словаря. Здесь живёт память о писателе и о несчётном множестве добрых дел, сделанных им при жизни – и в литературе, и на иных достойных поприщах. Далевы дали сегодня ещё виднее от этих белых стен его невысокого отчего дома в Луганске, виднее, несмотря на уже более чем двухвековую нашу отдалённость от его времени…
А в установленном при входе в музей бронзовом изваянии задумавшегося в кресле творца «Толкового словаря», не помпезном, но гармонично простом, с печатью света на лице, угадывается прототип – знаменитый прижизненный портрет Владимира Даля работы знаменитого русского художника Василия Перова. В Луганске установлены ещё два памятника славному писателю-земляку, имя В. Даля носит Восточноукраинский университет в Луганске, улицы в его родном городе и в Николаеве, где он прожил около 16 лет. Кстати, и перед зданием Евпаторийского филиала Восточноукраинского университета им. В.И. Даля в Крыму высится бронзовый бюст писателя.
Владимир Даль дорог для Украины так же, как и для России. Его имя снова напоминает нам о давнем, многомерном, порою трудном и противоречивом, но несомненно плодотворном взаимодействии наших творческих ментальностей, наших языковых культур так же, как напоминают об этом имена многих других классиков русского слова, связанных с Украиной и кровным родством, и землячеством, и целыми временными пластами своей жизни: Гоголь и Короленко, Бунин, Лесков и Куприн, Ахматова, Волошин и Нарбут, Маяковский, Булгаков и Шолохов, Паустовский, Солженицын, Арсений Тарковский и Чичибабин… Этот ряд имён можно было бы и продолжать, не поступаясь выбранным здесь самым высоким критерием ценности литературного наследия.
Случилось так, что Далевская родина, нынешний Луганск над речкой Луганью, стал и для меня по-настоящему родным и навсегда неизменно дорогим. Каждое лето вплоть до школы, в середине теперь уже прошлого века, я проводил в горячем солнечном Луганске у своего деда Петра Ивановича Шелкового, заслуженного и хорошо известного в городе труженика, директора крупного военного завода, и у бабушки Марфы Романовны, человека редкостно доброй и любящей души.
Дед в 1904 году четырнадцатилетним мальчиком поступил на работу учеником литейщика именно на тот самый Луганский литейный завод, где возглавлял медицинскую часть отец писателя Иоганн Даль. Здесь же доктор И. Даль подавал в дирекцию завода своё прошение о принятии в российское гражданство, которое, к счастью для него и его сына, великого в будущем русского патриота, Владимира Даля, было милостиво удовлетворено. Завод, давший первое литьё ещё в 1800 году, за год до рождения Владимира Даля, выпускал также снаряды и патроны, поставлявшиеся помимо прочего и на Крымскую войну.
В конце 20-х годов мой Петр Иванович уже возглавил предприятие "Почтовый ящик номер такой-то" или патронный завод, как его продолжали именовать в народе. Отсюда из директорского кабинета в августе 40-го года чекисты утащили деда прямым ходом на московскую Лубянку. Многомесячные избиения, запугивания и требования, вроде "Подписывай, бл - дь, что нарком Ванников давал вредительские указания", Петра Ивановича не сломили - ничего не подписал, не оговорил ни себя, ни других. Таких особо стойких арестантов иногда было принято у сталинских душегубов - выпускать. Через год с лишним после ареста, уже в Саратовской тюрьме, деду сообщили, что из Москвы пришло постановление "Освободить, ошибка получилась". Позвонив с Саратовского телеграфа М. Калинину, дед представился ему как бывший депутат Верховного Совета, и услышал в ответ, что он депутатом и остаётся, и все его многочисленные почётные звания и правительственные награды тоже остаются при нём. Повесив трубку, Пётр Иванович тут же утратил сознание, ибо после сотен дней избиений и издевательств вышел из тюрьмы с весом в сорок килограммов, то есть менее, чем с половиной от своего обычного веса.
После освобождения Луганска от немцев дед вернулся на родной завод, восстанавливал его и проработал на нём директором вплоть до выхода на пенсию в 1957 году. Итого лет, связывавших моего Петра Ивановича Шелкового с Луганским литейным, патронным, позже машиностроительным, заводом - ровно 53. Ровно столько же , сколько положил Владимир Даль на создание своего Толкового словаря. Совпадение - частное и, конечно, случайное, но для меня не пустое и даже, пожалуй, дорогое. И ещё одно совпадение: в центре нынешнего Луганска неподалёку от улицы Владимира Даля есть и улица моего деда Петра Ивановича Шелкового.
Именно небольшой дом деда и бабушки на 2-й Линии, совсем рядом с длиннющей заводской стеной, вблизи опасно-бандюганского Каменного Брода, их сад за домом с десятком яблонь и бабушкиным цветником, с видавшей виды бочкой воды для полива – был, есть и пребудет незабываемой и бесконечно дорогой для меня родиной. Именно этот клочок степной земли навсегда останется моим Малым Иерусалимом, моим непотопляемым, всегда светящимся Китежем. Здесь – все мои самые важные и неубывающие творческие импульсы, здесь тот самый энергетический и духовный заряд, которым живятся два десятка нынешних моих книг поэзии и прозы. Да, собственно, живится и крепится каждый отпущенный мне Господом день.
В 1967 году ушёл из жизни дед, через шесть лет умерла и бабушка. И только через 17 лет после её похорон, уже в самом начале обвальных девяностых годов, я смог снова возвратиться в дорогой моему сердцу Луганск. Увы, ни нашего дома, ни «строя патриаршьего седых тополей», ничего, что так ясно жило в памяти, да и на многих страницах моих книг, я не нашёл, не увидел. Всё было начисто, под корень снесено, безжалостно уничтожено. Мне оставалось лишь неверяще-потерянно смотреть в опустевшее пространство сквозь промозгло-влажные, какие-то совершенно фантасмагорические по ощущению и уже совсем тёмные, сумерки января 90-го года… Смотреть, в неком ступоре, на этажи тусклого казённого здания, поставленного на моей земле обетованной, на том клочке суши, который был когда-то моей неповторимой мальчишеской ойкуменой.
Всё-таки один из свидетелей тех незабываемых ранних времён остался в живых – старый, одетый в морщинистую и напрочь задеревеневшую кору тополь, росший уже на выходе на широкую, идущую вдоль глухого забора воензавода, 2-ю Линию, на выходе из Участка – так назывался прежде уютный тополиный тупик с десятком одноэтажных домишек и озеленённых лоскутков садовой земли, где обитали мы с дедом и бабушкой. Жили-поживали так давно и так неимоверно близко…
Вернулся я – а тополя срубили...
Как горек тополиный мёртвый рот!
Один лишь брат, свидетель сна и были,
остался жив, корявый, у ворот.
Один – но во плоти два века живо.
Вот так вдали, сестра моей души,
две тыщи гефсиманских лет олива
молчит в саду в седеющей тиши.
На культях комля – переплески света.
А в тусклой мельхиоровой листве –
тень запаха, предчувствие Завета
о скорбном неухоженном родстве.
Вернулся я – с вершины Елеонской
мне виден бег строптивого Донца,
овечий топот дробный,
крупный, – конский, –
ещё слышны. Но не догнать гонца.
Порубленное, прорастая криво,
лишь смутно помнит белостенный дом,
где – окна в сад, где лица незлобливы,
где живы голубь, тополь и олива
в июле синем, в полдне золотом.
Но оказалось, что в эти минуты моей внезапной и непоправимой потери судьбе всё же было угодно одарить меня не то, чтобы утешением, но всё же некой значительной и непохожей на случайность, да, пожалуй, и обнадёживающей, метафорой. Наградить неким совсем другим воспоминанием, протянувшимся к тому зимнему вечеру из словно бы ободряющих далевых далей.
Всего только в трёх минутах ходьбы от нашего уже снесённого подворья, на соседней улице, что смутно помнилась мне из давних мальчишеских времён своими неказистыми пыльными акациями, увидел я родительский дом Владимира Даля и его полное спокойного достоинства бронзовое изваяние, cтоящее перед фасадом. В прежние годы это место было в полном небрежении и никому не ведомо. И вот теперь я со смешанным чувством глядел на счастливо выжившее и обновлённое гнездо писателя Владимира Даля.
Удивительно, как живо его небольшой белёный домишко напоминал наш семейный, на Участке, тот самый, потеря которого больно уколола меня всего несколько минут назад. Та же приземистость одноэтажного строения, те же четыре окна по фасаду, расположенные симметрично по два от входной двери. Тот же, защищающий крыльцо от непогод, железный козырёк с двумя незамысловатыми узорными кронштейнами.
Удивительным было и совпадение во времени и пространстве обстоятельств этого метафорического и словно бы утешительного для меня обмена - то ли файлами, то ли целыми матрицами памяти. Сто с небольшим метров расстояния между моим и далевским луганскими домами как-то легко сочеталось с полуторовековым отдалением наших дат рождения… Да и эти, совершенно неимоверные по стремительности, пять-десять минут! Такой необъяснимо малый отрезок времени между внезапно-ранящей потерей своего, кровно-родного и любимого, и обретением тут же, без минуты проволочек, некой надежды уже в совсем ином символе – всеобщем, отстоявшемся во времени, но и тоже совсем не чужом. Более того – в становящемся на глазах всё ближе и словно бы порождающем чувство признательности...
В биографии самого Владимира Даля было множество невероятных жизненных совпадений, многозначительных и полных скрытого смысла. Его жизнь отнюдь не складывалась как жизнь кабинетного учёного и домоседа, но напротив – она была непрерывной последовательностью новых начинаний, новых далёких путешествий и рискованных маршрутов. Эта полная приключений и энергичного действия биография, вполне могла бы стать основой для приключенческого романа, не менее увлекательного, чем истории, вышедшие из-под под пера Майна Рида или Буссенара, Саббатини или Александра Беляева.
В течение многих лет жизни Владимир Даль включал в свою деятельность, – то последовательно, то параллельно, – очень разные поприща. И в каждой из выбранных им областей оставил заметный и значительный след. Он был и морским офицером, и военным врачом, был писателем и лексикографом, этнографом и естествоиспытателем. Участвуя в Русско-турецкой войне и в Польской кампании, и проявив отвагу и мужество, был награждён двумя боевыми орденами. События вокруг Даля нередко словно завихрялись и стремительно двигались по некой турбулентной траектории. Чего стоит, например, лишь одна из его историй времён Русско-турецкой войны, когда верблюд, выделенный ему командованием для перевозки мешков с тысячами лексических записей для его будущего знаменитого словаря, был захвачен в плен турками, но на следующий день снова отбит русскими солдатами и возвращён В.Далю!
Отношения Владимира Даля с Пушкиным тоже заслуживают отдельного и проникновенного повествования. В 1832-ом году Даль был ещё начинающим литератором, едва только выпустив в свет «Первый пяток» сказок Казака Луганского. Но он же являлся к тому времени и человеком уже очень бывалым – отслужившим на флоте, прошедшим две военные кампании, и посему отважно и решительно поспешил вручить свою книгу в подарок первому поэту России, самостоятельно прийдя с визитом в петербургский дом Пушкина. Встретив В.Даля и его дебютную книгу вполне приветливо, Пушкин особенно заинтересовался планами Даля об издании словаря и горячо поддержал эту его работу. Поэт не забыл своего нового знакомого и через год прислал ему рукопись своей «Сказки о рыбаке и рыбке» с многозначительной надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин». Вот так и пушкинское перо, пусть мимолётно, но коснулось своим лёгким росчерком лугового украинского имени Даля…
С той петербургской встречи началась дружба двух писателей, длившаяся до последних дней жизни Пушкина. Через год после первой встречи поэт гостил в Оренбурге у Даля, приехав на Урал для сбора материалов о Пугачевском бунте. Ныне возведённый в Оренбурге памятник, – Пушкин и Даль, стоящие на постаменте в полный рост, подобно веймарским Гёте с Шиллером, – свидетельство тех самых совместных поездок 1833-го года по яицким-казачьим, бунтарским пугачёвским местам.
Заиетим в скобках, что В.Даль родился в один день с Ф. Шиллером, так же , как и с Мартином Лютером, – 10 ноября, а гётевский «Фауст» оставался в течение всей жизни Даля одной из самых любимых его книг. Читал он "Фауста", конечно, в подлиннике, поскольку в совершенстве владел немецким и даже свою первую филологическую работу о русском языке напечатал в Дерпте именно на немецком.
Последняя встреча Даля с Пушкиным в Петербурге совпала с фатальной, пушкинской дуэлью. Остались свидетельства современников о том, что Пушкин вызывал стреляться своих оппонентов больше полутора сотен раз, и сам был вызываем к барьеру более, чем в девяноста случаях. Однако дуэль в конце зимы 1837 года на Чёрной речке закончилась трагически – смертельным ранением первого поэта России. «Пустое сердце бьётся ровно, в руке не дрогнул пистолет…»
Владимир Даль два дня и всю последнюю ночь не отходил от постели умирающего друга. Перстень-талисман Пушкина с изумрудом, который он, не снимая, носил в последние годы, перешёл из рук поэта к его самому близкому в тот момент соратнику. Этот, полный светоносной силы, камень появляется у Пушкина, ещё словно бы априори, в его «Сказке о царе Салтане» – « А орешки не простые, все скорлупки золотые! Ядра – чистый изумруд…», возникает он и много позже – уже в Далевском толковом словаре как пример толкования в разделе «изумруд» – именно тот самый, незабываемый, «изумрудный перстень»!
И вот здесь пора сказать о самом главном, преобладающем ощущении, которое возникает, когда читаешь стратегический труд Даля – его словарь живого великорусского языка. Труд стратегический – и в смысле основного, более, чем полувекового, дела жизни, и в смысле глубинного отражения личности этого выдающегося человека, отражения самой сути его характера и его души. Главное и несомненное ощущение от общения со словарём – перед нами творение подлинного поэта. Рифмованные опусы не очень удавались Владимиру Далю, хотя и их тоже можно отыскать в его десятитомнике. Но почти каждый из разделов далевского словаря, посвящённый отдельному слову, – не только некий лексикографический экскурс, а и оригинальная, полная живого звучания, поэтическая миниатюра. Пусть не по форме, но по всему своему существу!
Ну вот, хотя бы два примера из Толкового словаря. Раздел об упомянутом только что слове «изумруд» поместился в словаре между термином «изумлять», применимым, без каких-либо натяжек, ко всей биографии Даля, и странноватым словом «изуправляться», устаревшим, но вполне способным напомнить, что и чиновничью лямку «ради хлеба» создатель словаря тянул многие годы - и в Оренбурге, и в Нижнем Новгороде, и в столичном Петербурге.
Итак, цитата: «Изумруд м. – драгоценный, сквозистый камень зелёного цвета. Изумрудный, -овый – к изумруду относящийся. Изумрудовая копь, прииск. Изумрудный перстень. Ткань изумрудового цвета. Изумрудистые горы – содержащие камень этот. Изумрудистый цвет, зелень, блеск – изумруду подобный ….»
Слепой мудрец Хосе Луис Борхес, сохранивший однако ярчайшее внутреннее поэтическое зрение, да и, скорей всего, ещё и обостривший его с наступлением внешней слепоты, говорил в своих «Письменах Бога»: «В человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать «тигр» — значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю».
И вот, прочтя зачин «изумрудный перстень» в статье Далевского словаря, каждый, конечно, волен развернуть свою собственную цепь ассоциаций. И я, к примеру, сразу же вспомню пушкинскую строку «Храни меня, мой талисман…», стихи, обращённые именно к его изумрудному перстню, вспомню и благословенное крымское побережье своих молодых лет, где над магической южной ночью звучат и влетают в душу слова романса на эти стихи, звучит голос товарища, которого уже давно нет на свете…
Зевок в дебюте, в эндшпиле ошибка.
Портвейн «Агдам» и сигареты «Шипка»
с усмешкой извинятся за подвох.
Но русый волк поёт о талисмане
хранительном и о сирень-тумане,
поёт о камне на кресте дорог…
Или же увижу в ещё более давней ретроспективе, вслед «изумрудовой копи» Даля, тиснённую золотом книжку из отцовской «Библиотеки приключений», «Копи царя Соломона» Г.Р.Хаггарда, с чьих страниц навсегда запала в мальчишескую память гравюра-иллюстрация со зловеще-чёрной двухсотлетней колдуньей, на которую опускается, вернее, стремительно падает, каменная дверь африканской пещеры. И здесь уже в ряду ассоциаций возникает и вовсе рядом знаменитое кольцо царя Соломона со смыкающейся в бесконечный круг надписью на его исподе «и это пройдёт – пройдёт и это». А на втором перстне-талисмане Пушкина, с другим камнем, восьмигранником-сердоликом, подаренном ещё в юные годы поэту Е. Воронцовой, тоже вилась по внутренней стороне кольца некая резная надпись на древнееврейском языке.
Каждое слово само по себе является ёмким, неповторимым образом, способным к многомерному ветвлению. В этом смысле Осип Мандельштам утверждал в поэтической строке, что «ни одно слово не хуже другого». Важны контекст, речевая интонация, которые и задают слову, лингвистической единице, этому живому и плотно упакованному информационному свёртку, направление и все иные особенности метафорического ветвления и развёртывания. Причём речь не идёт только о сугубо ассоциативно-смысловом, прорастании образа из семени слова, столь же существенными и живительными могут быть взаимодействия фонетические, ритмические, аллюзии по множеству иных признаков.
В.Даль, конечно, не может быть замечен в особо сгущённой, насыщенной и интенсивной метафорике его собственных текстов. Но бесценный материал его словаря, накопленный и сохранённый поистине подвижническим трудом, – по-видимому намного ценнее, чем свод текстов любого, отдельно взятого, литератора. Этот Словарь с большой буквы – нечто вроде универсальной таблицы элементов Менделеева, это свод плодоносных и способных оживать в гармонии речи лингвистических элементов, слов-зарядов, слов-зёрен, слов – сгустков неповторимой духовно-генетической информации. И тот, кто в силах оценить самоценность и бесконечную образно-смысловую чреватость каждого отдельного слова, вполне способен, подобно И.Бродскому, и саму поэзию ощутить как процесс саморазвития, самодвижения великой речевой субстанции.
Если проследить ещё одну историю из ранних лет жизни В.Даля, то можно вспомнить о его приходе под парусом брига «Феникс» в Данию, на родину предков, на последнем году обучения в морском кадетском корпусе. Там, после визита молодых моряков к датскому принцу Христиану, товарищи Даля пытались отыскать его родичей среди местных подданных. Как ни странно, но среди датских Далей родни так и не нашлось. Прощайте, варяжские дали…
Зато уж в Далевском Толковом словаре более страницы большого формата занимает статья с вариациями этого важного, показательного и насквозь русского слова – даль. Слова звучного, динамичного, предельно лаконичного.
Такого же, кстати, предельно краткого, как и само имя Бог. Ибо перед лицом огромного и великого представляется неуместным человеческое поминание всуе – и слов, и даже звуков.
Здесь, на этой словарной странице, в семействе существительных, произрастающих из корня «даль», высвечивают свои собственный дали-просторы, – при этом каждое слово со своим оттенком и отзвуком, – и даль, и далина, и далица. Здесь протяжно отзываются и далища, и далечина, столь близкая к украинской далечени. Отзываются, помеченные такими многозначительными и полнозвучными эпитетами, как «дальнозвонкий и далёкозвонкий», не менее живыми и сочными, чем далевский эпитет «сквозистый» в статье об изумруде – «драгоценный сквозистый камень зелёного цвета». Воистину это всё богатства, собранные настоящим сказочником, человеком, чувствующим и хранящим неповторимость и сказочность каждого самоцветного, дальнозвонкого слова.
Дива дивные и дали далевы оживают и распахивают свои горизонты, слетая со страниц бессмертного словаря. Воистину радость для ума и сердца – вглядываться и вслушиваться в эти далевы дали. Ибо они – пространства разом и полнокровные, и духовные, ибо в их воздушности ясно ощутимо гармоническое единение двух живых дыханий – и небесного, и земного.
Зовут с собой в эпический полёт...
* * *
Добрый Палыч, ласточка-Алупка
лепится к подножью крымской кручи,
треснет известковая скорлупка,
и пробьётся птенчик, корм канюча.
Друг Аркадий, не совру красиво,
а скажу, как для анкеты, просто:
воз тащил - в одном кармане ксива,
а во всех других - сквозняк норд-оста.
Целых - ноль, десятых - хер в итоге...
Воз увяз, а в долг просить не буду.
Лучше буду с дырами при Боге,
чем приму от оборотня ссуду!
Отряхнёмся да рванём в Тавриду.
Не смущайся, брат, зови повторно.
Там и голый вассер - не в обиду,
на кайме индиговой, предгорной.
Борода твоя богата солью
и в стихах кумекает немного.
хорошо, что и волну, и волю
здешний день рифмует - всю дорогу.
Хорошо цветут в проулках склона
холст и масло отпрысков Куинджи.
купол неба и суглинка лоно
здесь - к согласью-радонежью ближе!
Vale, Палыч! Коль воронья стая
со спины не каркнет: "Час который?",
с лёгким звоном, тары не считая,
воплотим все пункты договора!
* * *
Стрижи, стрижи! Простор, огромный воздух.
Нет парадокса, кажется,больней,
чем эта страсть пилотов острохвостых
в аморфности перестоялых дней.
Обидны – лень и равнодушье лета,
подвох самовлюблённой красоты.
Плюётся джип окурком сигареты,
сжигая придорожные кусты…
Вот и не жди от лета центрового
ещё каких-то радостей-щедрот -
пикируют стрижи его и снова
зовут с собой в эпический полёт.
Родные птицы, сёстры в несмиренье!
Когда утихнет ваш любовный крик,
я ль в ладанку вмещу стихотворенья –
все ваши чёрно-золотые тени,
все льды, весь грубошерстный материк?
Виола пела, пахла маттиола...
* * *
Меня смущало в детстве имя Павел -
аукались павлины-павы в нём…
Потом я слышал, Савл его прославил,
в камбэке поучительном своём.
Но, как по мне, верней звучит – Паоло,
и благозвучней – Поль, пусть даже Сартр.
Виола пела, пахла маттиола,
за годом год летел, за кадром кадр.
И повилика, око-поволока,
сулила Павлу Павлово простить.
Но информационного потока
опять неровно-нервно билась нить:
не Павлик возникал, так знахарь Глоба! –
Сквозь ассирийский волосатый сон
всё барабанил он по крышке гроба,
«Армагеддон – бубня – Армагеддон…»
К наплывам фальши стал мой слух привычен,
хотя и ропщет печень-камертон.
Скорей всего, не прав я, не логичен,
когда по-детски вновь гляжу, набычен,
когда всё тех же стерегусь имён...
Гостья
От чёрных кур – коричневые яйца,
от сонных крыльев – сумрачные сказы…
На ветках ночи – оторопь скитальца,
в зрачке нетопыря – осколок фразы.
Дошкольник и едок пустого супа,
над россказнями вскидываю брови:
от чёрных кур – кофейные скорлупы,
с двойным желтком, двойною искрой крови…
Вода на киселе, стократ прокислом,
старуха-гостья, плесени золовка,
носищем шевелит, до губ отвислым,
но как ведь врёт да как дурачит ловко!
На ужин напросясь, жуя, бормочет
про кума, что от ломтя в горле помер,
а в кукиши скукоженные очи
какой-то свой прикидывают номер.
От чёрных кур – серебряные яйца,
с налётом чая, как на старой ложке.
В Кощеевой клешне царевны пальцы,
а страхи разом – истинны и ложны.
Стращай, вещунья, чернобайствуй снова! –
Вокруг меня сбрелись, совсем живые,
собаки, черепахи и коровы –
все звери, шерстяные, роговые.
Все гербовые твари, родовые
стоят и дышат розовою пастью –
и заслоняют от Яги, от Вия,
от нежити, от выродка во власти…
Стогами пахнет, зверем и макухой.
От чёрных кур мой сон до жути ярок. –
Всего-то забрела на час старуха,
пяток яиц оставила в подарок…
В логово юркнет комочек тепла...
* * *
Зеленоглазо-сторожкие звери
зыркнут сквозь плетиво мокрых ветвей.
Летней невесты оплачет потерю
ливень-ноябрь из-под синих бровей.
Самой последней отрадою лисам
в логово юркнет комочек тепла.
А, кто родился под небом безлицым,
машет авоськой - "была, не была".
Снова под дверь мне предзимние письма
тычутся: бланки, обманки-счета...
Вдоль окаянности-сюрреализма
брызжет сусалью свинчатка креста.
Здешней промозглой порой воробьиной,
дрянь-карандашик зажав в кулаке,
первым и канет мечтатель мякинный
в мокрую яму в посадке-леске.
А оловянного времени кореш, -
с глоткой, лужённою не по уму, -
Спасу прокаркает, прочего промеж:
"Батя, не брат я, в натуре, не сторож
чижику-пыжику, слышь, Твоему!"
* * *
Кого люблю? Да Осю, да Арсюшу,
да Борьку с рюмкой горькою в руке.
Не клялся вслух, но клятвы не нарушу –
ни здесь, сейчас, ни после, вдалеке...
Ещё Петра кохаю да Ивана,
холщовых братьев, кровников моих,
что долго шли пешком от Иордана,
чтоб на Донце отдать мне осень-стих...
Приснится ль мне теперь, что хлопчик малый,
кому я «Аве!» передать берусь,
приблизится к той ноте небывалой,
что длит Элладу, Галилею, Русь?
Надеяться ли на Господне утро,
на связь живую – ножевую нить?
На то, что перекрёстной рифмой мудро
решит Он мой сентябрь перекрестить?
Пишу своим – Арсению, Борису,
тому, что не отводит синь-глаза...
Да Осипу – про свежий дух аниса,
про осень, чьи осинники и лисы –
заката золотая полоса!
Пустынны, но полны воздушного вина...
* * *
Сбылась моя мечта - брожу себе по свету
и песню ни о чём чуть слышно бормочу.
Приветлива земля, а от людей привета,
наверное, не жду, должно быть, не хочу.
Покорны и грустны осенние деревья,
их кротости к лицу часовни белизна.
Багрец и тишина. Ничейные кочевья
пустынны, но полны воздушного вина.
О чём я ни смолчу, а помню всё о том же:
"Спасибо, краткий век, за вечную красу!"
Задуют холода, но, пеший-перехожий,
шиповника кармин я в сердце унесу.
Последний листопад самим собой томится.
В цыганских лоскутах пылает клёнов знать.
А нам, щепоть синиц, - о, троица, седмица! -
счастливых колких слёз не счесть и не унять...
* * *
Есть правда одиночества. Оно
жестОко, но целительно-высОко.
Чутьё слепца и ястребово око
ушедшему от скопища дано.
Когда-то сон огромный нас слепил.
Затем и сон и явь вместились в малость.
И что же нам в конце концов осталось?
Ответь, осенний ветер, брат-зоил!
Осталось тесной комнаты тепло
на чёрно-сером, на предзимнем свете,
когда уже и в полдень не светло,
когда, всё, долгожданное, прошло
и упорхнули к дальним гнёздам дети...
Когда остатки ассигнаций гулёна-осень раздаёт...
* * *
Где Каин-ветер, слёз сглотнуть не в силе,
шатает над песком осенний дом,
там дробь рябины - егерем по жиле -
гремит. И пахнет дымом и вином.
Пока ещё гепарды листопада
хранят по кругу обморок ветвей.
Но всё мокрей-черней зубцы ограды,
и всё желтей конверты у дверей...
Лишь ты - не осень! Юлианством хмеля
и зеленью полны твои глаза.
И столь точна их оптика в прицеле,
что взвизгивают разом тормоза,
когда, светясь над грубой синью ткани
полоской наготы, соблазном лон,
несёшь ты на предзимнее закланье -
рябиновый огонь в ладони-длани
и над челом - прохладной чёлки лён...
* * *
Когда, засыпана листвою, хандрит под окнами «девятка»,
когда остатки ассигнаций гулёна-осень раздаёт,
я время мелкими глотками прихлёбываю горько-сладко,
пока солёный пёс тревоги улыбкой не смягчит свой рот.
Пойду, сниму аккумулятор, отдам Витьку для подзарядки.
Глядишь, и ржавая телега ещё, пост скриптум, поскрипит.
И для истории болезни замечу коротко в тетрадке,
что я стихами - пьян под вечер, а прозой – спозаранку сыт.
По телевизору грызутся славянофилы, люди-братья,
клеймя друг друга, заклиная – отдать последние долги.
Джон-фермер тыкве полутонной любовные раскрыл объятья,
И под чалмой скрипят зубами чернобородые враги…
Спущусь, проверю всю проводку моей трудяги-колымаги.
Как абсолюто длинноноги в условных юбках визави!
Как разгулялась нынче осень! Какие ценные бумаги
швыряют клёны и каштаны, банкиры капищ на крови!
Романс
Всего лишь натюрморт – из луковки инжира
и книжицы стихов в тисненье золотом:
на столике кафе, посередине мира, -
чета простых вещей. Спасибо и на том!
Спасибо за узор прижмуренного солнца,
за полчаса пешком по склону сентября,
за то, что из окна гитары и червонцы
звенят и ворожат: «Сарэ, сарэ патря…»
Как будто – длится день, когда ты тоже пела
романс «Сарэ патря», и колоколец твой
вплетался в магнетизм сияющего тела…
Был ангел смугло-юн, был Амадей живой.
Лиловой смоквы плод подброшу на ладони,
а книжку дочитать не каждому дано.
По воздуху плывёт, в осеннем камертоне,
кленовый самогон, правдивое вино…
И тайный Иисуса ученик...
Cергей Шелковый
Строгое зерно Мыколы Зерова
Слова правды о расстрелянном украинском ренессансе двадцатых-тридцатых годов стали слышны лишь в самое последнее время. Бессмысленные, грубо сработанные обвинения в национализме, во всякого рода террористических заговорах, шаманские камлания чисток, начатые уже с конца 20-х годов, привели в 30-е годы к полному погрому литературного возрождения на Украине, к уничтожению сотен талантливых деятелей национальной культуры.
Среди этих людей были и творческие личности первой звёздной величины. Такого уровня созидательной силой был одарён Мыкола Зеров. Его имя стало известно широкому кругу читателей после полувекового замалчивания лишь сейчас, когда в апреле минувшего года отмечено столетие со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа — учёного мощного интеллекта, энциклопедических познаний, художника чистого словесного дара. Издан полновесный двухтомник его произведений.
Но, обращаясь ныне к страницам творчества М. Зерова или М. Драй-Хмары, Е. Плужника или М. Хвылевого, переживая радость узнавания больших мастеров, не можешь всё же уйти от гнетущей думы о том, насколько же мощнее, полнее было бы сегодня литературное слово Украины, насколько отважнее звучал бы в нем канон правдоискательства и правдоборства — живи и работай в отечественной литературе эти безвременно погубленные искристые души многострадальной земли.
Микола Зеров был солнечным человеком, для его натуры, видимо, неслучайным было внутреннее творческое тяготение к эллинизму, к благодатной поэтической традиции Греции, древнего Рима, Италии, французских парнасцев. М. Зеровым выполнено множество искусных чеканных переводов римских классиков Горация, Вергилия, Овидия, Катулла. Разнообразны и содержательны его литературоведческие груды. Собственное его поэтическое наследие по объёму, однако, не велико.
Но вспомним, к примеру, что другому выдающемуся переводчику, прекрасному русскому поэту Арсению Тарковскому судилось выпустить свою первую книгу стихов лишь в 55-летнем возрасте. А какого истинного, богопризванного поэта возвестила эта поздняя книга читателю!
Редкостная творческая заряженность М. Зерова обещала в будущем очень многое. Но в возрасте 44 лет, в мае 1935-го, он был арестован по стандартно-кровожадному, кликушескому обвинению в террористической деятельности и в июне 36-го с приговором 10 лет лагерей отправлен на Соловки. Здесь Зерову ещё удается завершить перевод «Энеиды» Вергилия; лагерные письма профессора-арестанта, поэта-«террориста» к жене свидетельствуют о его неутомимой творческой натуре, обширных писательских планах...
Но, если 200 лет назад последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петро Калнышевский, брошенный царицей Екатериной в соловецкий каземат, оборотился седым валуном, пережил и лютую владычицу, и все мыслимые сроки, оставаясь до 113 лет живым, и несломленным, то век нынешний лютью своею всё былое превзошёл.
Кровавое людское крошево и варево замешивалось временем сталинской паранойи всё гуще. Бдительная тройка НКВД Ленинградской области пересмотрела приговоры М. Зерову и трём его товарищам-литераторам. В октябре 37-го года все они были расстреляны в стенах монастыря, превращённого в тюрьму. Богомольная в прежние века, осквернённая сатанизмом в веке 20-ом, земля Соловецких островов уже никогда не отдаст останков Мыколы Зерова, Павла Филипповича, Марка Вороного, Григория Эпика, Евгена Плужника, Леся Курбаса... Прочтём книги, оставленные ими. Это та минимальная доля справедливости, которую мы можем и должны обратить и к прошлому, и к будущему.
Предлагаю читателям несколько сонетов Мыколы Зерова, переведённых мною на русский язык. Зеров, кстати, оставил немало стихов, написанных им по-русски и переводов с родного ему украинского языка на русский. Мысль об общем дыхании единокровных культур была дня него естественной и необременительной. В стихах М. Зерова отчётливо проявляется его тяга к строгой, классической форме. Выверены и взвешены строфы, строки, слова зеровских сонетов. Да и сами его буквы представляются зернью строгой, округлой формы, зерном твёрдых, благородных пород. И всегда, даже если речистое это зерно заключено в смуглокожую глину древнегреческой амфоры, оно явственно и щедро пахнет плотью первородной почвы поэта — горячими чернозёмами Украины.
Надеюсь, что читатели обратятся к оригиналам стихов М. Зерова; его поэтическое наследие в полной мере достойно благодарного прочтения. Строгое зерно Миколы Зерова даёт добрый хлеб и надёжные послезимние всходы.
1990 г.
МЫКОЛА ЗЕРОВ
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Благообразный Иосиф…
Аримафеи житель благочинный
И тайный Иисуса ученик
К руке, гвоздём израненной, приник
И плоть Господню в пелену кончины
Повил… И солнце чёрное кручины
Явило Иудее грозный лик
Как знак того, что для людей и книг
Настал великий миг первопричины.
И с тихим плачем ночь сошла на сад —
Кресты и холм, и стражников отряд, —
Всё спит, объято густо-синей мглою.
И, призрачны, с поникшей головой,
Проносят жёны дар печальный свой —
Душистый нард и мирру, и алоэ.
САЛОМЕЯ
Там левантийских полнолуний чары
тепло и пряно гонят к сердцу кровь,
там диким цветом отцвела любовь,
и всё в крови - и шлемы, и тиары.
А с водосбора, предвещая кары,
гремит пророк, седины разметав.
Йоканаан!.. Не ясный шум дубрав -
в его словах пустыня и пожары.
А Саломея!.. Лишь дитя! Но взгляд
струит прозрачно смертоносный яд,
клинок и месть упрямо накликая.
Душа моя! Беги же! Синий вал
спешит туда, где средь эгейских скал,
стройна, как луч, белеет Навсикая.
ВЕРГИЛИЙ
Мужик из Мантуи, поспешный и смуглявый,
в мальчишестве обласканный селом,
воспел и жезл, и бронзовый шелом
и сам был осенён великой славой,
поскольку, сквозь пожары распри ржавой
увидив лучший век, пропел псалом о том,
как процветает мир под цезарским орлом
в заботливом ярме незыблемой державы.
Тот век минул - и Рим, и цезарей дела
рука истории к гробам поволокла,
где тлеют всех времён фантомы и короны.
А он живёт, и звучный гул его поэм
доныне снится нам рыданием Дидоны,
бряцаньем панцирей и всплесками трирем.
ПАРТЕНИТ
М.А. Драй-Хмаре
Трубадуры, как Максим Рыльский...
На скалах, где ломают диорит,
За тёмною грядою Аю-Дага
Почила древнегреческая сага,
Храм Артемиды, первый Партенит.
Века минули, но не стёрли след!
Всё длятся чудеса Архипелага -
Ореста зов, Пиладова отвага
Предсмертный Ифигении привет.
И двум поэтам, что заплыли в море,
Опять в ахейском чудятся просторе
Сверкающие вёслами челны,
А дачников вальяжные фигуры
Оценят щедро их цветные сны
Процеженным сквозь зубы: "Трубадуры..."
Перевод с украинского - СЕРГЕЯ ШЕЛКОВОГО
Цвети, Чаир, не спорь со мной!..
* * *
В евпаторийскую Молочную
по крымчаку-солончаку
скрипит трамвай, по шпал отточию
подвозит к пляжному песку,
к полоске берега осеннего
две дюжины любимцев рифм.
И строг Господь, но в светлый день Его
сотрёт свой пот со лба Сизиф.
И я, взыскуя звук по совести
и роя клад свой невпопад,
попутчикам в трамвайной повести
в изломах солнцепода рад.
Ползёт трамвай над фиолетовой
солончаковою травой.
И тёплый ветер песней спетою
в песчаный прячется сувой.
Тарелкою-антенной белою
пищит космическая связь,
но я сниму пейзаж как целое,
смешенья жанров не боясь.
И степь втяну ноздрёй, чтоб вынюхать
Сергея Палыча секрет:
мне можно - как тому, чья иноходь
спешит на жёлто-красный свет,
тому, кто на ходу с замедленной
подножки спрыгнув в десять лет,
крылом с мальчишеской отметиной
то в Зурбаган гребёт, то в Зет...
Вот и гребу над сплошь лиловою
солончаковой целиной.
Цвети, сосна моя еловая,
где соль рассыпал за основу я,
цвети, Чаир, не спорь со мной!
Гёзлёв, Евпатора наследник...
Побережье, Покрова
С мексиканских маклюр осыпаются грузно,
в кожуре-гуттаперче, обманки плодов.
По-над пустошью здравниц колышется грустно
Богородицы, всё ещё тёплый, Покров.
Но свежак-ветродуй, налетая к закату
от залива, терзает, как пёс, твой пиджак.
Ни души в Евпатории. Привкус расплаты
за все пряники лета ложится, - как знак
обречённости, - на толстокорые губы,
на шершавые щёки октябрьских дерев...
Ты и сам за всё то, что срифмовано любо,
в жанре прозы ответишь. Насупился лев
у ступеней в старинную книжную залу.
Ни пловца в акватории. И ни чтеца
в поле зренья. И ящерки мало-помалу
утекают под камень сквозь пальцы мальца...
И, как будто бы с жертвенной сцены ацтека,
ядовитые яблоки с колких ветвей
опадают к стопам чудака-человека -
дегустатора слов и лилового млека
с виноградных делянок понтийского грека.
"Не зови никого. Ни о чём не жалей... "
Евпатория
Гёзлёв, ещё один Кучук-Стамбул
на греческих камнях Киркенитиды.
Вдоль променада – маяковский гул
и ленинской туфты кариатиды.
Под бронзой кепки санаторных дней
зудят банкрота-изваянья рожки.
Но в пику обветшанию камней
и шелушенью известковой крошки
Гёзлёв-ата, пергаментный старик,
за глинобитным временем заборов
сгущает некий крепнущий язык
для арабесок и переговоров.
Аллах велит – взирать издалека
на женщину змеино-расписную...
Но звать насущным хлеб ракушняка,
но рукопись лелеять одесную!
Алла акбар! – кивну нукеру-дню,
не умаляя таинства крещенья.
И в замшу губ ордынскому коню
вложу хабарь пшеничного печенья,
которое из Жмеринки в Гёзлёв
привёз торгаш, как дебет-кредит, скучен...
Но звонок бисер рукописных слов.
Но более, чем звонок, – дальнозвучен!
Округлое и ласковое имя...
* * *
И всё бежит тот давний мальчик-с пальчик,
в распахнутой рубашке, восклицая:
"Зачем, зачем так лихо и поспешно
швыряет голубей своих на ветер
неугомонный летний календарь?
Откуда и куда несётся время
под белый шорох почты голубиной?
Я чую всей душой - душа бессмертна!
Зачем же... Неужели я умру?"
И вот, в одной из тех прохладных комнат,
которых нет давным-давно на свете,
он знает точно - за стеной, снаружи,
густеет перезрелый зной июля,
сползает 31-ый день, последний,
как ящер в шкуре-бронзе, под откос.
И в папоротник грузно уползает
бронированный зомби бронтозавра,
чтоб, тяжко уронив буддийский череп,
в наростах и шипах золото-ржавых,
закрыть навек молочные глаза...
Но там, в воздушных лабиринтах комнат,
в загадках и шарадах нуль-пространства,
где слышатся шаги и шелест тканей,
где светятся любовью и спасеньем
видения двух нежных великанов,
там слово есть, как яблоко: "Сынок"...
И всё-таки в зеркальной дверце шкафа,
с трудом свой ракурс-реверс узнавая,
наедине с опасным отраженьем
тот мальчик повторяет через силу,
внезапно перехваченной гортанью:
"Зачем же... Неужели мы уйдём?"
Округлое и ласковое имя -
сын солнцелюбий, сокровенный отрок!
Так странно, что тогда я был тобою.
Ты обогнал на жизнь те опасенья
и, вижу, - ты, пострел, не постарел...
Теперь уж я, - другой, малоподъёмный, -
мешая в мыслях соль и чёрный перец,
готов отчалить - не сегодня, завтра,
готов узнать ответ на тот вопрос...
А ты уже давно - полёт, движенье,
субстанция всезнающего света.
Ты - весь душа, и не устанешь жить!
И, как в книге "Исход" чистовой...
* * *
Золотистая, с чёрным седлом,
с чепраком, как сказал бы собачник...
Знать бы час свой и хоть бы глазком
заглянуть в рукописный задачник -
в книгу снов, что все тексты судеб
меж двух скобок, двух дат поместила...
Над отцом моим - стопка и хлеб.
Над погостом - крикун яркокрылый,
хват сорочий, трескучий чучмек,
жаждет жарким нутром угощенья.
Сжато жито, отец, и наш век
словно сжался в три кадра мгновенья,
где вдоль осени, тяги сквозной, -
счастлив бег золотистой овчарки.
Где, все трое, идём мы домой,
и, как в книге "Исход" чистовой,
на душе - ни единой помарки!
Осенней горы золотые глазища...
* * *
Так дочка мне мила в своей задорной кепке!
Да я ли начинал мечтой про пацана?
Десятый наш октябрь листвою пахнет крепко.
Дымят его костры, но высь его ясна.
Уход мой поутру и мой приход вечерний
давно осенены свеченьем русых кос.
И все пытливей взор взрослеющий дочерний ,
отважней о былом и будущем вопрос…
Пойдем, посмотрим, дочь, на солнечную осень,
на желтые шатры, кленовые ковры.
И спросим у листвы, у темных веток спросим
про вещие стихи несуетной поры.
Порхает клена лист и кружит по спирали,
и тычется к земле багряным черешком…
Пока теплынью дни светиться не устали,
пойдем по лесу, дочь, по осени - пешком.
По влажно-золотым развалам лесопарка,
который – сущий лес для горожан и птиц,
по октябрю пойдем, где даже в куртке жарко,
где ярок встречный круг велосипедных спиц…
Где школьницы везут кленовые букеты,
по мягким побредем, по лисьим рунам, дочь.
Там меж резных дубов стучат-шуршат секреты,
как желудевым сном всю зиму превозмочь…
* * *
Осеннее море июльского чище,
прозрачней, стекляннее и холодней.
Осенней горы золотые глазища
полны виноградных зернистых огней.
Прохладно и солнечно. Веет мускатом
от грядок кудрявых на спелой горе.
Не быть мне ни юным уже, ни богатым,
не выиграть приз в муравьиной игре.
Зато мне осталось - вспорхнули фазаны
из рыжей листвы виноградных шпалер,
и солнце взошло яснощеко и рано -
на молодцеватый июльский манер.
Осталось – еще не остывшее море,
сентябрьского воздуха мятная плоть.
И в синем, чуть-чуть ледовитом, просторе –
молекул-мальков золотая щепоть...
Наполнив тишиною чашу-душу...
* * *
Кузнец, кузнечик, кузя-кузовок,
конёк, кобылка, трын-травы жеребчик!
Пусть я опять не выучил урок -
ты мой советчик, за семь бед ответчик.
Пускай я жизнь до нитки промотал,
сплетясь со стрекозой-бесамемучей...
Но ты всегда ведь знал, мой магистрал:
страсть - это вывих, но бесспорно - лучший!
Сыграй, дружок, на былке-волокне
про то, как степь - полынно-горьковата,
как здешний скиф дикарствует во мне,
глазастей и безжалостней сармата.
И вслед напой, что снова ночь придёт,
наполнив тишиною чашу-душу...
Двойник мой и пришелец-антипод!
Суставчатость твою,- наоборот, -
и твой, с полуживой улыбкой, рот -
я просто должен пронести сквозь стужу.
* * *
Вот поспел абрикос над скудельною почвой Азова,
от него в трёх шагах - алыча дозревает, алея.
Сквозь замедленный зной ощутимо присутствие зова
вдоль заросшей до глаз, но вовсю плодоносной, аллеи.
Выживают в дикарской свободе колючие ветки,
упревают стволы разогретой слезою камеди.
Ты и сам на ходу. - По пути две шустрячки-нимфетки,
загоревшие до Чингачгука, до чурки, до меди,
абрикос обнесли, голубое ведро наполняя
нежно-южной добычей, оранжевой ягодой спелой.
"Ну, теперь на базар?" - "Да зачем? - И у круга трамвая
продадим!" - голосят обе Маугли смело.
Золотая, с чёрным чепраком...
Родной псине
Золотая, с чёрным чепраком,
чёртовою дюжиной ребяток
ощенилась. Сучьим молоком
чмокают. И мир их - слеп и сладок.
Ладно, Лада, густопсовый лад
на дворе - Совок и непогода.
Зыря в гущу козлищ и ягнят,
щурит глаз партийных сук порода.
Что со мной по-сталински отец
строг-суров, что с Ладой. А - заботлив.
И к ноябрьской дате холодец
сварит мама - раз, второй за год ли...
Дом прокурен «Примой»-табаком,
вымя мнёт орава собачаток.
Во всё горло сватает обком
трудодню маисовый початок
и всей глоткой славит честь и ум,
там, «где их и близко не стояло»,
чтоб вползли мутант и кума кум
в заправилы нынешнего бала…
Что ж, родная псина, всё идём
мы с тобой вдоль золотой посадки
там, где вслед Обломову - облом,
где скулит чуть слышно отчий дом
над кривым обрывом правды-матки?..
2012
Светился день, сухой, пригожий...
Встреча
Застывшим солнечным оврагом,
сквозь голый зябкий краснотал
октябрь, почти неслышным шагом,
свой день последний отмерял.
Светился день, сухой, пригожий,
летучей нитью повитой.
И пахло в воздухе рогожей
и чистой льдистою водой.
И вниз по склону буерака,
навстречу мне, тропой-змеёй
вдвоём с лохматою собакой,
школяр-малец спешил домой -
круша с отвагой восьмилетней
репья усохшего кусты...
В колючках, моды предпоследней,
сползали с воина порты...
И так вовсю, по-свойски, псина
смеялась влажным языком,
так ранец с глянцем дерматина
до звона в пульсе был знаком! -
Как будто бы не четверть века
по небу моему прошла,
а только покачнулась ветка,
и из-за вербного ствола
я сам спешу себе навстречу
сквозь тот же солнечный овраг -
всё тот же мальчуган беспечный
в добротных чучельных штанах...
* * *
Друг, ты не жалуешь собак,
а я, признаться, с ними дружен.
Так иногда бывает нужен
щенячьей нежности пустяк.
Взгляни, когда они косят
агатом пристального глаза,
взгляни - и угадаешь сразу,
насколько прав и виноват.
Да, я огромных псов люблю
и их щенков на лапах толстых,
в которых силы благородство
чистопородное ловлю.
Должно быть, людям - не указ
собачьей преданности стойкость,
но с каждым днём ясней мне строгость
сторожевых полканьих глаз.
И я в упрёк не ставлю псам
клыков жемчужную бесстыжесть.
Без них бы ни за что не выжить
зрачкам - нездешним образам,
огням, берущим свой исток
в том веке бронзовых орудий,
откуда с нами вышел в люди
не пленный, но влюблённый волк!
Приснился Толедо, воинственный и смуглокожий...
Толедо
Приснился Толедо, воинственный и смуглокожий,
с предгрозьем Эль Греко, его вороной синевою.
Причудился каменной музыкой, нотой тревожной
и шпилем собора, пронзающим небо живое.
Апрельским болидом примчат от Аточчи-Мадрида
всё те же рисковые двое, искатели смысла,
к вокзалу Толедо, к оплоту воителя Сида,
к теснинам проулков, сокрывшим сакральные числа.
Почуй же, как стиснут Толедо усильем застёжек.
Торнадо, торпедо - магнитный позыв к Реконкисте!
И копоть камней, и стилетов разительный отжиг,
и в розовой пене - иудина дерева кисти...
Во тьме Кафедрала склонилась Пречистая Дева
в молитве о всех убиенных иберах и маврах.
А ветер шалит и доносит то справа, то слева
воздушный настой - на кастильских лимонах и лаврах.
Вдоль кровосмешений смещается почвенный колер -
от жёлто-багряных тонов до какао и мокко.
И летосчисленьем смягчив, словно патиной, гонор
с гордыней, Толедо над кручею времени обмер,
и снова стучать в его двери железом - нет прока...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо – услышать...
* * *
Слышишь, мелодию плавно и точно выводит
тот, у кого это клеится, – лабух ли гений?
Cлышишь, всегда недовольное время уходит?
С шорохом прячется в ворох кленовый осенний...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо – услышать
даже себя самого, даже кроткого брата.
Дышит простуженно осень. А светит ли выжить –
знает лишь очень большого умища палата.
Рядом с палатою мер и весов, по соседству
с будкой-киоском, с ларьком всенародно-всеядным
рушатся с ходу на цель беспородные средства,
свет разжижается в воздухе чёрном, бесплатном.
Мокрых огней и промозглого вечера гамма –
вряд ли уступит в живучести золоту-сини.
Темень ломая, в разломе царит панорама,
магний дуги, магнетизм неопознанных линий.
Это мелодию, дудку строгая, выводит
кроткого отрока никелированный ножик,
это иглу прямо в мышцу сердечную вводит
скорая помощь созвучий, досель невозможных...
* * *
Гриб осенний со скрипом шарит
тесный выход из-под земли.
Стылый морок, хозяин-скаред
прячет в угол с добром кули.
Затолкавший жар-птицу света
в свой кулацкий кривой мешок,
он теперь не отдаст до лета
ослабевшему дню должок.
Веет пагубой прель околиц.
Ну, да разве ж нам привыкать?
Над окном - воркованье горлиц:
вот и правда, и благодать...
В позолотах глухих окраин
вызрел алый на ветках глод.""
И вдоль сумерек Ванька Каин,-
кабыздохом, сквозь лень, облаян,-
на охоту, крестясь, идёт.
( ""глод - боярышник )
Есть шансы выжить в тонком слое...
* * *
Не надо цепкости сюжета,
таблицы Брадиса не надо.
Дай Бог - просвета-амулета
сквозь влажный морок листопада.
Есть шансы выжить в тонком слое,
cписав грехи кривулькой малой
там, где, сыта сама собою,
цивилизация устала
от безошибочности счёта
и бухгалтерии поддельной,
от ликования пилота
над обречённой богодельней.
"Алла акбар!" - пылает небо,
Большое яблоко гноится,
не в бровь, а в глаз фантасту Немо
остры сестерция сестрицы -
акула-меч, акула-молот...
Абсурд вдувает семя в драму.
Фасован чай, и кофе молот,
и мёртвые не имут сраму...
Что мне Брюссель? И что я сам Брюсселю?..
* * *
Что мне Брюссель? И что я сам Брюсселю?
Его и вовсе не видать отселе.
Там без меня льняные кружева
плетутся и кудрявится капуста.
А на Руси всю зиму – стыло, пусто.
Да так, что не спасают и слова.
Гляжу в окно со странною любовью.
Разбойной старью, а тем паче новью,
любовь сия испытана вполне.
Но сколько бы учёные мудрилы
не тратили бумагу и чернила,
а истина едва ль блеснёт в окне...
Вот маленькая правда – город Ахен.
Там вежливо немецкая мамахен
за двадцать евро мне продаст билет
до самого, извольте, до Брюсселя,
где март теплее нашего апреля
и где я не был двадцать с лишним лет.
Над Фландрией, над крышами Брабанта
плеснётся птичьих лепетов бельканто.
Бурлит Гран Пляс и продаёт цветы.
И примул колера, хоть простоваты,
но Рубенса окликнут, словно брата,
и к Брейгелю напросятся в сваты.
Атлантикою веет в лона улиц,
и каменные шкурки пёстрых устриц
шершавятся узором на лотке.
Но ведь не стать, как тот брюссельский мальчик,
одетый только в бронзу отливальщик,
беспечным и с душою налегке.
Так что ж Брюссель? Изящная шкатулка,
счастливая, по краткости, прогулка.
Но влюбчивость – вредна мне, и давно...
Полубокал вина в полупритоне,
вокзал, опять вокзал. И на перроне –
мысль трезвая, что мне своей иконе
в своём углу креститься суждено...
В костюмчике в полоску от Армани...
Письмо в Колорадо
Поверь, что колорадского жука -
я мускулистей, колорадожанка!
Тот, у кого свежа на шее ранка,
укушен не без планов на века.
И сходство с колорадцем у меня
священно - наша нежность к баклажанам,
к тугим плодам, как яблоки, желанным,
к их свету-фиолету в лоне дня.
А в штате Колорадо, где твоя
рифмовка кукурузой золотится,
нет у меня ни Джереми, ни Фрица
знакомых, нет и вкладов ни копья.
Пусть уж земляк твой, деловитый жук,
в костюмчике в полоску от Армани,
грызёт картофель и капустой-мани
пусть зеленеет. Чухнут Гек и Чук
с Чукотки чахлой в житницу Огайо.
А я останусь - ямбы обивать
здесь, где раскладу райскому под стать
спят сторожа, где Каинова мать
смакует плод, столь пагубно нагая...
Но и это, и это пройдёт...
* * *
Расплачусь обмельчавшей сотнею
за атласную красную нить,
чтоб свежее, чтоб искромётнее
спозаранку узор сочинить.
Да ещё забубённой, буйною -
в рыжем пыжике - расплачусь,
раз ни в ту, ни в другую унию
по всем признакам не вмещусь.
Знал ведь, знал - говорила матушка:
"Не пиши, беленой не дыши!"
Но всё пелось - из губ, из радужки,
из живого тепла души...
Расплачусь по морозному векселю
и по чуйке ли, по прямой,
по кривому ли шляху-вензелю -
Бог не выдаст! - вернусь домой
в то гнездо, где птенец индиговый, -
мальчик нынешний или тот, -
у окна размечтался с книгою,
обнадёжен высотной лигою...-
Но и это, и это пройдёт.
Так выдумано правильно и странно...
* * *
Так выдумано правильно и странно:
прохладой выпит за ночь летний зной.
И осени яснейшая осанна
витает над скудельностью земной
беззвучно. Ибо сущность - бессловесна.
Живущий - Сетью.ру не уловим.
Ещё светла небесной сини бездна,
пока спешит сквозь осень пилигрим
к усыпанному листьями порогу,
к жилью, где в окна плещет окоём,
к родным, уже глядящим в очи Богу,
спешит, спешит - и солон в горле ком...
* * *
Зыбкое солнце. Прохлада с утра.
Гроздей с вином накопила гора.
Троица диких лесных голубей
тянется к югу, где дни голубей.
Ласточки ладятся в дальний отлёт.
Вдруг и меня кто-нибудь позовёт.
Вдруг кто-нибудь из такого же дня
через пространство услышит меня.
Тихо. И могут дойти голоса -
я ведь встречал, узнавая глаза,
в радужно-карем и в синем ловил
отблески космогонических сил.
Вот я вдохну - выдыхают они,
те, кто парит в паутинные дни,
те, кто реальней, чем света игра...
Жёлто-черна мусульманка-гора.
Вечеру - время, и осени - срок.
И до конца не дочитан урок...
Невозможности завязь.
Из космогонии
Настоящее не поймано - не вор,
значит, будущее покрыто мраком.
Но оно же, вобрав в себя прошлое,
как вмещает понятие "тор"
все бублики с маком -
так себе, и хорошие, -
покрыло собой мрак, напитав его
наилегчайшим нечто.
Стоит ли жалеть, что из сущего всего
только малая часть млечна?
В остальном же - меж звёзд
продолжается в полный рост,-
скорее золотой, чем простой, -
флирт вакуума с пустотой.
И округлое древнее чрево,
набухая чёрною тайной
и вдоль вектора вправо-влево,
радиально и вира-майна
всё напористей расширяясь,
разродится, брызнет вот-вот
феерическим сном,
что в себе несёт
зачатую прытким нулём
невозможности завязь.
* * *
Где-то в полночи страшно пропело –
взвыли встречные поезда.
Показалось – на Землю летела,
небеса разрывая, звезда.
Ты лицо искажённое вытер –
тихо... Лишь, отставая от нас,
мчался поездом дальним Юпитер,
перламутровый пристальный глаз.
Шёл громадой немой, без сирены,
с тяжким грузом руды и угля.
Здесь, внутри искривлённой Вселенной,
лишь один пассажирский – Земля...
Когда б не Шекспир с островною ухватистой силою...
Экскурсы
1.
Любимым вином Николая Второго, Кровавого,
был, ясное дело, массандровский красный портвейн,
покуда царя-угнетателя в корне неправого
не взял на цугундер Ульянов, а также Бронштейн.
Первейшим питьём мизантропа и карлика Ленина
являлось германское пиво по имени "Bier".
В музее химерного пира стоит по сей день оно,
прокисшими зенками муторно глядя на мир.
Излюбленным пищепродуктом российского этноса
была и останется водка завода "Кристалл",
вобравшая песенный дух и величие эпоса.
Дружил бы с ней карла - плевать бы в колодец не стал...
Бывает, уважу и то, и другое, и третье я,
но спать не ложусь - посвящаю эпохе стихи.
Столетью на смену подкралось ли тысячелетие,
а песни всё те же: не вороны, так петухи...
Любимым притопом для Пушкина, милого бражника,
остался бодрящий, народного норова, ямб.
Тирана клеймил, но плезиру царёва бумажника
был верен. О, если б не рок, не красавица-вамп!
Когда б не судьба, императора чадолюбивого
Урал не урыл бы, не клюнул бы пулей в висок,
и, дети полка, мы не грызли бы локтя бодливого,
но пО небу плыли - меж строк, между перистых строк...
2.
Когда б не Шекспир, очернивший реального Макбета,
звучал бы совсем уж по-русски ямбический стих,
где мценская леди Измайлова, - долго ли бабе-то? -
призналась бы в смертоубийстве от сих и до сих
под грузом улик. - В покушеньи на крепость постылую,
во взрывчатой похоти-дури, царице-страстей...
Когда б не Шекспир с островною ухватистой силою,
с его первородным инстинктом единства частей,
глядишь, не чудил бы Раскольников Родя с топориком,
не рушил процентщицу да на её же сундук,
не брёл бы Булгаков московским нечёсанным двориком,
калитку бы не отворял на нетутошний стук...
И всяк бы иначе копьём потрясал, и на паперти
другая б чернела старуха с клюкой в кулаке,
когда б не Шекспир, упокоенный в города Стратфорде,
в родном захолустье на медленной Эйвон-реке...
3.
Лёха Октябриныч Балаганов,
культовый российский режиссёр,
вырос средь реальных бандюганов,
в глубине Ебуржских руд и нор.
И в своей чернухе, в "Грузе 200",
пополам ломает он хребет
Староплошадной, Лубянской спеси,
в коей есть Москва, а правды нет...
Лёха, сотоварищ мой, Остудин,
стылых душ ведущий инженер,
в атмосфере многотрудных буден
с "хером" рифмовал СССР.
А Роман Андреевич Чурило
был простым учителем в очках,
аж пока не вырос до водилы
с бубликом в натруженных руках.
Вот мой дом над патогенной зоной,
родина, еловая нога!
Я, в неё с младенчества влюблённый,
знать, в любви не смыслю ни фига...
Всё стою на росстанях ростовских,
харьковским украшенный харчком,
всё везут уставших - в цинках, в досках. -
В пиджаках ховают - быстрячком.
Рады-балаганы, Дум шалманы,
буквы-цифры задом наперёд.
И, по откровенью Иоанна,
по эскизу пальца истукана -
гарный Харьков, танковый завод...
Вот и в Яблочный Спас прикатило светило большое
* * *
Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке,
в оболочке твоей продолжает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста не измяты
наяву и во снах - в молочае, в чабре и во ржи!
Вот и в Яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою -
так прощением пахнут деревья, трава и родник.
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов и вернее имён - тишина...
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
что дорога видна - серебро, голубень, белизна...
* * *
Когда всё звонче яблок мясо,
всё ближе летних дней исход,
в лазури яблочного Спаса
заметен бликов хоровод.
Подобно звукам Амадея
они в гармонии слиты.
Великодушна их идея
одушевленья пустоты.
Священнодействие возможно
смиренномудрию вослед.
Легко, легко, лишь чуть тревожно
дробится августовский свет –
как будто крохотная йота,
прозрачнокрылая пчела,
искала в воздухе кого-то,
не дозвалась и не нашла,
как будто мытари дедлайна
придут не завтра, а потом,
и Амадей, дружок ротвайна,
согрел в руке бокал с вином...
Да почивает, воронёный сокол...
После редакции
( стихи из новой книги "Аве, август" )
* * *
Мой друг Степаныч, Виктор Черномырдин,
не лез за "шуткой юмора" в карман.
Наперстник "Правдин" и наследник "Искрин",
он в ящике стола держал наган -
подарок Министерства шила-мыла
к одной из важных вседержавных дат.
Но красного словца его посылы
точней лупили в цель, и свод цитат
остался жить - отнюдь не пережитком,
но правдой-маткой явей-полуснов...
Крутясь крутым яйцом в бульоне жидком,
он к статусу хранителя основ
сумел добавить дар творца традиций,
всесилья секты газа и нефтИ,
и дар чутья объёмных инвестиций...
Хоть задний ум родимый впереди
сошедшего с пути локомотива
ещё, казалось, брезжил, но Труба
прошла сквозь всё живое, молчаливо,
сминая в прах и отчие гроба...
И Разинским, и разночинным стругом
пахан-партиец, муфтий нефти плыл.
Но я его своим считаю другом,
зане никто иной меня не крыл
столь пенистой пузырчатостью слова,
как та, что вдруг забулькотела в нём
средь киевского бала наградного:
"Пиши! А мы, ей Богу, всё прочтём!"
Да будет так. Покойся с миром, чёрный
и белый углеводородов маг!
Я помню обаятельный, проворный
фарфор улыбки и пожатье-взмах
твоей десницы, лапы экс-премьера,
подарок флибустьерской пятерни...
Моё - со мной: травы и лета вера -
прямые стебли сквозь кривые дни.
И ты, вальяжный жук, мне впрямь напомнил,
как быстро глохнет славы лабуда!
Степаныч, кто в охотку пОжил-пОпил,
да почивает, воронёный сокол,
да будет там - вне здешнего Суда...
* * *
Купив билет в июльский Мариуполь,
не тронь грязцы холерного копытца.
В окне плацкарты свет скользит на убыль,
и тамбур козьим запахом клубится.
Опять не спишь всю ночь в мешке вагона.
На кой же снова песня - ноги в руки?
Но кой опять по сгонам полигона
на стыках рельсов-нервов множишь стуки?
Не спи, не доезжая Таганрога,
ты выйдешь на вокзале "Мариуполь",
где в зное - гул пролога-эпилога
про сталь Азова, про руду и уголь -
про всё, что, ни за грош, гоп-стопом банды,
первичным накопленьем капитала,
проглочено. А цветики и банты
Мальвин, и голубкИ - лишь робко-вяло
подсвечивают площадь у театра...
О, город-сад, понятий заповедник!
В игре форматов и в нарезке кадра,
ты, знаю, - не виновник, лишь посредник
в слиянье доз абсурда и металла...
Аз впал в Азов. Заказник Азиопы
базарной пеной тутошнего нала
умножит и топ-сотни, и нон-стопы
безрыбья. Вслед извивам вибриона
чума на суше - сущий хит Шекспиру...
Зачем же сквозь пространство-время оно
и по сей день, ещё неутолённо,
всё брезжит нечто городу и миру?..
Игры в индейцев
1. Без фабулы
День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь
недоброго осеннего разлива.
И синий взор метнул индейский вождь
сквозь листья клёна и косицы ивы.
И странно - вновь на сердце у меня
не поздних лет потери и разлуки,
но давних игр ребячья беготня -
из ясеневых веток копья, луки...
И полон предвкушением побед,
молниеносных и неоспоримых,
день счастья, золотистый на просвет, -
без чисел отрицательных и мнимых.
Без имени, без даты, без примет,
без фабулы какой-либо особой,
он светит мне вовсю так много лет,
как будто он и я - бессмертны оба...
2. Тони и волшебные двери
В ямке пенала и никель, и медь
перебирают школярские пальцы.
Надо хотя бы за кошкой успеть,
чтобы сварганить похлёбку из зайца.
Надо впервые мне рубль наскрести,
чтобы купить эту книжку в картоне:
речь о волшебной двери. Пропусти,
давняя дверца — мечтателя Тони
в нынешний, чуть постаревший мой дом!
Мне было семь, а ему было восемь.
Через полвека мне шепчут о нём -
дух тех страниц, та индейская осень...
Шорох листов - словно отзвук судьбы,
над камертоном сентябрьские ноты,
жёлто-багряные всхолмий горбы,
воздух над синью озёрной губы,
замерших ос пустотелые соты...
Похоже, не стырили август...
* * *
Тепло, расточительно жарко
в финале Тарасова лета.
Ахтырка - овчарка Мухтарка
в овчине горячего цвета.
Терпи, моя сучечка, аквы
несу я в дюралевой миске.
Держитесь, служивые, в знак вы
понятий, во славу редиски
поставлены в мареве зноя
в пятнистом своём камуфляже
на вахте. Так дерево стоя
умрёт, не поморщившись даже.
Похоже, не стырили август
Ахтыркин правители-хваты,
и псина, языческий Аргус, -
сильна выживать без зарплаты!
И сам я тепла не ругаю,
бесплатного подвига лета.
«Свобода приходит нагая»...
Под вечер потянемся к гаю,
в условные ткани одеты...
Кто запускает на орбиту "шаттлы"...
* * *
Кто запускает на орбиту "шаттлы",
кто напрочь запустил свой гайморит.
Опять учёный ум, - очки и патлы, -
сквозь линзы вглубь гипотезы глядит.
И ты, ища рядов гармоник сумму,
ночами над сходимостью корпел,
в наследство приняв Ньютонову думу
о постоянном ускоренье тел.
И, явный гравитации заложник,
ты всё ж - не Ньютон с твёрдою губой,
но собственной породы небезбожник. -
И Бог с тобой, отнюдь - не блог с тобой,
кто б, что бы там ни врал, шипя сквозь зубы...
Ты чуешь в звуке некое число
с тех пор, как под вестминстерские трубы
смолк Исаак, с тех пор, как бабы Любы
покорный холмик снегом замело...
Диптих Востока
1.
Жестокая метафора возмездья:
правитель, но не лев, - скорей, грифон,
вцепившийся когтистой лапой в трон,
архангел-гриф на прибыльном насесте,
ещё недавно – символ местных вер,
сиятельный, на сто карат, бербер,
укутанный до пяток златотканью
раис-алмаз, властитель нефтебаз, –
сегодня брошен навзничь в пыль и грязь,
и залит чёрной кровью надруганья…
Ещё вчера надменный шахиншах,
теперь он, с гиблым ужасом в глазах, -
комком белка, моллюском-василиском, -
размазан, в знак возмездья, по песку
и тут же - по мобильникам ливийским...
За изыск власти - веско платят взыском,
обвалом в преисподнюю-тоску…
Однако ж, и над нами - та же свора,
достойная такого же разбора:
и днём и ночью грабят, в три руки,
и распинают Бога неустанно...
Им – не указ, что напоказ тирана
рвёт челядь в ходе шоу на куски,
что те же клочья, так же по-простецки,
уже мелькали – здешний Брюховецкий,
а чуть пораньше Цезарь и Нерон,
в ад сброшены, - по линии ротаций, -
с нюансами правленья разбираться…
«Харам!..»*- тоскливый, обречённый стон
мятётся над казнилищем пустыни…
Но сей «харам» летит ко всем херам,
ко всем минувшим и грядущим дням,
где проступают капища сквозь храм,
где месть сладка, но нету благостыни…
-----
* харам - запрет (арабск.)
2. Никаб
Люля-кебабу я по-свойски рад,
но ляля плюс никаб почти зловеще
стыкуются. Похоже, в краткость вещи
включён причин и следствий долгий ряд.
Сквозь щель никаба – Вавилон, шахид,
шумер, Искариот и цезарь Тит,
смешавшись, словно в дьявольском коктейле,
сулят семь чёрных пятниц на неделе.
Да так, что брезжит в ближней параллели
усач Усама, олигарх-скиталец
с оленьим грустно-масляным зрачком, -
любовник смерти, чей не в силах палец
со спуском «Калаша», с курком-крючком
ни наяву расстаться, ни во сне…
Бен Ладен с молодой женой в никабе. –
Как живо входят в мой расклад оне!
И чёрный автомат на чёрной бабе
всего лишь длит багровый ток знамён
кровоточивых, - всклень моих! – времён…
Когда-то с «Калашом» на юной вые
я клятву маме-мачехе давал.
Но грянули откаты роковые
с кончиной мамы. Чернозёмный нал
вовсю питает корни паханата.
Трещит душа по швам, а с краю хата
куриной лапой рвётся мне в карман,
поскольку волчий криминальный клан
удавкой дожимает коммунальной
свой люд – овечьих, видимо, кровей….
По дедовской шкале, по пятибалльной
кол пишется чернухе смутных дней
сообществом, чуть бурого окраса.
Но в целом масса без боеприпаса
не в силах одолеть сама себя,
подспудно, вдоль генетики, любя
своё же вековечное холопство…
Усама же приносит неудобства
всем тем, кто сам с усам, кто по слезам
спешит в шузах из кожи страусиной.
И мне всё чаще снится кол осины…
И прав Коран: достойней во сто крат
безбожия, стяжательства и жлобства,
достойней беспредела – шариат!
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?
И что никаб? – В очах его: «Свят, свят…»
Если в море забросишь пятак...
* * *
Если в море забросишь пятак,
серебристый, сверкающий талер,
значит, всё скомпонуется так,
как задумал в симфонии Малер.
Значит, будет опять через год
дуть над бухтою ветер Азова,
выдувать сквозь свирель и фагот
точный звук, зачинающий слово.
Если волны проглотят бакшиш,
мафиозный магический доллар,
значит, вновь через год углядишь
ободряющий свежестью колер -
синь и зелень Азовских очей,
ярко-праздничный берег ракушкин,
чей пин-код и скрипичность ключей -
гармоничны, как Осип и Пушкин.
Не жалей, музыкант, пятака -
может счастье опять повториться
там, где зла, как по воле тоска,
сильнокрылая белая птица,
где опять твой загар через год
будет чист, словно мумии маска,
если не упадёт бутерброд,
если фирменный поезд придёт
с крупной надписью "Божия ласка"...
Но лишь он - Аладдин, выкликатель огня из рутины...
Георгию Шенгели
1.
Здесь, на склонах Митридата,
всё ещё целы несмело
хаток белые цитаты
из трактата Кампанеллы.
И в черте Пантикапея
в нише четвертьста столетий
сам под нос пою себе я:
"Буки-веди, внуки-дети..."
Говорю:"Белеют мелом
средь орехов и софоры
стены, что душой и телом
входят в отзвук разговора.
Дышат живо - кровь из вены -
средь волохов пьянолистых.
И бурлит вино Камены,
и давильный пресс не высох..."
Здесь, под царскою горою
в вечном мареве Боспора -
вволю мрамора герою
для посмертного декора.
Всклень музейный фонд заполнит
пропылённый археолог.
Но, инкогнито инкогнит,
путь змеится - архидолог.
Вот и снова "Веди-буки,
дети-внуки" говорю я,
чтоб на Черкио излуке
рифму выдохнуть не всуе.
Ибо свеж поэт баллады,
Керчи и Эллады житель,
зодчий сада Митридата,
золотой настройщик лада,
маяка дальнесмотритель...
2.
Тепловозный гудок прокричал, как баран молодой
в окликанье любовной интриги и ласки овечьей.
И вдоль пляжа казённого с инфекционной водой
потянулись железных вагонов квадратные плечи.
На полдня, Феодосия, вновь я сюда заглянул,
ибо склонен к тебе с незапамятно давнего года.
Вдоль холстов айвазовских - всё тот же состав в Барнаул,
и вокруг галереи - всё то же смешенье народа.
Той же кепкой чугунной грозит исполин-истукан,
отпочкованный мифом от нехристя и мизантропа,
у того же вокзала. Июля горячий дурман
застелил лепестковым ковром тротуарные тропы.
Это сыплет софора цветков белинзу, желтизну,
чтоб замедленным мётлам хватило на месяц работы.
На привычную, Кафа, бессмыслицу-бучу взгляну,
на лоточной торговли пчелиные пёстрые соты.
Никого я не встретил из кафских знакомых своих,
наливальщицу разве сухого вина саперави,
но зато прочитал на скрижалях понятный мне стих
о художнике слова в посмертной и мизерной славе.
На избушке музея, на серого камня доске
я прочёл, что Шенгели гостил тут проездом у Грина.
Зурбаган, халабуда поэта стоит на песке,
каждый день его вуду - от гибели на волоске...
Но лишь он - Аладдин, выкликатель огня из рутины!
Серхи де Седа на пару с Форевером Янгом...
* * *
Серхи де Седа на пару с Форевером Янгом
тинто бутыль под тенистой оливой открыли.
Ветер с зелёного моря несёт бумерангом
белую чайку - изломанно-острые крылья.
Как она держится в рваном воздушном потоке,
как управляет изысканным парусом-телом!
Чую, друзья мои, - сквозь растяжимые сроки, -
сходится частностей ряд к равновесию в целом.
Чую, огонь ещё любит гончарную душу,
и по аорте пульсирует киноварь-зелье.
Серхи с Форевером, я ли, ваш кровник, нарушу
заповедь твёрдости краткой минутой веселья?
Сызнова с вами, в тени под священной оливой,
выдерну звонкую фишку бутылочной пробки,
ровно такой же, как вы, темнокожий и сивый,
и иберийскую визу, и крымскую ксиву
спрятав под крышкой старинной "Казбека" коробки...
В виду руины Казантипа...
* * *
Десятый день "Сосиска в тесте!"
вопят разносчики на пляже.
Вокал их, тембром вроде жести,
и cверхидея их поклажи
дробятся на волне Азова.
Сгущенье же июльской лени
и по-над дрёмой пса Азора
замедленность солнцевращенья
являют Казантипа гамму -
курган АЭС на жёлтом фоне...
Все глины, мергели Адама,
жуются ныне в телефоне.
А ты, - ни друг, ни враг мобиле, -
всё возишь тишину с собою,
и звук свой красным "суахили"
шлифуешь в унисон прибою.
Снуют наследники Союза,
частицы ядерного взрыва
вдоль моря с криком "Кукуруза
горячая!" - Живи красиво...
И ты, скворец породы прежней,
сухим вином от радиаций
спасясь, над атомной скворешней
бетонной - волен просыпаться
в виду руины Казантипа...
И вновь свистеть о самом лучшем -
как мы, птенцы царя Эдипа,
мы, птицы-цацы прототипы,
не архивируемся в чипы,
но снова слёта ноты учим!
О пунктире, о пульсе начала...
* * *
Дышит ясностью дыня "Амал" -
золотая шершавая правда,
у которой в серёдке - опал,
то есть, нежность такая, как надо.
То есть, ласка, какой не найдёшь
ни у дочери Гога-Магога,
ни у текста, которым на грош
прирастает риторика блога.
Над бахчёю людей-овощей
опознаю овал от "Амала".
О душевной природе вещей
помнит сшитый иголкой Кащей,
свищет в вещие тыщи свищей -
о пунктире, о пульсе начала...
Маяка дальнесмотритель...
* * *
Георгию Шенгели
Здесь, на склонах Митридата,
всё ещё целы несмело
хаток белые цитаты
из трактата Кампанеллы.
И в черте Пантикапея
в нише четвертьста столетий
сам под нос пою себе я:
"Буки-веди, внуки-дети..."
Говорю:"Белеют мелом
средь орехов и софоры
стены, что душой и телом
входят в отзвук разговора.
Дышат живо - кровь из вены -
средь волохов пьянолистых.
И бурлит вино Камены,
и давильный пресс не высох..."
Здесь, под царскою горою
в вечном мареве Боспора -
вволю мрамора герою
для посмертного декора.
Всклень музейный фонд наполнит
пропылённый археолог.
Но, инкогнито инкогнит,
путь змеится - архидолог.
Вот и снова "Веди-буки,
дети-внуки" говорю я,
чтоб на Черкио излуке
рифму выдохнуть не всуе.
Ибо свеж поэт баллады,
Керчи и Эллады житель,
зодчий сада Митридата,
золотой настройщик лада,
маяка дальнесмотритель...
Вьётся Мёбиуса лента...
Из математики
1. Бином
Младенец требует "Уа!" -
я заверну его в боа
из горлицыных перьев.
Я гляну в милые зрачки,
в пионовые кулачки,
как бы в честнейшие значки
суворовца, поверив.
Мой хлопчик в ельнике "ау"
звенит свежо, и я, б/у,
стремлюсь к нему навстречу.
В его семь лет ещё вполне
возможно нам - ему и мне -
не обморозясь на войне,
общаться летней речью.
И вот мой юноша "Привет -
мне говорит - подбрось монет,
старик, на дым и влагу!"
И как я, простодушный тать,
могу любимцу отказать? -
Ведь это он и дочка-мать
снесут меня к оврагу.
Отволокут, отпустят вниз.
Так и голубка за карниз
столкнёт, без звука, без реприз,
сор скорлупы яичной.
Я вниз скольжу - мне хорошо,
не надо слышать чьё-то "шо",
быть начеку, сжимать ружжо...
Всё, как бином, логично.
2. Стереометрия
Петли вьёт в пространстве Лета,
холод крепнет у затылка.
Рвётся Мёбиуса лента,
бьётся Кляйнова бутылка.
В их движенье ниоткуда, -
без конца и без истока, -
очевидность и причуда
закольцованы без срока.
Только, сколь бы по спирали
ни ткалась бы паутина,
в седине паучьей шали
жив зрачок аквамарина.
Что-то, смявшись, остаётся,
несмотря на передряги,
выпрямляется, смеётся. -
И для губ есть капля влаги.
Совпаденья редкий случай
брызжет квантом перемены,
и румянец, свет живучий
моет щёки Ойкумены.
Шёпот-шорох, - без крещендо, -
выдыхает:"Жив курилка!"
Вьётся Мёбиуса лента,
и, как песня из Сорренто,
пьётся Кляйнова бутылка!
Бордо и кьянти душу ободряют...
Таврические винопития
1."Седьмое небо князя Голицына" *
По булыжным ложбинам-каскадам
скачет ливень, строптивей мустанга.
Ободрюсь-ка я чёрным мускатом
в ожидании белого танго.
Над медвежьим хребтом Аю-Дага
виснут висмутом клочья тумана.
И зачем эта майская брага
так бессолнечна и бесталанна?
Сторожат перемену погоды,
ждут июньской цветной канители
и аттической пристани воды,
и латинский бастард цитадели.
Да и я, поднимаясь направо
к торгу-рынку, сыщу у народа, -
слаще славы, гульливой шалавы, -
десять зелий "Гурзуфвинзавода".
Солнцу, рифме, псалму на потребу,
тропарю ли, глаголице-вязи -
и монаси приемлют же "Небо
номер семь от Голицына-князя"!
( * Марка крымского вина )
2.
Идти - не киснуть сиднем, не сдаваться.
Пить время, словно красное вино.
Стратегии верней, надёжней братства
нам, имярек, с тобою не дано.
Бордо и кьянти душу ободряют.
От них - свежеет радужки карат.
И с губ вечерних злобу дня смывает
пурпуроцветный философский яд.
Что новшества? - Для зябликов обманка...
Поклажи да пожитки гнут костяк.
Но каждой гранью множит рифмы склянка:
"Поставь ещё пластинку, итальянка!
Плесни бесценной влаги на трояк!"
3.Костёр у моря
Там уголь створок с перламутром
и хереса дубовый яд,
от чьих щедрот назавтра утром
глазные яблоки болят.
Костёр в пяти шагах от моря,
на трёх камнях железный лист.
И априори в соль-мажоре -
печёных мидий пар и свист.
Там грани варвара-стакана,
что трубкой мира, вкруг огня
вращается легко, не пьяно,
о зубы бодрые звеня.
А нежность пассии поспешной
и откровения Москвы -
терпки, безбашенны, безгрешны,
как запах сброшенной листвы...
Руины пира перламутром,
изнанкой раковин, блестят.
И чайка-побирушка утром
всеядным клювом хитромудрым
клюёт примятый виноград...
4. Имя вина
Допотопная форма бутыли
обещает правдивость вина.
Может, косная длительность были
и не зря мне, строптивцу, дана.
Может, вправду я жил не напрасно,
и бурливого духа вино
всё, что мелочно, ложно и грязно,
отметало в остаток, на дно.
А иначе - не стоило б драться,
злиться, каяться, выть на луну
и вгрызаться отчаянно в святцы,
дабы вымолить имя вину...
С бриллиантом Лишбоа в ноздре...
* * *
Сочинял магелланские песни,
пальцы мучая в струнной игре.
И осталась лишь строчка, хоть тресни:
"С бриллиантом Лишбоа в ноздре..."
По волне семиструнного лада
плыл с уклонами в речитатив,
пел для некой утехи баллады,
в политехе диплом защитив.
Затерялась навеки кассета,
лента магнитофона "Весна",
где записаны барда куплеты.
Лишь строка не забылась - одна.
Век пройдя, оживлю и вторую,
полуострова карту раскрыв,
ибо линию береговую
смять не смог океанский прилив.
Ибо дышит всей грудью константа,
крепнет тезис на смутной заре:
"Португалия - профилем гранда
с бриллиантом Лишбоа в ноздре..."
За привилегию воздуха...
Памяти Рэя Брэдбери
1.
Пёс - твой восторженнй бред бери,
школьник, влюбившийся в Брэдбери!
Ночи твои, словно конники,
сквозь "Марсианские хроники"
мчат по магическим россказням...
А спозаранку - хоть поползнем, -
сызнова в школу. И вот оно -
будни, набычившись вкопанно,
целят в зрачки марсианские.
Вот оно - сердце пацанское
бьётся реально, без роздыха
за привилегию воздуха!
Бьются, чтоб в зелени, в темпере
из одуванчиков Брэдбери
бражку глотать незлобливую
под слобожанскою ивою...
Вызрели синие венчики,
скрипки согрели кузнечики -
памяти долгой хранители,
инопланетные жители.
Брэдбери с летом венчается,
мёд горьковатый качается.
Реет над звёздными сотами
Рэй, не летун самолётами,
.
2.
Полдень. Дрожащие веерно крылья.
Горизонтальный сапфировый хвост.
Над первобытным лугов изобильем,
словно гипноз, – трепетанье стрекоз.
Плавность пришельца в летательном жесте.
Вот, к лепесткам наклоняясь едва,
в зное стеклянном застыли на месте
внегалактические существа.
Кто-то у линз Андромеды туманной,
губы кусая, завидует мне. –
Пенью лесной приозёрной поляны,
лепету летних малиновых дней…
3.
В летнем мареве солнцестоянья
опустились на луг марсиане,
синеокие, словно поляне,
яркоплечие, будто древляне.
Шелестели в траве менестрели,
искры крохотных крыльев блестели.
Вдоль шмелиной невидимой трели
мы в упор друг на друга смотрели.
И среди разогретого луга,
средь гвоздики и дикого лука
по глазам, по сердечному стуку
мы узнали, узнали друг друга!
Я уже записал в золотые друзья муравья...
* * *
Лето, лето, живая планида моя,
населённая спелой-преспелой горячей травою!
Я уже записал в золотые друзья муравья,
и, о риске забыв, увлечен голубой стрекозою.
А игрун, несуразно-изящный кузнечик-урод!
Смехота, но почти что уронишь слезу умиленья,
как, без слуха, без голоса, ладно по струнам снуёт
этот вывих певучий, скрипучее стихотворенье!
Так вот в мире большом всякий малый по-своему прав,
без боязни ветрам отдавая дыхания звуки,
бескорыстно вплетая слова в песнопения трав,
ни обиды не ведая, ни самозванства-докуки...
Так бы вечно дышать под просторами отчих небес,
где цветные луга необманным лепечут приветом,
да ещё за холмом веет речью древлянскою лес -
родниковой водой и крушинным листом разогретым...
* * *
Порхает рыжий мотылёк
в горячем воздухе июля.
В миру ли он огонь возжёг,
над грядкой лука во саду ли? -
Наверное - и здесь, и там.
Скорей всего - и днесь, и присно.
Июльским полноцветным дням
и сам я предан бескорыстно.
И я лишь в дар отдать берусь,
но не меняю на коврижку
знакомую мне наизусть
ванессы-огнекрылки книжку.
Зной гуще, ближе файв-о-клок.
И вот в окне моём, в контрсвете,
порхает чёрный мотылёк.
И резвым крыльям невдомёк,
с кого взыскуется урок,
по ком черны сполохи эти...
Мир искривлён вдоль кромки Португалии...
* * *
О.И., К.И.
А что искал ты в красках Португалии,
то и нашёл. Пейзаж и натюрморт
смешав с наброском в профиль, шёл ты далее,
минуя Сетубал, античный порт.
И в городке Кашкае на Атлантике
прозрачным зельем ужин запивал,
вином легчайшим - тем, что в здешней практике
зелёным звал кофейный португал.
Дораду, нежно-жареную рыбицу,
чесночный соус сватал языку...
Но побережье чёрным камнем дыбится,
не оставляя подступов врагу
за краем бухты. За игрой и резвостью,
за мелом вилл и прозеленью хвой -
суровый чёрный берег дышит резкостью
суждений оконечности земной.
Здесь край земли. Коснись, на вдохе, вечности.
Кашкай, Лишбоа, Фару, Сетубал
вздымают сверхидею твердоплечести
непокорённых океаном скал.
Мир искривлён вдоль кромки Португалии,
вдоль тяготенья неподъёмных глыб.
Любовь впадает в смерть. На тонкой талии
железа рукавиц сойтись могли б...
Поэт - дитя, для мира несуразное.
Но, чем дорога дальше, тем верней
его открытки с берега - атласные
на аверсе, но между строк опасные -
на обороте, на изнанке дней...
В июньский день двадцать четвёртый...
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея,то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и в блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака.-
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, -
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но, снившееся! Где ты, где ты?
* * *
Есть час, когда город просторен
в воскресные летние дни.
Июнь – это воздух «лавстори»,
Рембрандт на предплечье в тени.
На миг сквозь листву проникая,
понежась на женской руке,
блик солнца, как слава мирская,
спешит в никуда налегке…
Чтоб сквозь ледовитые зимы,
сквозь скрип задубевшей петли
смогли мы дышать. Чтоб могли мы…
Да что? – Да, хоть что-то могли!
* * *
Просторный город, гул горячий
под майским солнцем молодым,
он - сад, рассадник новобрачий,
он - радужный фонтанный дым
и фон для постановки фото -
спортсмена с вазой золотой,
плюс жениха-автопилота,
что поднял девушку с фатой,
прижав к груди и даже к сердцу
свой свадебный воздушный приз...
Пусть город, деятель коммерций,
глядит с ухмылкой сверху вниз,
на глупых-честных, безнадёжных
не вхожих в ненасытный клан,
взбухая на посылах ложных
евангелия обезьян...
Но май вздымает синий купол
над перекупкой-суетой.
Всего и дел-то: бес попутал
твой век, и тесный, и пустой...
Фонтан - фантом и брызги ситу.
Но май, но лето - продержись!
И не держи в душе обиду
на всех, кому не подал виду,
как странно и не по Эвклиду
желанна - и средь скверны - жизнь!
Раньше всех поспевать начинает шелковица...
* * *
Раньше всех поспевать начинает шелковица.
Слава Господу - солнцем июнь переполнен.
Фиолетом, мальчишеским искусом полнится
эта ягода-цаца, царица оскомин.
До сих пор мои губы - в чернилах причастия,
до сих пор на ладонях - тех писем разводы.
И пшеничную корку с укусами счастия
по теченью несут первородные воды.
Фиолетом-кармином, живящими джусами
освежались уста - в путь до самого устья.
Капнет кровник-тутовник на тощее пузо мне -
и опять станет света чуть больше, чем грусти,
под ничейным шатром скороспелки-шелковицы,
под размахами полновоздушного неба.
И Лугань золотится, речушка околицы,
оберегами вольноплывущего хлеба.
Вплетаясь в бесконечный смыслоряд…
1. Храм под Воронежем
Иверской Матери Божьей
церковь стоит над прудом.
Кем я, проезжий, прохожий,
по бездорожью ведом?
Путники не доезжают,
не добредают сюда,
но голубень отражают
серые воды пруда.
Но над крутым косогором, -
по-над страной ширины, -
к полновоздушным просторам
маковки вознесены.
Словно бы в хвори-заботе
травы находит зверьё,
так я в поспешном пролёте
с трассы увидел её –
церковь вдали.. И «восьмёрку»
поворотил по буграм,
и отыскал на пригорке
белый, средь зелени, храм.
К тёплым суглинкам уклонов
лепится троица ив.
Тих, словно инок Платонов,
светится белый налив.
И над пустым котлованом –
ныне лишь хлопоты кур,
там, где за бурым бурьяном
рай багрянел - Чевенгур...
Сонно июльское лоно.
От буерака взойду
к церкви лебяжьей, исконно
моющей крылья в пруду.
И у сосновых дверей я
в Иверские образа
гляну – и встречу Андрея
скорбно-земные глаза.
Тихо. Лишь вечный ребёнок –
кроткого гения бронь…
Бродят, поодаль иконок,
рыжий, с репьями, телёнок,
серый, в антоновках, конь.
2.
Того ж, кто боли боль, исполнясь песни песней,
доверясь книге книг, в слога запеленал,
того в убитый лоб я целовал: "Воскресни!
Зане велик твой вдох, а выдох мира мал..."
Того, кто травостой всерусского погоста,
весь клевер и осот, сметал в один омёт,
того спросил бы я, до основанья просто:
"Когда-то же придёт? Неужто не придёт?"
В сих топях на крови, в беспутице бескрайней,
коль и не сгинет град, не опустясь на дно, -
лишь оттого, что в нём был смертник, равный тайне,
кому весь котлован собой закрыть дано...
Я знаю, что Господь не ради гиблых стонов,
не ради казней всех простит срамную Русь,
но ради трёх святых... Из них Андрей Платонов -
суть первый.
Вслед за ним - считать я не берусь.
3.
Аз ведал будни. Но, похоже, звуки
рождались не из вязкости труда
и даже не из ловкости науки –
из вечного тревожного: «Когда?..»
Из догмы смерти, - вопреки всем связкам
кривых времён, прямых координат, -
Дух прорастал. И звук был рад подсказкам,
вплетаясь в бесконечный смыслоряд…
Когда б я к Иисусу Назарею
апостольские души мог созвать,
в которых дорогая мне идея
пульсирует, живя их суть и стать,
я Джотто бы позвал. И Питер Бройгель
на тайную бы вечерю пришёл,
назвавшись так, как отчей птицей-фогель
во Фландрии он вписан в протокол.
И Моцарт вместе с пахарем Винцентом
внесли б одну охапку на двоих
подсолнухов. И Осип, - сто процентов! –
пропел бы вслух щегла и неба стих.
И бездной глаз, беззвучием иконным
о жизни бы мне молча всё сказал
до донышка родной Андрей Платонов -
о коде первородном и исконном:
«Аз ведал ад… Но Бог – не умирал!»
Нет, памятником быть - не интересно...
Монументы
1.
Январский дождь полощет Симферополь -
промок вокзал, скукожился базар.
Лишь каменный Ульянов, задом в цоколь
упёршийся, блестит, как самовар,
гранитным лбищем, черепа коробкой, -
шайтан из торбы, дьявол из мешка,
с шифровкой штаба, с вавилонской кнопкой:
рахат-лукум, пиф-паф, секир-башка...
Проститься с ним бы, гогом и магогом,
и с нимбом отрывателя голов...
Но по сей день мятётся не под Богом
полмира - в том же плетиве узлов.
Из черепа червивого Шумера
вползает зуммер в горемычный ум
и правит ноту дудке пионера:
"Якши, шайтан-батыр, шурум-бурум!"
2.
Нет, памятником быть - не интересно.
Шальной сизарь на темени присел -
и то ль с утра постился, то ль говел,
а всё-таки, что выкинул, известно!
Оно, конечно, к счастью и к деньгам,
как обещает верная примета...
Но выстоять удушливое лето,
в чугунном пиджаке, на страх врагам!
Нет, это разом - солоно и пресно! -
Ни газводы, ни тени, ни пивка...
Пожалуй что, останемся пока
в чудесной ипостаси безызвестной -
твоя рука так памятно легка!
3.
В резиновых тапках потёртых
достиг водоёма отряд.
Я видел вблизи полумёртвых -
они сквозь живое глядят.
Питомцы вчерашней лазури
лишь Лазаря ныне поют.
Нахлынет магнитная буря,
ломая в затылке сосуд.
Из плавно раздвинутых губ я
двойным языком уязвлён. -
Предательством смазаны зубья
толкающих быт шестерён.
И Вас ведь, петлистая вена,
настигнет медянки приплод.
Змеится по кругу измена -
"Ваш искренне, Искариот"...
Хлопчатобумажное племя
колонною по два ушло.
Погода - всё та же. Но время
наглей исповедует зло.
У ног истукана процокал
дававший присягу отряд.
Извёсткою выбелен цоколь.
Но карлы, обсевшие тополь,
черны. И поживы хотят.
И склонён над землёю июнь солнцелико...
* * *
Отцветают пионы, и зреет клубника -
их смешавшийся запах и лёгок, и густ.
И склонён над землёю июнь солнцелико,
как над ягодной грядкой пионовый куст.
Отцветают пионы - усыпали землю
лепестками пунцовых и розовых гамм.
Не оглянется лето - торпится, внемля
новым дням молодым, новым юным цветам.
Восьмикрылая дрожь, белокрылая пара.
Кратки, кратки объятья четы мотыльков...
И садовник-старик, молодой от загара,
на ладони ласкает уколы шипов.
* * *
Младенец требует "Уа!" -
я заверну его в боа
из горлицыных перьев.
Я гляну в милые зрачки,
в пионовые кулачки,
как бы в честнейшие значки
суворовца, поверив.
Мой хлопчик в ельнике "ау"
звенит свежо, и я, б/у,
стремлюсь к нему навстречу.
В его семь лет ещё вполне
возможно нам - ему и мне -
не обморозясь на войне,
общаться летней речью.
И вот мой юноша "Привет -
мне говорит - подбрось монет,
старик, на дым и влагу!"
И как я, простодушный тать,
могу любимцу отказать? -
Ведь это он и дочка-мать
снесут меня к оврагу.
Отволокут, отпустят вниз.
Так и голубка за карниз
столкнёт, без звука, без реприз,
сор скорлупы яичной.
Я вниз скольжу - мне хорошо,
не надо слышать чьё-то "шо",
быть начеку, сжимать ружжо...
Всё, как бином, логично.
Люля-кебабу я по-свойски рад...
Никаб
Люля-кебабу я по-свойски рад,
но ляля плюс никаб почти зловеще
стыкуются. Похоже, в краткость вещи
включён причин и следствий долгий ряд.
Сквозь щель никаба – Вавилон, шахид,
шумер, Искариот и цезарь Тит,
смешавшись, словно в дьявольском коктейле,
сулят семь чёрных пятниц на неделе.
Да так, что брезжит в ближней параллели
усач Усама, олигарх-скиталец
с оленьим грустно-масляным зрачком, -
любовник смерти, чей не в силах палец
со спуском «Калаша», с курком-крючком
ни наяву расстаться, ни во сне…
Бен Ладен с молодой женой в никабе. –
Как живо входят в мой расклад оне!
И чёрный автомат на чёрной бабе
всего лишь длит багровый ток знамён
кровоточивых, - всклень моих! – времён…
Когда-то с «Калашом» на юной вые
я клятву маме-мачехе давал.
Но грянули откаты роковые
с кончиной мамы. Чернозёмный нал
вовсю питает корни паханата.
Трещит душа по швам, а с краю хата
куриной лапой рвётся мне в карман,
поскольку волчий криминальный клан
удавкой дожимает коммунальной
свой люд – овечьих, видимо, кровей….
По дедовской шкале, по пятибалльной
кол пишется чернухе смутных дней
сообществом, чуть бурого окраса.
Но в целом масса без боеприпаса
не в силах одолеть сама себя,
подспудно, вдоль генетики, любя
своё же вековечное холопство…
Усама же приносит неудобства
всем тем, кто сам с усам, кто по слезам
спешит в шузах из кожи страусиной.
И мне всё чаще снится кол осины…
И прав Коран: достойней во сто крат
безбожия, стяжательства и жлобства,
достойней беспредела – шариат!
Дождёшься ли, отчизна хлеборобства?
И что никаб? – В очах его: «Свят, свят…»
Уходят, что ни год...
* * *
Уходят, что ни год, о смысле жизни споры...
И нет уже тебя, кто был других верней.
Трезвее воздух дней. Но юных женщин взоры
всё ярче по весне - прощальней и пьяней.
Истаяла зима. И глина снег впитала.
Просел, чуть покосясь, простой сосновый крест.
И с тополя скворец, бесстыжий зазывала,
опять, на весь погост, взахлёб зовёт невест!
Дочиста промытый, лепестковый...
* * *
Рвутся к небу - напряженье тока,
энтропия и цена бензина...
Троица, дожди твои до срока
осыпают белый цвет жасмина.
Троица, и всё-таки свершилось
Празднество - ветвями и громами -
чтоб взошла Апостольская милость
над семижды, над семью холмами...
А как спелась речь Святого Духа
с пешим ходом пастыря Андрея,
так и я, грозою-медовухой
надышавшись, во хмелю добрею
что ни год - в июньском переплеске,
в свежине-гульбе кленовой новой.
Сыплется жасмин и мака фески...
Но, вздымая купол Брунеллески,
день стоит, как запах хлеборезки,
дочиста промытый, лепестковый!
Хорошо, что знать не знаю...
* * *
Зелёной Троицы венок,
чуть вязкий привкус травной сказки.
Подковы, цокот конских ног
и чётко-бодрый стук коляски. -
Осанистая, словно лорд,
детей катает в фаэтоне
кобыла - яблоки апорт,
ранет на крутозадом фоне.
Звенят привольные стрижи,
и с каждым маем всё любимей
их ярких крыльев виражи -
ребяческие и во Имя...
Каштанов свечки отцвели,
но, право, к ним слабеет жалость,
когда и флот твой на мели
и слово в междометье сжалось...
Но вновь у самых окон - гроздь
акации, невесты лета!
И значит, многое сбылось
без соучастия куплета.
Тепло. И Троицы венок
сплетается к исконным срокам.
Звенит стрижа крыло-клинок!
И над стаккато бодрых ног,
искрит кобыла карим оком.
* * *
С Божьей помощью, вестимо,-
несть же вести без неё, -
в дым уйдёт, как пачка "Примы",
время-воинство моё.
Оглянусь - по крайней мере
в сраме следствий и причин
атакует город зверя,
порождение безверья,
друг мой, твёрдый паладин...
Оглянусь - а лето сжалось
в порчу осени, в лоскут.
Сколько же ещё осталось
в смуте-смете дней-минут?
Хорошо, что знать не знаю,
лишь - гори, гори, звезда! -
борозду веду вдоль края,
всё спокойней понимая:
жду не здешнего Суда...
Тьма твоя пахла волною, Согдайя...
* * *
Чёрно-зелёные полночи мая.
Кроны полны тишины и прохлады.
Как я давно Вас не видел, Согдайя!
Жизнь истекает, и свидеться надо.
Жизнь, что похожа на грустную шутку,
издали машет приморскою веткой,
снова скребётся в дощатую будку -
там, под смоковницей жилистой, ветхой.
Где же влюблённые в съёмном сарае,
те, что полночные вирши шептали?
Тьма твоя пахла волною, Согдайя,
пьянь голосила внизу на причале.
Странно, что давних иллюзий отрада,
всё неотступней витает над явью.
Сердце щемит, ибо свидеться надо
с прошлым, едва уже слышным:"Aй лaв ю"...
В токе цикады и в соке цикуты -
отблеск Согдайи и отзвук Завета.
Длится последняя мая минута,
в море скала обрывается круто,
падают звёзды, и близится лето...
* * *
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном -
и вы, смутясь и торопясь, войдёте
туда, где правят юности законы.
Там вкус вина смешается и соли,
и там повсюду будет привкус солнца.
Лиловым ветром позабытой воли
повеют с древних склонов колокольцы...
Была ладонь её солоновата,
и горячи нетронутые губы.
Спускалась ночь, почти что без заката,
и лето шло стремительно на убыль.
И юность к окончанию катилась.
к подножью от вершины Аю-Дага.
И всё прошло, забылось и простилось.
И близко всё - каких-нибудь полшага...
Жизнь оказалась щедро, странно длинной -
и ныне так же колко, как в семнадцать,
обводом моря, лунною долиной,
тропою кипарисной пробираться...
И может быть, вы просто не умрёте,
глотнув свободы над волнистым лоном. -
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном...
Восемь веков непрестанных крестовых походов...
Через Испанию
Гений фонетики, говор-напор Арагона
"Цезаря Августа" преобразил в "Сарагосу".
Царственность звука окрепла. И кстати, Памплона
тем же Помпею обязана, римскому боссу,
завоевателю горно-упорной Наварры...
В ноте открытой гортани - за веком столетье.
Двойственность времени - в проблесках Божьего дара
и в невозможности реализаций по смете.
Святость палаты*, железная дверь Торквемады,
в поиске ереси множатся пёсьи набеги...
Ласково стелется тело Ла Манчи, и стадо
тёплых овец огибает холмы-обереги.
Цепким бы семечком впиться, коричневым корнем
в смуглую охру оливковых здешних плантаций,
чёрным вином реконкисты, военным прокормом
от каблуков и до шрамов-бровей напитаться...
Восемь веков непрестанных крестовых походов
создали эту державу с клинковою статью.
Время её - единенье трагических кодов,
семя живое - горох ярко-красного платья.
Скачут оборки подола, пылает фламенко -
долго до Кадиса брёл я от тьерры Наварры.
Берег камней и Атлантика - стенка на стенку.
В кружеве пены - стихий новобрачная пара...
* Святая палата - официальное название инквизициии
Не в шутку, а всерьёз сложилось так...
* * *
Какой июнь, какой счастливый случай!
Горячий полдень ласков и весом,
где толстый мальчик в зелени пахучей,
вопя от счастья, ходит колесом,
где младший брат его, шельмец Андрюха,
со смехом догрызает травный лист,
где лепет их дурацкий - мил для слуха,
и хмель кленовых зарослей игрист...
Гляди - так невесомы платьев ткани,
так ярки взоры девушек в цвету,
как будто пьяный ветер в Курдистане
чадру срывает жадно на лету!
Гляди - опять акациею белой,
и уличною липой золотой
обласкан день, где отрок загорелый
ныряет раскорякой в травостой.
Круги его столь бодро-неуклюжи,
столь жаркое лицо его светло,
что давнее "Авось, не будет хуже",
старинное "Покуда живы, друже!" -
и мне прохладой дышит на чело...
* * *
Сирень, пионы. Стихотворец-май.
Намаешься с его хмельной повадкой.
То солнцу, то слезам небес внимай
над в клетку разлинеенной тетрадкой.
Не в шутку, а всерьёз сложилось так -
до слёз светло над рифмой маломальской.
Вот так же честно плакал Пастернак
над женственной распутицей февральской.
Борис ли Леонидыч насвистал,
ожёг ли рот я "горькою от Борьки"? -
Но снова в мой полночный мадригал
цветеньем веток ломятся задворки.
На то и ночь - как песня "Караван",
чтоб во дворе, акацией укрытом,
я смог бы спеться, через океан,
с потомком Баха, Бахуса - с Бахытом,
которому я не соврал: "Люблю!",
а он: "Аналогично!" - сдал мне сдачу...
В шагренях мая до утра не сплю,
не подстелю соломки скрипалю,
лишь лёгкости смычка в ответ - заплачу...
На вороном иноходце, в чулках белоснежных...
Прадо
Проникновенья, мичуринские помидоры -
суть лишь одна из сторон цельнокованой правды.
Мне бы иного сыскать для души разговора:
силы глубинного духа - по кодексу Прадо.
Скачет Мадрид, в миллионный азарт вовлечённый,
скачет не к Прадо, но к рампе переднего плана.
А пред свечением Гойи, жемчужным и чёрным,
эхом звучит нестихающим стих Иоанна.
Ибо и всадник Эль Греко и Гойя Франсиско, -
на вороном иноходце, в чулках белоснежных, -
наперерез кавалькаде последнего взыска
скачут, от имени всех неприкаянно грешных.
Знаки высотных и траурных миропрочтений
светятся в этих тревожных и тёмных полотнах -
в противоходе, в скрещении тайных течений,
в рыцарях жестокосердых и панцирях плотных...
На полудник - стрекозье молоко...
* * *
На полудник - стрекозье молоко
вдоль тёплой жилки донника сочится.
И то, что зрело долго-нелегко,
теперь в одно мгновенье может сбыться.
И ты - на старте, там, куда тебя
занёс летучий дух юго-востока,
где шмель, в цветке ворочаясь-сопя,
пьянеет бормотухой файв-о-клока,
где день-дилень глотками счастье пьёт,
не опасаясь дубля и повтора. -
Когда б ты говорил наоборот,
вернулся бы к началу разговора.
Так, строчку букв направо торопя,
ты ловишь здесь и там клавиатуру,
так риск-пунктир проходит сквозь тебя,
и стрекоза высотную фигуру,
по образу биплана-смельчака,
из ленты киносъёмки чёрно-белой,
кольцует. И магически легка
стремительность мальчишеского тела.
И ты, хранимый крестиком-цветком,
на старте вновь - изо всех сил спокоен,
помазанник стрекозьим молоком,
ребёнок, отрок, предвечерний воин...
B вечнозелёной затерявшись теме...
* * *
Свари мне, мама, голову и хвост -
да будет "ух!" уха из толстолоба!
Пока я в слободе бурьяном рос,
перерастая авитаминоз,
за мной страна приглядывала в оба -
в два выпуклых стукаческих очка
и в два десятка глаз Доски Почёта,
но грыз я дичь акации-стручка,
огрызок, каюсь, разжигал бычка
и не сдавал контрольную работу,
зане путём сквозь непутёвый май
не добредал до 104-ой школы...
Играй же вновь про тот кипучий рай,
про зелень кущ окраины играй,
вольнолюбивой давности виола!
И если вдруг повесткой по суду
предпишут мне - восполнить делу время,
боюсь, как в том околичном году,
к двери казённой вряд ли я приду,
в вечнозелёной затерявшись теме...
Между алой мулетой и мутно-зелёной водой...
Plaza de Toros
Гумилёв конквистАдором конкистадора нарёк -
не для жеста, пожалуй, для вольнолюбивого спора.
Так и ты бы - в крещендо быков андалузских облёк:
не в грамматику - "торо", а в полногремучее "торро"!
Вот он, бык смоляной, вылетает из красных ворот,
словно чёрт из коробки с пружиною, Зорро-задира,
и ноздрями раздутыми воздух предгибельный пьёт -
майский воздух Севильи, любовницы Гвадалквивира.
Вот он роет копытом песок, чёрный Авель, литой
из бойцовой, не помнящей братова имени, плоти...
Верхний ярус арены чадит ядовитой махрой,
и оркестр многотрубный в бравурной сливается ноте
чуть правее тебя, но всё в том же, доступном, ряду,
где курцы табака апплодируют бурно мулете,
в 3-ем тысячелетье, в 12-ом кряду году, -
реконкисты и Каина жертволюбивые дети.
И закланье - изысканно, и позумент золотой
облегает в обтяжку плечо и бедро матадора.
Между алой мулетой и мутно-зелёной водой
к небесам отлетает душа терминатора-торо.
И в бодрящем и праздничном рвенье квадрига коней -
благородные головы в бело-багряных султанах -
мигом тушу увозит... И трубы поют всё пьяней
над весенней Севильей. И полнится летопись дней
Андалузии - в кодах-загадках, желанно и странно...
Лоб торо и упорно-твёрдый рот...
Малага
Дух Малаги велением Аллаха
задуман в перламутровых осях
ума и воли. И Господня страха,
лелеющего совесть на сносях.
Плесни вина с толикою полыни
на честный нераздвоенный язык
и протрезвей, семи несущих линий,
семи опорных точек ученик!
От Рима до берберского узора
причудливо пульсирует пунктир.
Цветник, поживой для ноздрей и взора,
алеет там, где смуглый канонир
палит из пушки с башни Гибральфаро,
где вдоль бойцовой кладки пламень роз,
до лепестка-бемоля, до беккара,
в кровоточивый пляс фламенко врос...
На третий день почувствуешь своими -
и зной припёка, и сквозняк-свежак
на возвышенье том, где "Пабло" имя
столь верно - не таверны! - меры знак
озвучит, что увидишь, как Пикассо
вдоль побережья Малаги идёт,
подросток из графического класса,
в глазищах - перламутр боеприпаса,
лоб торо и упорно-твёрдый рот...
Только вслед дождю небесному...
* * *
Прогневил я, видно, Господа.
Да и как не прогневить?
Ноги сбив о землю досыта,
шёл я вброд и рвался плыть.
Не смирялся всё, упорствуя.
А вольно бы — сизым стать,
зоб набить пшеничной горсткою,
прогудеть про благодать.
А не то — прильнуть сучарою
к голенищу палача,
жить вовсю игрою старою -
рушить головы с плеча...
Да с башкою волкодавьею
и с метлою у седла
проскакать Святою — славь её,
чтоб себя пережила!
Только вслед дождю небесному,-
глубь любил я, а не прыть,
мнил я миру полутрезвому
«да» и «нет» не говорить.
Вот и взят по праву ржавою,
тёмно-бурою землёй,
пятернёй её шершавою
с фиолетовой змеёй...
Прогневил — секи по проседи,
отдери от кожи стих!
Но не мсти — не тронь, о Господи,
малых порослей моих! -
Сбереги мне чистолистное
теплокровное дитя,
ветродуями и свистами
в буерак меня сметя.
Плоть противится закланию.
Но в суде Твоем смолчу,
протяну в чернилах длани я
дознавателю-врачу.
И в утробе, и во гробе я
не мину твоих теснин.
Вот он я — Твоё подобие,
Господи! Земной Твой сын...
Каждый малый звук под Божьим небом...
* * *
А и ты на той же сковородке,
что и брат Грыцько Сковорода,
пёк желток-глазок. И чарка водки
пахла дымным порохом Суда.
А и ты всех иерархов ряхи,
чрева всех чиновных кубатур
не терпел на нюх. И нёс в рубахе,
в полотняном джинсовом размахе,
вольный ветер, синь без синекур!
Библия в дорожной торбе, флейта -
редкое резьбленье из клыка…
Алой альфой в стих врастает лепта
мака, беспризорника-цветка.
Каждый малый звук под Божьим небом
льнёт к летописанию пути.
Чем довлеть посадником нелепым,
забывая «не единым хлебом…»,
лучше – вправду поле перейти!
И прийдя к философа могиле,
повторить: «Блажен кромешный час…
Ибо в нём всем сердцем нас любили –
вопреки всему, не напоказ!»
Где юдоль, до родинки родная,
вдаль ведёт июльские холмы,
там, в бессмертье звуками играя,
радугой, от рая и до рая,
мы снуём - живые до зимы!
Ялты яшмовые чаши...
Прощание с Ялтой
1. Май 1985
Ялта, щупаная дива! -
Май. Казённый бутерброд.
Чашка кофе, кружка пива,
"Пётр Великий" - пароход.
С гор, где холодно и пусто,
вновь спускаюсь налегке.
Вот и ранняя капуста
кудри взбила на лотке.
В жёлтом оке котофея
майской страсти витамин.
Ялта - шатких улиц фея -
дождь слепой и луж бензин.
Гул цветочного базара,
вёдер райские бока.
И кавказского корсара
клёкот - танец языка.
Близкий родственник Содома,
город вздорной суеты...
Но опять я в нём, как дома,
и пути мои просты.
Я иду туда, где слива,
словно в первый раз, цветёт,
где меня чуть-чуть сварливо
брат-булыжник узнаёт.
Где легка моя рубашка,
и знакомы назубок
кружка пива, кофе чашка
и "Петра" железный бок...
2. Июнь 1990
Ялты яшмовые чаши.
Лето. Девяностый год,
вишен в пригоршню набравши,
в горы, к флигелю, бредёт.
На рассвете - тонко-звонок
детской гривки завиток.
Дочь, тинейджер-оленёнок, -
невесомый стебелёк.
Просыпайся, дочь Елена!
Блюдце из агата ждёт,
полное щедрот Вселенной,
ярко-рыночных щедрот.
Просыпайся под хореи
заоконных райских птиц!
Позабыл геном Гирея
жар кутузовских зениц.
А на алую клубнику,
на товар свой, свежину,
смотрит хан любовнолико,
как на юную жену...
Город - фанфарон, картёжник,
шулер взрывчатых кровей.
Но пока что в нём художник -
в русле, в доле шалых дней.
Но пока - лишь, 90-ый,
не вполне убойный год.
А потом корой-коростой
Ялты-яшмы эпизод
порастёт... И не въезжаю -
не смотрю на въезд-змею,
на конкретность урожая
по понятьям. Лишь стяжаю
незлопамятность свою...
Встань, Иван, пой Лазаря со мной...
Пасха 2012
Золотые яйца "Капитала"
греет брюхом зверь-тиранозавр.
Рвёт куски живые: "Мало, мало!",
Лувр - в кармане, в лыбе-фиксе - лавр...
Всей твоей земли мольба и слава,
сын Иванов, Лазарев поэт,
вбиты ненасытною оравой
в звук мычанья - "Не было и нет!"
Лучше бы и вправду не бывать нам,
чем теперь на медленном огне
истекать умом, тугим и задним,
в сраме жара, в переплаве-дне...
Разве что блеснёт на Пасху солнце,
над редкоземельною страной -
кликнет вдоль иконы, вдоль оконца:
"Встань, Иван, пой Лазаря со мной..."
Песни о Многобукве
1.
Многобукв, записной буквоед,
догрызает шекспировы сласти,
нулевой отодвинув обед –
пресный вассер развратницы-власти.
Франкенштейн и Бронштейн – шалуны
по сравненью с мотыгой Пол Пота.
А и он – на пуантах, сквозь сны –
тянет шею к астралу, где нота
пузырится, чумной-земляной,
оспяною раздута щекою…
«По последней, ещё по одной!» –
рать рыжеет и ржёт за рекою…
И какой-то мозгляк-ноутбук
с замусоленной клавиатурой
может знать ли, зачем Многобукв,
растопырив коренья, как бук,
нутряною взбухает натурой?
2.
Звуколюб, тугобедренный лук –
звонче Нестора и Че Гевары.
Если в двери подпольщик «тук-тук» –
промеж глаз пузырём «Солнцедара»!
Если ломится в окна ЧеКа –
да святится псалом пулемёта.
Целься в орден и в фиксу клыка,
птица счастья стального помёта!
Буквоед, всенародный герой –
стоит батьки Махна и Фиделя.
За Кремлёвской зубастой горой
мелет жёлтые кости Емеля.
И Лимон, книгочея кузен,
оттирает измятою соткой
тот же пепел с очков и с колен,
тот, что в русле любых перемен
оседает над родиной кроткой.
3.
Цукерторт говорит: «Хорошо!»,
но юлит Цубербиллер: «Возможно…»
И тому, кто в пике не ушёл,
снова – эдак и так – будет тошно.
«От винта!» – верещит Цукерторт,
«Херу хер!» – Цубербиллер картавит.
Ты – не то, чтоб горбат или горд,
но тебя лишь полоний исправит.
Так останься на празднике букв,
и твой родственник Серхи де Седа,
под навесом разлапистых клюкв
проведёт с тобой время обеда.
Между целью и мухой це-це
чертит резкий зигзаг герр Цузаммен.
И колышется птенчик в яйце,
с непреклонностью в жидком лице
в космонавты сдающий экзамен.
4.
Если тятя похож на тапира,
то подсвинок, наследник-сынок,
на топориках в теле клавира
фарширует-играет урок.
На топориках чешет, на ложках,
на сноровистых мокрых ножах.
Смыслы вьются в грибах да морошках,
отражаются в узких ужах.
Ворониха поит воронёнка,
на гадёныша молится гад.
И черна молчуна селезёнка,
а бюль-бюль – Многобукву не рад.
Сберегите тротил, славолюбы,
свежеватели маленьких драм!
А не то: голубики-голубы
круглый лоб – поделом, пополам.
5.
Чтобы попросту не рерихнуться,
повыйогивался – и хорош!
Чай зелёный из белого блюдца
ты ведь тоже не втёмную пьёшь.
Вне вибрации тонкого слоя,
вне слоений и свёрток пространств
над Холодной, тюремной, горою
леденеет воробышек-станс.
Замерзая, велит Стародруку –
петь моложе, теплей и добрей,
помня время, где к дикому луку
колосками тянулся пырей.
Где хотелось дышать, целоваться,
самой первой касаться руки,
где ещё мотыльковых вакаций
не порвали вороньи крюки.
Стал Атлантидой город ржавый...
Флюктуация
Был сумасшедший день весенний
в конце глухого ноября -
живое диво воскресенья,
святая блажь календаря.
Стал Атлантидой город ржавый -
во все концы, до дна видна,
как наводнение, дрожала
весна, теплынь, голубизна.
И словно звездолёт "Аполло",
над дрожью обнажённых крон
витала ересь и крамола
о многоликости времён.
Когда же сумерки слетели
и рано потемнела высь,
весь этот день мы так жалели,
как будто уходила жизнь.
Но длили магию над крышей
ресницы грешницы-звезды -
и взвыли полночью бесстыжей,
в замызганной дворовой нише,
апрелем пьяные коты...
Перед дорогой
Стоял июль, и в полнолунье
был странно светлым поздний час,
как некий зов и ток раздумья
о том, что ждёт в дороге нас.
Над белой крепостью вокзала
взошла высокая звезда -
со мной на площади встречала
и провожала поезда.
Теряя в небе Млечный пояс,
она всё пела мне о том,
что через час придёт наш поезд
с кометным огненным хвостом...
Я знал, что где-то с нами рядом
уже промчался тот состав,
но под её влюблённым взглядом
молчал и был молчаньем прав.
Навстречу редким полупьяным
я трижды площадь обогнул,
над башней, камнем-инкерманом,
ведя зрачком - её одну...
Когда ж по плану и по месту,
железный поезд мой ушёл,
неслась вослед ему невеста,
гналась за стрелки, переезды,
в слезах, светясь, как нагишом...
Раз в год о верном сердце весть...
Из "Тевтонских песен"
* * *
В платанах Шверинского замка
дробится апрельская трель.
О, дрозд, вдохновитель мой, danke,
пернатый агат, минестрель!
Озёрные серые воды
прильнули к узорам торцов,
и грумы под пышные своды
крутых увели жеребцов.
Хрустит под подошвою гравий,
лекала дорожек чисты.
Никто уклоняться не в праве
от строгости и простоты.
Никто отрекаться не волен
от каменной славы дворца
от сталеплавилен и штолен
и от орденов мертвеца.
Курфюрстовой вольности высверк
за стенами замка уснёт,
зане несгибаемый Бисмарк
в Берлине историю гнёт.
Традиция давящей воли,
железо тевтонских забрал...
Но пахнет апрель лакфиолью,
и плавен озёрный овал.
Но над белокорым платаном,
над лепкою рыцарских звёзд,
умытый шверинским туманом,
о Гретхен, об умнике странном
поёт мефистофельский дрозд...
Апрель в Брауншвайге
Весенний, белый и лиловый, дым,
цветенья дым, ласкает млеком веки.
Здесь благостно. И потому чужим
ты будешь здесь - и ныне, и вовеки.
Здесь тихо. И апрель у древних стен
цветёт ещё нежней, ещё моложе.
И воспалённой жаждой перемен
не режет глаз он и не ранит кожи.
Здесь в воздухе сполна растворены
приметы благодатности усилий.
И патиной - лазурью седины -
мерцает медь церковных крыш и шпилей.
Старинный город - охраняем львом
из бронзы золотисто-кудреватой.
Внимай ему. Но всё, что о своём
припомнишь, - будет слов напрасной тратой...
* * *
Ф.
Холодная весна идёт,
и продают на Пасху вербу,
понеже обновляет веру
евангелический народ.
Забудем ли, саксонец мой,
как были юны мы когда-то,
когда звенели брат на брата
гранёной склянкой гулевой?
Увы, то выпито давно,
но мы единства не избыли,
хоть и ушло из нашей были
легкотекущее вино.
Форзиция в цвету нежна,
в апрельском дрезденском тумане.
Как правильно, - без упованья -
свой трезвый возраст пить до дна!
Твой, трижды интегральный, круг
и мой чертёж - не очень схожи.
Но разность нашу не итожу, -
она обманчива, мой друг...
Желты форзиции кусты -
свежи, золотопенны ветки!
Саксонского упорства предки
глядят с дворцовой высоты.
И в угловатости забрал,
в суровых рыцарях из камня
порука твёрдая дана мне
в том, что ещё не кончен бал,
что в сумрачном апреле есть
пасхальных благовестов звуки
и, стоящая всей науки,
раз в год о верном сердце весть...
Радужный кипеж кирпичной стены...
Ожидание
Смутны все тысячи дней моих, Господи.
Те же, что будут, - туманны вдвойне.
С клюшкой бродяжка плетётся по осыпи,
по бесприютной промозглой весне.
Март на исходе, но нету ни капельки
уличной радости, плеска тепла.
Острых минут кочевряжатся сабельки,
цокают цацки - молекулы зла...
Да не оставь меня, Отче, без отчества -
больше никто ведь не скажет "Живи!"
Тополь чернеет - каркас одиночества,
дом погорелый вчерашней любви.
Ты и возьмёшь меня, - рано ли, поздно ли,
худо ли, бедно, - в слои Элои,
в те, где словами, простыми и грозными,
свяжешь цитаты - Твои и мои...
Но отчего ж так не терпится - сызнова
здешней, всегрешной, дождаться весны?
И средь зелёного взрыва и вызова
нежить-ласкать, словно Китеж, неистово
радужный кипеж кирпичной стены!
Чижи, щеглы и кенари-кенарки...
* * *
Стылым ветром подуло -
в зимнем небе дыра.
Не со зла обманула
в ожиданье игра.
Поезд полз мимо станций,
где жалели огня.
О, щеглы мои, стансы!
Звонко ль вам без меня?
Замолчу - не поверю
в нашу певчую чушь...
Но почую за дверью
шорох снега и душ.
Или в форточку птица
грудкой тукнет на миг. -
И выходит, что длится
заблуждений дневник.
Там на первой странице
лета не превозмочь.
А потом - чечевица,
приполярная ночь.
У заснеженной дамбы
поезд в темень зарыт.
О, чижи мои, ямбы!
Снится - солнце горит.
Снится луч, в воскресенье
поутру у лица...
И Вертинского пенье
за стеной у отца.
А за окнами карки -
черноротый спецназ.
Но щеглы, но канарки -
возле губ, возле глаз.
И сквозь прутья щепоткой
сыплю им коноплю...
День прописан нечётко -
но так спешно, так ходко
всё, что будет, люблю!
Побег
Гуля беленький с чёрною крапиной,
из мальчишества голубок!
Травит сердце тягучей царапиной
недостроя прогул-урок.
Чья ты почта? Из снежной пары ли,
что под ёлку отец принёс?
Снеговей откупили барели.
Время, трейлер и бензовоз,
то ли жжёной чадит резиною,
то ль коробкой гремит передач.
Крутит люд развлекуху зимнюю,
гонит сапиенс триллер вскачь.
И в кино том - ни ветра свежего
над зимой, псалтырь-белизной,
ни полшороха тёплого лешего
под студёной звездой стальной...
Только гуля мой глазом-клюковкой
через вьюжный декабрь глядит,
где по рынку с берданкой-пукалкой
бродит сторож в ночи, Вечный Жид.
А как выпорхнут в форточку пленные,
так в метельную тьму-маету
всё кричу им вдогон сокровенное,
всё болю отворённой веною,
словно сам - на ветру, на лету!
В том и плаванья суть...
* * *
И не просто стареть, а и сетовать тоже не стану.
Благодарствую, Отче, за каждую радость и боль.
А душа упорхнёт на прогретую солнцем поляну,
словно лось забредёт к леснику на желанную соль.
Вот горячий язык снова тянется к синему зелью -
с кристаллической глыбы слизать исцеляющий сок,
и печальница-иволга кличет небесной свирелью,
чтобы всё позабытое сызнова вспомнить ты мог.
О, как пахла сосна в первородной теплыни июля!
Как двоились драконами ящерки в травах-чебрах!
И кузнечик, полынный скрипач, сухорукий игруля,
всё пилил свою песню о юго-восточных ветрах.
Дети были птенцами, и были отцы молодыми.
Ну, а юные жёны светились вовсю красотой...
Но сегодня в осеннем дыму, но в густеющем дыме,
не удержишь реки, ни за что не упросишь:"Постой!"
В том и плаванья суть, что, войдя в эти странные воды,
и не двинуться вспять, и не выгрести ломким веслом.
Только иволги свист, подвенечная нота природы,
на минуту поманит - согреться в былом-золотом...
Верно, сгинуть трудней, если всё ещё теплится лето
в милосердной дали, под шатром медовухи-ветлы!
Зимовать, куковать... - Дотерпеть бы до нового света,
до пучка краснотала, чьи почки пушисто-белы...
Из "Северных напевов"
1. Лето на севере
Клевер, белый и розовый, в здешней прохладе цветёт.
На закате подобен стаккато стрижиный полёт.
В сыромятно-пахучем, протяжном, как веды, краю
я тягучую мятную воду из пригоршни пью.
Сивый лунь, серый север смирён белокурой судьбой –
неродючею почвой, колёс и колосьев борьбой,
каменистою осыпью с крошкою-мелом костей,
приближением конского пота варягов-гостей…
Но коль ягодой тощей постится медведицы плоть,
всё равно с голодухи приснится ей страсти ломоть,
и тогда её тёмные губы - держи, не держи -
заспешат, задрожат, словно перепел-птица во ржи,
и рванётся из бурой гортани, - лови, не лови, -
перехлёст через грани, признанье в гремучей любви…
Так и я твою страстную воду живучую пью,
принимая в ладони ключа ледяную струю,
о, угрюмый валун, в чей гранит корневищами врос
Ломоносов, буян-топотун, и цветок-ломонос.
2. Поморье
Выстроить жизнь, словно лодку сработать,
сладить ладью золотого сеченья!
Кто говорит, что отвагой и потом
не постигается откровенье?
Вытесать вёсла из тверди дубовой,
слышать волны содроганье ладонью,
чуять, как кровь твоя снова и снова
силу толчками к предсердию гонит.
Выковать якорь, тяжёлый и грубый
коготь железный - лохматой пенькою,
как пуповиной поморские судьбы
связаны с отчей холодной землёю.
В этом краю уплывающих лодок,
в мире, что камнем и льдом покорёжен,
кормчий - не тот, кто удачлив и ловок,
тот - кто до смертной пучины надёжен.
Тёмным ли тучам, насытившись, каркать? -
Души достались пучине небесной...
Сядут на полузатопленный карбас
белые птицы - поморские песни...
Брат! Нам наследство отцово осталось -
парус холщовый да якорь железный.
Выдюжить жизнь!
Словно вывести парус
из ледяной непрощающей бездны!
3 Лесничество
Из ледовитых полнолуний,
из зимних вырвавшись тенёт,
средь юной зелени июня
тропа песчаная блеснёт.
Вильнёт и побежит на север,
где ночи бледные нежны,
где леший, чудской хмари деверь,
тачает лодку из сосны.
Где водит кряква за собою
семёрку дымчатых комков
вдоль неизвестных громобою
озёрных чутких берегов.
Где зреют вековухи-рыбы,
на илистом качаясь дне,
и валунов крутые глыбы
молчат о мамонтовом дне...
Лесник пахучих стружек горстку
смахнёт корявою рукой...
И вплоть до Пскова, до Изборска -
чащобный лапчатый покой...
Смеркается, и пуля-дурь в висок...
Допотопная песня
Левкоев дух. Мышей летучих
изломанный бесшумный лёт.
За лесом Ной сплетает плот
под синим взором звёзд колючих.
И я сплетаю ветки роз,
шиповниковых диких веток, -
к излуке леса напоследок
вязанки песен я принёс.
Мой плот - венок лесных цветов
от поднебесного потопа
не защитит. Погибнем оба -
Всевышний зорок и суров.
Жаль мига жизни, жаль, не скрою...
Но Слово - вечность и оплот.
Кто выбран петь, подобен Ною,
который избран строить плот.
* * *
Смеркается, и пуля-дурь в висок
клюёт того, кто о невнятном пишет.
А в сонных ямах в материнский бок
зверёныши лоснящиеся дышат.
Остался шерсти клок – шагрень зверья,
не травленного химией-синюхой,
не сгубленного грохотом ружья
в угоду горлопани тугоухой.
Остался лишь десяток храбрецов,
способных вдоль тотального суженья
догнать –
на чёрном жребии отцов –
эм-це-квадрат бессмертного движенья.
Куриной лапой, огненной игрой
в кипенье зелья цитрус сердца выжат.
Закат багров, пока на нём герой
кривым пером и львиной кровью – пишет.
* * *
Прогневил я, видно, Господа.
Да и как не прогневить?
Ноги сбив о землю досыта,
шёл я вброд и рвался плыть.
Не смирялся всё, упорствуя.
А вольно бы — сизым стать,
зоб набить пшеничной горсткою,
прогудеть про благодать.
А не то — прильнуть сучарою
к голенищу палача,
жить вовсю игрою старою -
рушить головы с плеча...
Да с башкою волкодавьею
и с метлою у седла
проскакать Святою — славь её,
чтоб себя пережила!
Только вслед дождю небесному,-
глубь любил я, а не прыть,
мнил я миру полутрезвому
«да» и «нет» не говорить.
Вот и взят по праву ржавою,
тёмно-бурою землёй,
пятернёй её шершавою
с фиолетовой змеёй...
Прогневил — секи по проседи,
отдери от кожи стих!
Но не мсти — не тронь, о Господи,
малых порослей моих! -
Сбереги мне чистолистное
теплокровное дитя,
ветродуями и свистами
в буерак меня сметя.
Плоть противится закланию.
Но в суде Твоем смолчу,
протяну в чернилах длани я
дознавателю-врачу.
И в утробе, и во гробе я
не мину твоих теснин.
Вот он я — Твоё подобие,
Господи! Земной Твой сын...
Может, ангел, а может, знахарь...
По Черноземью
1. Ангел, знахарь
Чёрно-белые псы и сороки
нам дорогу пересекали.
Под февральской корою соки
в полусне лепетали едва ли.
В зимнем ветре гуляла брага,
за Ельцом опять запуржило.
И стремглав неслась колымага -
лошадино-железная жила.
Хорошо б долететь до места,
не сломали бы крыльев сроки -
костяная не спит невеста,
всё слоняется вдоль дороги.
Проскочить бы вдоль поворота
на промёрзлой звенящей шине...
Греет гулкую кровь забота -
колесить с утра по равнине,
по овражной, непокаянной...
Ночью вьюжит, с утра подтает.
На снегу спиной - то ли пьяный,
то ли мёртвый - мужик отдыхает.
И слетает к нему осторожно -
может, ангел, а может, знахарь -
с чёрно-белой сосны придорожной
ярко-праздничный голубь-вяхирь.
2. Апрель в пути
Конь и витязей доспехи
красят Усмани вокзал -
молодецкие утехи,
чёрно-синей стали бал.
Усмань, Графское, Воронеж -
к югу, к полудню домой
тороплюсь, и не догонишь
воронёный цокот мой.
Не обнимешь беглым взором
чернозёмы и холмы,
С Соловьём, раскосым вором,
не простишься до зимы.
Ибо озими апреля -
снова в ярких зеленях
там, где езживал Емеля
лишь намедни на санях...
Это здесь пленённый Осип
со щеглом делил хорей,
здесь катал колёса-оси
первозваннейший Андрей.
О, платоновские степи,
к морю склонные ветра! -
Мачты, якорные цепи,
парус юноши Петра...
Яро по стремнине Дона
рвётся к югу ледоход,
и по-бабьи потаённо
дышит пахоты живот.
И смиренно тих в ложбине
бородатый старец-снег,
и звенит во влажной сини
предлюбовный птичий смех.
3.
Зря ведь крови с грязью намесили
в этих плавно-песенных местах!
В чернозёмной вольнице России
певчий Эрос гнёзда вьёт в кустах.
Кроха Эрос, Цахеса рыжее, -
возжигатель бархатцев и чад.
Лишь мяукнет Мавка - и уже я
от щедрот черёмухи зачат.
Кормлен царским и холопьим телом,
равен счастью медоносный луг.
И сияет всепрощеньем белым
вознесённый в голубое дух...
На Воронеж или же на Липецк
повернут ли косогоры лбы -
всюду прорастающий счастливец
Сеятелем сеян на гробы,
чтоб над сломом зрения и слуха
поднялась сиреневая вязь,
чтоб дитю сулила повитуха
огнестойкость, водонебоязнь.
Здесь, где сшиты кровеносной нитью
рукописи срубленной ольхи,
здесь, вослед любовному соитью,-
крепче чада, солоней стихи...
Не сокол, тёплый зверь повадки человечьей...
Уроки пенья
1. Альт
Небесный альт, дворовый чад резины...
Давно пора забыть, как Робертино
завидовал я долгих тыщу лет -
с тринадцати до паспорта врученья.
Был пресен вкус морковного печенья
и в линзе с глицерином мутен свет...
Бельканто и теперь в печёнке где-то
вибрирует. А прежде бела света
не видел я, когда уже сверх сил,
с душой саднящей, с кирзовой гортанью,
глотая угловатое молчанье,
опять пластинку певчую крутил.
О, солнечные трели Робертино!
У той любви был едкий зев ангины.
У ревности, меж тем, не чёрный цвет -
она, скорее, в ромбах арлекина,
в расцветке шахмат следственно-причинной,
за мной ступала верно след во след.
Бредя асфальтом, чуял я отчасти,
что в той кручине был задаток счастья, -
и фокус этот сладил царь Горох, -
и что душе для истинного пенья
куда нужней, чем голое везенье,
солёно-горький повивальный вздох...
А ветер дул то холодно, то жарко.
Водил я в парк чепрачную овчарку,
и незаметно из рутины дней
в соседнем классе - небесам в острастку -
блеснула поступь маленькой гимнастки,
и что-то чисто серебрилось в ней.
Была ли снова песня безголосой?
На все по геометрии вопросы
циркачке я серьёзно отвечал.
И зыбко, словно дискант издалёка,
светился легконогий абрис сбоку,
у странного начала всех начал...
Небесный альт, с гудрона чад резины...
Любовь и ревность - юные кузины.
Не рассудить, кто краше, кто умней!
Жаль одного - заметить, как стареют,
добреют-расползаются, дурнеют,
дабы исчезнуть за чертою дней...
2. Серафима Сокол
Запев почти хорош, но меря дозу соли,
чернила изведёшь, бумагу измусоля.
Зачем опять со мной неволящие звуки?
Как вечер выпускной, кладут на грудь мне руки,
как девушки в цвету, как школьницы во флёре,
лиловую мечту в стеклянном разговоре
несут ко рту, к глазам, чтоб мог я убедиться:
на свет - вино "Агдам", а чуть хлебнёшь - водица...
А с края озерца - учительница пенья:
ни платья, ни лица, ни должного терпенья.
А только имя есть. Как будто - Серафима
и даже Сокол - весть, невнятная, вестимо...
И тюкнет в камертон, чтоб нечто зазвенело,
чтоб резонанса стон в себя впустило тело.
И вот, неплох запев, но в ноте эпилога -
то жидковата крев, то плоти бардзо много...
Возьму - порву по шву и, пульсом зачастивший,
отпряну на траву, на камни от двустиший.
И может, навсегда, - без паузы гордыни, -
куплю билет сюда, где мало благостыни,
но где вхожу я в дверь, разносчик речи певчей,
не сокол, тёплый зверь повадки человечьей...
Длится таинство Божьего плана ...
* * *
«Мы, Тарабичи, все младолики!» -
говорит мне босняк Хайруддин.
Здесь, в Дубровнике, сущностей стыки
преломил, словно хлеб, Господин.
Дино с гостем – речист и радушен,
и болеет за сплитский «Хайдук»…
В Старом городе сыщем свой ужин,
шкипер Крюк, друг бродяжьих наук!
Нам, вернувшимся снова в Дубровник,
в тот же, Дино Тарабича, дом,
«Добро вече» - лепечет шиповник
невесомым своим лепестком,
розовея на круче Ядрана,
на отвесной бойцовой стене…
Длится таинство Божьего плана –
наяву и как будто во сне.
Посему – над обрывом соцветье,
жменю-дюжину пижмы сорву,
чтоб весь год златоглазые дети
мне аукались вновь наяву -
ярким маем над синью Ядрана,
Адриатики вольной волной…
Братец Крюк, завтра снова нам рано
стартовать. Так давай – по одной,
по одной лишь, по густо-багряной,
по заслуженной склянке вина!
Веет места и времени прана,
дышат в душу славян имена.
И хоругви хорвата упруги!
Здесь, где косно-опасен осман,
правят требу ядранские струги,
и плывут младоликие други –
шкипер трезв, да и писарь – не пьян!
С огнём рукой переплелась...
Из "Времён N"
1.
Где улыбалась ты? Где мы встречались
в то загорелое звонкое лето?
Был зоопарк, как усадьбы участок
при небоскребе университета.
Там, на задворках ученого зданья,
негородские овражисты чащи,
клики зверей, летунов щебетанья –
млекопитающи, живородящи!
В сонном пруду – лебедей изобилье,
тусклое золото мелочи рыбьей.
Шатким мостком мы овраг проходили,
заполоненный зеленою зыбью…
Ласковоглазое юное лето
птицей мелькнуло, не в силах вернуться.
Только в чащобах смородины где-то
те же пичуги, что раньше, смеются…
Если случится – вернусь я сквозь будни
к тропам, где ты улыбалась когда-то, -
пусто… У синей кондитерской будки –
лишь школяры да в отгуле солдаты.
Вспомню – покажется тоньше и чище
монстр носорожий, свояченник зебры,
в серых, нечищенных век сапожищах,
в лобных натеках воинственной лепры…
2. Городской портрет
Такая девочка росла!
Совсем на ангела похожа -
улыбкой нежной, млечной кожей,
льняною гривой до седла.
Стрекозкой радужной паслась
средь пыльной зелени трущобной
и над прилежностью никчёмной
с босотою смеялась всласть.
Так белым клевером цвела
на чадной улице Кацарской,
так мёдом веяла по-царски,
что грызли шайки удила.
И в восемнадцать так смела,
очами яркими стреляя,
витрины взором расплавляя -
кубы гранённого стекла!
Зачем же музой назвалась,
нездешние окликнув силы,
не взвесила, не рассудила -
с огнём рукой переплелась?
Зачем так быстро проплыла
над городом камней и стали
та радость, что звалась Натальей,
что всё во сне к себе звала?..
Первозданного узора раджастанская доска...
Шахматные этюды
1.
В.Ф.
Школьный шахматный учебник,- синий мятый переплёт, -
тридцать лет назад утерян, но, как песня, не умрёт!
Первозданного узора раджастанская доска
с ненасытной тягой спора, мозгового сквозняка.
Я Вам кланяюсь, Набоков, за глаголы и за то,
что сошлись мы ненароком не у входа в шапито,
а на чистой охре корта, на ристалище доски,
на котором гибнут гордо чёрно-белые полки.
Философия обманна, любомудрие верней,
если втиснешь в стан османа пару кряжистых коней,
если вдоль диагонали рассекающе сильны
дальнобойные канальи - мускулистые слоны.
Даже пешему из грязи в этой рубке есть стезя -
тесный, узкий путь оказий во ферзи, то бишь, в князья...
И шепну я на ночь "Лужин... Рвётся снежный Ваш гамбит,
ибо кроткий гений нужен, лишь поскольку он убит..."
Но с утра скажу "Алёхин!", потому что русский пыл
Касабланку не по пьянке, а по правде раскрутил.
Наш Топтыгин риском красен, и с полночи до утра
я опять играть согласен, ибо жизнь - до дна игра!
Нет, и россыпями лала не расплатится раджа,
коль уж нам под хвост попала любомудрия вожжа!
2.
Памяти С. Долганова,
Ю.Юхно, В.Дмитренко
Там, где площадь героя Руднева
вместе с площадью Фейербаха
не сулят мне огня попутного,
там черства школяра рубаха.
Сине-серая роба суконная,
золочённых тех пуговиц троица -
помнят пешее войско и конное,
что двойною шеренгой строится.
Коридорные подоконники
из рябого фальшивого мрамора,
гомоня, обступали школьники:
у двуцветной доски - два табора.
Зов-звонок на урок сложения
подсекал скаковые жилы,
но порывистых рук движения
в некий эндшпиль судьба сложила.
Быль на небыль хитро умножила,
на нули поделила лукаво...
Пусть бы вновь вы коньков расстреножили,
други - Витя, Юрасик и Слава!
Пусть бы к лавке на фотографии
возвратились с азартной игрою,
вы, кто Броуну не потрафили,
влёт подбитые, двое... Трое...
Пусть бы плана, уже неподспудного,
чёрно-белого замысла чудного
не асфальт на швыряли с размаха
смерчи пыльные с плаца Руднева,
ветры с площади Фейербаха...
А у ней над губою обломком торчит...
Из "Рыбацких песен"
1.
Окунается окунь в чернила заката-лимана,
окунается с радостным плеском, срываясь с крючка!
От турбазы доносится песнь про гульбу атамана,
песня тоже пьяна – хоть проверь, хоть поверь с кондачка.
Вот вернусь в халабуду – и сам отхлебну из бутылки,
ибо крови моей отсосало стакан комарье!
Засолю окуньков и развешу на леске, на жилке,
чтобы зря не пропало рыбацкое счастье мое.
Ну, и темень же здесь, на вечернем азовском заливе!
Называется «Лотос» турбаза. Атос и Портос
из растрепанной книжки глядят, и в едином порыве
комариная свора решает свой шкурный вопрос.
А с утра хорошо! По песку разогретого лета
с шестилетнею дочкой идем босиком на канал.
Караси-кругляши в золотые чешуи одеты.
Ну, тащи его, милая! Вот он в траве засверкал…
2. У костра
То ли былью бурчит, то ль былиною Пров -
про глубинные тинные страсти,
про орясину-щуку, что тащит бобров
крючковатыми иглами пасти.
Троекратно клянётся да крестится дед.
А уха над костром пузырится,
а из полночи тонкого месяца свет -
узкоглаз, как прищур очевидца...
В густо-чёрных ветвях на другом берегу
закричит полусонная птаха.
Но сказитель, запнувшись на миг на бегу,
лишь подсыплет дремучего страха...
Пахнет дымом, ночной загустевшей рекой,
влажной отмелью веет песчаной.
Побожится старик темнокорой рукой,
бородой ухмыльнётся гречаной.
И стращает опять, про злодейство ворчит,
аж прищучено ёкает ветка -
"А у ней над губою обломком торчит
крюк медяный - Петровского века..."
3. Лиман
Здесь влажному ветру склоняются плавно
дремучие плавни, дремотные плавни,
и чубом бунчужным, лиловей, чем ирис,
играет певучий казачий папирус.
Здесь тайные ямы азовских лиманов
живят низколобых сомов-уркаганов,
и стонут обжорливой свадьбой сазаньей
прогретые отмели знойной Кубани.
Азартная ловля, свирепая ловля -
младенческий век, тростниковая кровля,
истёртые вёсла, смолёная лодка,
курень камышовый, дымящийся кротко
на том берегу, где ракушечьи души
спрессованы в хрупкую жёлтую сушу...
Здесь - сладкие связки просоленной рыбы
и снасти рыбацкие, колом и дыбом,
здесь сам чешуёй обрастаешь за месяц
вдали от забытых петляющих лестниц.
Шуршало паучье премудрое племя,
что в клейком пространстве зациклилось время,
но над циферблатом лимана парили
прицельного коршуна чуткие крылья...
Црква над Ядраном бела...
Черногория
В красном вине Монтенегро, по-здешнему «чёрном»,
кровь иноходца почую – ноздрёю и глазом.
«Вранац»*, скакун вороной, в камертоне мажорном,
«црна» цокотит дотемна - черногорцем-Пегасом.
Пасти костистых ущелий, урочища Зеты
к паприке сердца ни турка не пустят, ни чёрта.
В скальные латы, с шиповкою башен, одета
Котора бухта-клинок, изумрудная хорда.
Црна и црвена лозы двуединая влага.
Чёрное слито с червонным, с черницей – царица.
Угольной масти орёл на малиннике флага
веером крыльев, затмением солнца ярится…
Но побережье, но белые пристани Будвы,
но светоносность пространства над морем-Ядраном!
Чёрные горы, багровые шрамы! Не будь вы
в пазухе Божьей – гулять бы и здесь ятаганам…
Црква над Ядраном бела, и в серёдке иконной
попик родное гудит по Псалтыри парчовой.
Даром, что братья щетинисты, - пеший ли, конный, -
словно разбойники Разина и Пугачёва…
Южная кромка славянства – за Ульцинем склоны.
Смыслы сгущаются, и откликается колер
то узнаваемо-памятно, то потаённо –
белая Будва, клинково-смарагдовый Котор…
( * «Вранац» - красное черногорское вино )
Из "Иберийских мотивов"
1. Перелёт
Из aeropuerto Барселоны
на воздух выйдя, в пальмовую синь,
почуял я, насколько благосклонна
ко мне глубинной осени теплынь.
Поскольку два часа назад Ганновер
всклокочен был и ветренно-дождлив,
и не сулил мне выигрышный номер
балтийский холод и небес надрыв...
Но два часа архангельских парений
над дьявольской скалистою страной,
клыков альпийских ледовитый гений,
алмазный мир - внизу, но не земной!
Как нереально из дюраля птица
плыла над смертоносной красотой!
Летучий крестик будет серебриться -
скрипичный ключ в строке 26-ой.
А, впрочем, нет - в 27-ой, конечно...
В тот день, двадцать седьмого ноября,
на землю конкистад и кожи нежной
ступил я, южный крен календаря
испанского охотно принимая
и чуя, что альпийский перелёт -
лишь первый знак, лишь метка призовая
к тому, что в эти дни произойдёт
со мной у кромки моря иберийской,
средь пёстрых куполов и жёлтых стен...
Призывными очами одалиски
в упор глядело время перемен.
Индиго взора синьориты Лопес
светилось, как над пропастью во ржи.
И некий, к "Романсеро" склонный, опус
уже витал в туманности души.
И отворялось всё полней дыханье
не в новую страну, а в новый мир,
что был готов принять мои признанья
и дать в ответ пароль "Гвадалквивир"...
Из aeropuerto Барселоны -
опять лететь. На взлёте всякий раз
я молчалив. Но за листвой лимона
античные Валенсии колонны
белели. И сказал я окрылённо:
"О Александр и Осип, - наше лоно!
Мы долетим. - Да видит третий глаз..."
2. Арабески
О, побережье царственных синьор –
Валенсия, Малага, Барселона!
И чуть на север, у Невады склона,
Гранады мавританский влажный взор –
вишнёво-фиолетовый костёр
гранатов, на руке коварно-смуглой,
и берберийский варварский рубин -
ток полноцветья, равного надежде!
На площади соборной полукруглой
За склянкой тинто я сижу один,
как век назад, на том же побережье –
в помятой путешествием одежде,
в утративших невинность башмаках…
И если некий скептик буркнет «Ах,
подумаешь!», мне нечего ответить –
не из смиренья, но по существу:
мне кажется, я для того живу,
чтоб средь вещей отчётливых приветить
то самое, чему одежды нет
под пару. Но вибрация примет,
но к разбеганию узора склонность
как бы скрепляют изнутри предмет
внимания, живят неутолённость
художника. На свой особый лад
и сатана вину флюидов рад,
но это разговор иной… Гранада!
Бессмертью арабесок сердце радо
настолько, что растёт гемоглобин
в анализе моей нездешней крови.
Когда бы не обилие седин,
я сдался бы влюблённости на слове
«Гранада». – Рокотание и рок,
в зелёном и малиновом пророк,
кузен Христу, племянник Иегове…
Как радостно, как жаль, что мой порог
засыпан снегом. Яблочный пирог
в мороз пеку я, «Будь!» пою на мове
и в чёрно-алом не умру алькове. –
Хотя и не спешу давать зарок…
3. Серхио де Седа -
Эстебану Эскрибано
Груз корабельный, паруса глагол,
треск переборок в корабельном трюме.
Но с борта ты, как с радуги, сошёл
на краснозём. И приплюсован к сумме.
Плюс - приревнован к треснувшей плите
де Седа, чьё наследство - торба дыма...
Но над гримасой лжи - всегда, везде, -
в юродивой, но высшей простоте
воздушный мост вздымает пилигрима.
Держу дорогу - и штурвала круг
колдобиной из рук ещё не выбит.
Держись и ты, амиго, тинто друг,
пока до дна, самим собой, не выпит...
Я помяну тебя, мой Эстебан!
И ты ведь за мою палому-душу,
дон Эскрибано, сивый пеликан,
при случае один-другой стакан
глотнёшь. И, без меня, сойдёшь на сушу.
4. Крёстный
Мы всё плывём, амиго АмерИго,
Атлантикою, волнами индиго,
по выгибу экватора скользя.
Скрипит штурвал, мерцает медный компас,
над мачтой багровеют Марс и Фобос.
Плывём, и путь наш - дерзкая стезя.
Не откажи в любезности, Веспуччи,
позволь из грозовой напиться тучи,
поскольку все бочонки корабля
пусты и источают затхлый воздух.
А сад-фантом Мадрида тонет в розах,
и вздыблен лев на флаге короля...
Что ж, Первому Пилоту всей Кастильи,
синьору флорентийцу, знать, по силе -
такие отчеканить письмена
о снах бразильских, табаках Тобаго,
что письма станут наважденьем мага,
и подлинных Колумбов имена
окажутся в забвенье. А Веспуччи
останется живым в среде живучей,
столь ловко отразясь в кривом стекле,
что сочинитель мифов, плут, холерик
пребудет крёстным двух больших Америк...
"Оле - поёт мадридский люд - оле!"
5. Приглашение в Толедо
Горячий кофе с жирной пенкой
на воздухе, средь майской стужи,
хорош. А та, левей, коленка,
ничья, округлая к тому же,
сама озябнув, греет, право,
случайное касанье взгляда...
Свежеет. Синих туч орава
над сквером, с бюстом у ограды,
напоминает вид Толедо
в изображении Эль Греко,
Толедо, где мой друг де Седа
вливает в кофе каплю млека...
Печалит отдалённость Сьерры,
но здесь, под боком,- в виде бюста
чугунного на кромке сквера, -
бодрит кудрявый бог искусства!
И он, певец честнейших правил,
пропев про бег Гвадалквивира,
совсем не даром мне оставил
две строчки о той части мира,
куда зовёт меня де Седа...
Даст Бог - зашью дыру в кармане,
оформлю визу и уеду
к ангорским козам, к донне Анне,
ко Псам Господним, в град Толедо!
Аве, длящийся смысл...
* * *
Аве, август! В пространстве огромного лета
настоялся закат на воздушном вине.
И, в футболку легчайшего хлопка одета,
ты спешишь, яркоглазая юность, ко мне.
Там, где мята возлюбленных губ не измята,
дышит пряная прана - вне прений сторон.
Мир тебе, золотая продлённость заката,
лёгко-перистый, яблоневый Авалон!
Мир тебе, плотоядного времени птица -
крючковатостью профиля чайка-мартын!
Легче дальше лететь, чем назад возвратиться,
ибо позднего солнца проигран алтын,
закатившись за чёрную крымскую гору...
А душа Твоя, Господи, столь велика,
что хватает двоим - пары рюмок кагора
и для счастья молчанья, и для уговора:
аве, август, созревший, как торба Пандоры,
аве, длящийся смысл - облака, облака...
Где парят корольки-однолетки...
* * *
И меня, хоть и трудно, но любят:
"Сыщет брод и вернётся, бродяга..."
И простят, даже если осудят,
коли брага сморит у оврага.
Никому не даю я совета.
Ломан путь мой и небезупречен.
Лишь печалюсь, что коротко лето,
что и сам я ни словом не вечен...
Но припомнил июльский Всевышний
о моей именинной награде -
чёрно-спелые жаловал вишни
и лиловый вьюнок на ограде.
Дал мне яблонь шатровые ветки
у обочины знойной дороги,
где парят корольки-однолетки,
беспризорные детские боги.
Да ещё бы послал он прощенье
им, кем малый задаток мой понят!
Я ведь чувствую, ждут возвращенья
и за мною лишь лучшее помнят...
Тростник
Золотистый мой, певчий тростник,
полудетская гибкая стать!
Век мой строг - а я всё не отвык
твоим зыбким причудам внимать.
Кровной тяги избыть не сумел. -
С молоком стригуна на губе
от насущных, от праведных дел
ухожу, мой неверный, к тебе...
Норов твой, ежечасно иной,
тонкокорою флейтой зовёт.
И тревожно смятён надо мной
малокровного солнца излёт.
Чую ветром надломленный крик.
Знаю - болью повенчан с тобой,
светлоокий мой, хрупкий тростник,
на обводе зрачка - голубой...
Знаю всё, но у ветра прошу,
у гневливца прошу невпопад:
"Не умом, но лишь сердцем грешу -
не вини, не казни моих чад...
Эти стебли, чей облик так прост,
угловатость речных моих птиц.
Эту ревность-любовь, токсикоз
бледно-нежных папирусных лиц..."
( песни на эти и другие стихи автора - на сайте seshel.ucoz.ru )
Жестокая метафора возмездья...
* * *
Жестокая метафора возмездья:
правитель, но не лев, - скорей, грифон,
вцепившийся когтистой лапой в трон,
архангел-гриф на прибыльном насесте,
ещё недавно – символ местных вер,
сиятельный, на сто карат, бербер,
укутанный до пяток златотканью
раис-алмаз, властитель нефтебаз, –
сегодня брошен навзничь в пыль и грязь,
и залит чёрной кровью надруганья…
Ещё вчера надменный шахиншах,
теперь он, с гиблым ужасом в глазах, -
комком белка, моллюском-василиском, -
размазан, в знак возмездья, по песку
и тут же - по мобильникам ливийским...
За изыск власти - веско платят взыском,
обвалом в преисподнюю-тоску…
Однако ж, и над нами - та же свора,
достойная такого же разбора:
и днём и ночью грабят, в три руки,
и распинают Бога неустанно...
Им – не указ, что напоказ тирана
рвёт челядь в ходе шоу на куски,
что те же клочья, так же по-простецки,
уже мелькали – здешний Брюховецкий,
а чуть пораньше Цезарь и Нерон,
в ад сброшены, - по линии ротаций, -
с нюансами правленья разбираться…
«Харам!..»*- тоскливый, обречённый стон
мятётся над казнилищем пустыни…
Но сей «харам» летит ко всем херам,
ко всем минувшим и грядущим дням,
где проступают капища сквозь храм,
где месть сладка, но нету благостыни…
-----
* харам - запрет (арабск.)
Аз ведал будни....
* * *
Аз ведал будни. Но, похоже, звуки
рождались не из вязкости труда
и даже не из ловкости науки –
из вечного тревожного: «Когда?..»
Из догмы смерти, - вопреки всем связкам
кривых времён, прямых координат, -
Дух прорастал. И звук был рад подсказкам,
вплетаясь в бесконечный смыслоряд…
Когда б я к Иисусу Назарею
апостольские души мог созвать,
в которых дорогая мне идея
пульсирует, живя их суть и стать,
я Джотто бы позвал. И Питер Бройгель
на тайную бы вечерю пришёл,
назвавшись так, как отчей птицей-фогель
во Фландрии он вписан в протокол.
И Моцарт вместе с пахарем Винцентом
внесли б одну охапку на двоих
подсолнухов. И Осип, - сто процентов! –
пропел бы вслух щегла и неба стих.
И бездной глаз, беззвучием иконным
о жизни бы мне молча всё сказал
до донышка родной Андрей Платонов -
о коде первородном и исконном:
«Аз ведал ад… Но Бог – не умирал!»
Ни звука, ни молчанья не избыть...
* * *
Мучительно заклятье - рваться вглубь.
И кровь, густея и не грея лиру,
лепечет обречённо "приголубь"
скупому и неласковому миру.
Так вот она, последняя тщета -
о милости упрашивать кого-то!
Она и есть единственная льгота
тому, кто приоткрыть посмел уста.
"Изыди,- говорю себе, - изыдь!"
Но сомкнут круг опять в своём начале.
И не избыть ни жажды, ни печали,
ни звука, ни молчанья не избыть...
* * *
Не угасай, моя певчая странность!
Муторно было бы жить без тебя.
В жилах Бату – властолюбия данность,
мне же – мой свет, полыханье репья.
Мне – моя ересь, из полночи зовы,
шорохи веток на все голоса,
сёстры монашьи – еловые совы,
с чёрно-зелёною кровью леса…
Тени деревьев, бездетные звери
связаны тёмной порукой конца,
а человеку даётся, по вере,
вещая потусторонность лица.
Ты ведь и стеблю примятому рада,
певчая мудрость, распевная дурь…
Не угасай же, не минет награда –
глины ломоть да в полмира лазурь…
С января на февраль на часах перепрыгнули стрелки...
* * *
С января на февраль на часах перепрыгнули стрелки -
на облезлых обоях в цветочек, на драной стене.
Их "тик-такам" вослед снова вспомню о Стрелке и Белке,
о дворнягах, сгоревших дотла на холодной войне.
И почую стрелков начеку, чикатил - из ежовских -
без полслова раскаянья, без искупленья грехов...
Здесь, в заразных тенётах, в сетях заскорузлых и жёстких
всё немыслимей ждать обретенья прощённых стихов.
С января на февраль календарь передёрнет картинку.
За окном - минус двадцать, и сдох жигулёнка движок.
Подгребает планета Нибиру, всем нам, - под сурдинку, -
подбивая счета за всеобщий друг другу должок...
Поднебесный ли рухнет огонь к Африканскому Рогу?
За чеку ли потянет норвежец, шизоид-бомбист?
Но пока что во тьме за стеклом дышит снег, слава Богу, -
как сестра милосердия, бел и целебно-душист...
Имена
Дед явился из Тамбова,
а прабабка из Орла,
чтоб игра пути земного
нечто воспроизвела.
Яковлевы, Кулешовы -
позабытая братва.
В халабуде камышовой -
песенная голова.
Снег - Зазимки,
дым - Гаркуши.
Искры вьюги и огня.
Еле веюшие души,
преддыхание меня.
Мало мне от них осталось -
лишь вдогонку имена.
Русской памяти усталость
и беспамятства вина.
Непомерное пространство,
оковавши губы льдом,
немоту и окаянство
засылает в каждый дом.
Шлёт в углы паучий шорох
да мышиную возню...
Но кого же в разговорах
клочковатых обвиню?
Ведь цветки имён живые
дышат, собраны в пучок,
словно квитки полевые
сжаты в детский кулачок.
И опять вослед, вдогонку
веют слабые слова.
И не рвётся там, где тонко
вьюгой выткана пелёнка,
где у шустрого дитёнка -
первородные права!
В сердце тёплом серебряный гвоздь...
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я -
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся статысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, - волею высшею, -
что ни март – колокольни стройней!
Топография
Безвыходность сочится в душу
из-под ребра, из-под земли.
Сосут щенками суку-сушу
причалившие корабли.
И видно с птичьего полёта,
как нашу плоскую юдоль
знобит шагреневая квота –
под почву въевшаяся соль.
А солнце бьёт в глаза пилоту,
блестит дюралевым крылом
и нас не видит ни на йоту –
под острым, вдоль нуля, углом….
Корсика
Теперь, когда порос травой Аустерлиц,
когда устал бряцать железом Ватерлоо,
на Корсику вернусь, дабы со смуглых лиц
испить живой воды. Пшеницу, не полову,
с ладони островной кивком-другим склюёт
попутчица кормы, кармическая птица.
А тот, кто лучше всех трубил войскам «Вперёд!»,
средь этих острых скал опять готов родиться.
Как празднично – с утра промыть моряцкий взор
ндиговой водой пролива Бонифачо!
А тот, с кем я веду походный розговор,
похож загаром лба на львёнка из Аяччо.
Гляди же, мой герой: на вздыбленной скале
твердеет цитадель, отвага корсиканца!
Ни кряжистый корсар, ни гость-фантом в юле
не стронут с места трон песчаника и сланца.
На Корсу – курс и галс! На Корсику вернусь,
что душу бередит контекстом космогоний.
Как минусов размол дарует плюсу вкус –
о том речёт волна в живородящем лоне.
Индиго и смарагд, родильная вода,
достойна белых круч и быстроходных суден.
У Корсы навсегда раскину невода –
там ловчий ловких рыб,
как певчий неподсуден!
Ода майскому хмелю
Цветут акация, шиповник,
лиловый ирис шелковист.
День-подлинник,
мой май, мой кровник,
согрел и вымыл каждый лист
на каждой ветке, осенившей
брусчатку, плитку и гудрон.
Сизарь в стенной стенает нише,
озон со всех шести сторон
слетает к столику пиита,
где, в тонкое стекло налита,
пивная влага ждёт глотка,
как ждут шмеля песты цветка.
Солнцепоклонника-стакана,
винюсь, я прежде не ценил.
Скорее поздно, нежли рано,
не без участья высших сил,
я стал приверженцем напитка,
в чьей формуле ячмень и хмель
играют. И от сил избытка
в гербах и гимнах ста земель -
присутствуют. Едва лишь солнце
циновку вызлатит японца,
глядишь, а уж Цуцуми-сан
пивной бокал поднёс к усам,
весьма тюленьим. Право слово,
ещё в двадцать одной стране
янтарного питья хмельного
отведать доводилось мне.
Под всяким флагом - страсть народа
к отстою пены видел я.
Засим вакхическою одой
гремлю я, как грозой Илья, -
над родиной, над маем спелым,
над променадом, обалделым
от дев, раздетых почём зря...
Над чебуречною "Заря",
над Ливерпулем постсоветским, -
без заповеди, без креста, -
бандитским, университетским,
зачатым хером неспроста,
то бишь крестообразной буквой,
яко Харбин и як в Херсон,
в словарь введённым...
Хриплый друг мой
и недруг! Май твой - сущий сон.
Ведь в нём напиток обновленья
вослед прогорклой зимней фене
смывает с губ кислот следы
и подвигает на труды
промывшего глаза пиита,
чей ястребино-светлый зрак
почётче оптики "Зенита"
наводит фокус на пустяк
изюмины под белой тканью,
на виноградный холм груди...
Май пьян вдвойне -
вослед сознанью,
что завязь лета впереди!
И впрямь в ливнепаденьях мая
есть лёгкость пива и "Токая",
а хмелем ожиданья - с ним
лишь пушкинский июнь сравним!
И вот, не попросту на пиво, -
на празднество! - я вновь зову
гостей особого разлива,
с кем пью верней, чем наяву:
Арсения и Александра,
Сергея, троицу Никол,
Марину, Осипа, Кассандру...
И "Таллер" ли, "Смирнов", "Массандру"
запальчиво мечу на стол.
В "Оазисе", в кафе "Мелисса",
в любой из мне привычных дыр,
вздымая склянку, чту Бориса...
Нам ли не знать, что этот мир
и выкроен, и смётан криво?
Но всадник-май, но девы-диво,
но радужный сполох души
на сходке в слепнущей глуши!..
До Ростова долечу, до Таганрога...
* * *
В.Е.
Не доехал я чуток до Таганрога -
завихрилась турбулентностью дорога,
и ни садом Чехонте, ни палисадом
не гульнул я, хоть уже буквально рядом
солнце ямба над Азовом наливалось...
Лишь на йоту опоздав, всего на малость,
не венчал я Танаис и Меотиду,
хоть и кореш мой, Ершов, ершистый с виду,
в шалаше своём шуршал, в "ершалаиме",
обещающими письмами моими.
Ей, люблю я и Бажова, и Ершова
пуще карлика-безбожника Ежова,
и кладу не ежевику в изголовье -
мяту виршей о Ершовском Приазовье.
Там, на празднике воздушных юных книжек,
много свежих, от Владимира, коврижек.
Там над глиной он колдует, прикуп знает
и за слово, как за дело, отвечает.
Там он, сивый - загребной тяжёлой лодки,
а друзья его все сгинули от водки -
заозёрно-забубённые поэты,
без монет, без тормозов, без амулета,
лишь глазами да стихами дорогие, -
и Калашников, и Жуков, и другие...
До Ростова долечу, до Таганрога.
Мы ведь - голуби за пазухой у Бога.
Долечу, и в шалаше, в "ершалаиме",
имена окликнем - времени во имя...
Сопротивленье скудению и энтропии...
Крещение
Сопротивленье скудению и энтропии,
тяга к палитре цветущих вразнос колеров -
ранним рожденьем даны. Ну, а поздней Софии
ты ли, повинно и смирно, предаться готов?
Кто-то читает и молится Богу деталей,
ну, а иному - скрижаль Моисея положь...
Сломаны перья, истёрты подошвы сандалий,
в лезвие выемку выел садовника нож.
Так вот скудеет и плоть, шелестя оболочкой.
И лишь душа - на несчётный подоблачный круг
снова взлетает над злою суглинистой кочкой...
Вольный же дух - и стеснённому времени друг!
Нынешним утром Крещенской водою умою
очи столетние, тысячелетье-чело.
Снег на Крещатик упал, на колючую хвою
трудной зимы. И отчётливо веет весною
в ноздри, во здравье, тому, кому жить повезло...
Из "Собачьих сказок"
1.
С погрызами, со шрамами на лбу,
кобель бродячий, грязно-белой масти,
влачит упорно зимние напасти
на искривлённом старостью горбу.
Опять по всей стране - горбатый лёд.
Кто свечку запалил, тот не разбился...
Спасибо - я у драных псов учился
обвалы с крыш предвидеть наперёд.
Во сне дурном лишь так и проживёшь,
когда не по-людски, а по-собачьи
заранее завоешь: "Чую, бачу!
Не трожь, не подходи, ядрёна вошь!"
Седой кобель с погрызами лица
спит калачом на трубах теплотрассы.
Живучести моей народной массы,
родной, дворняжьей, благородной, расы,
ей Богу, не предвидится конца...
2. 28 февраля
Сосед гулять выводит далматина -
берёзовой окраски резвый пёс,
породистая, крепкая скотина,
рвёт поводок, по ветру держит нос,
вздувает каучуковые ноздри,
предчувствуя скольжение весны
над грязным снегом. Ледяные грозди
свисают с крыши и угрозой острий
являют символ сказочной страны.
А сказ пересказать - гортань немеет,
о зубы спотыкается язык.
И всё ж над зимней явью нечто веет
такое, что рождает в горле рык
у пса и жизнелюба! И похоже,
доплыл ковчег до устья февраля.
На градуснике - менее нуля.
Но жаркий трепет далматинской кожи -
но кобеля прыжки и вензеля!
3. Инет
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице - контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, - с прорехой в перикарде, -
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением - в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице - фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа -
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
Не зря я отворял калитку крестоносца...
Письма из усадеб
1.
Р.Р.
Кириллыч держит Лозовеньки.
Не выдрыганцы, вытребеньки –
лишь то, что родственно душе,
хранит просторное именье:
семи берёз стихотворенье
и торс наяды неглиже.
Плюс – изваянье Нефертити, -
дошедшее в хохлацкий Сити
посланье фараонских дней, -
покоится на пне дубовом
в единодушии здоровом
с пейзажем здешних зеленей.
А за двором растёт клубника
в соседстве с грядкой базилика,
укропа и иной травы.
Худого пса жалеет кошка,
и празднично цветёт картошка
над сухожилием ботвы.
Июньский зной, щедроты лета!
Сплыла Одетта из балета
в прохладу подлинных озёр.
А солнечный посланник Пушкин
в сей день рождён. И на опушке
усадебной палим из пушки. –
Кириллыч на придумки скор.
Он сыплет горстью чёрный порох
и вслед пыжей газетных ворох
стволу заталкивает в зев. –
И бронза бранная литая,
на завитушках золотая,
грохочет мощно, аки лев.
Добавлю к фейерверку сноски:
там был цитируем Кленовский,
где Лосиевский тост держал.
И я там пил. Да жаль, немного,
зане в обратную дорогу
руки тверёзой ждал штурвал.
Прожить бы день, а век – послать бы!
Добро – не вымерли усадьбы,
где может жимолость расцвесть,
где рукописная страница
из прошлого не постыдится
промолвить: «Честь имею, честь!»
Укрылись в зелень Лозовеньки
от города, где беса деньги, -
братка и комсомольца нал, -
навозною взбухают кучей.
Послать бы век – несчастный случай,
убожества полуфинал.
Нечистой силой мечен базис.
А потому - живой оазис,
этнографа колодезь-кладезь,
вольно мне помянуть словцом
и средь берёз, чьи думы кротки,
заесть святой мерзавчик водки, -
с огня, с казацкой сковородки, -
печёным, - Естедей! – яйцом…
2. Дворянское гнездо
С.Э.
Яичница – БитлЫ. Томатный сок – Rot Энгельс
и Карла красный рот, язвящий капитал.
Я завтракал в «Струе», и пан СтанИслав Эллис,
приятель давний мой, к себе меня зазвал.
Глазунью я клевал в кафе, в «Струе зеркальной»,
в «Струе» же на Сумской нагой пиит-хорват
плескался и гремел метафорой сакральной
про «Синее вино» - лет сорок пять назад…
Но это к слову, так… Ведь математик Эллис
давным-давно в своё поместье звал меня.
Но чтоб квадрат вписать в овал, окружность, эллипс,
мне лично нужен срок серьёзней, чем полдня.
И потому я год иль более решался
откликнуться на зов дворянского гнезда.
Профессор ведь - из тех, в чьих генах бродят шансы
на то, чтоб на груди алмазная звезда,
на ленте голубой иль алой, воссияла.
«Ну что ж, - ответил я, - хоть завтра в три часа…» -
Холодная гора, окрестности вокзала,
плюс старого бойца прицельные глаза.
Стас Эллис вправду был отменный фехтовальщик
в былые времена. Поскольку в стригуне
бурлила предков кровь, миндалеглазый мальчик
калил свой эспадрон на правильном огне.
А как иначе жить наследнику походов –
крестовых, не простых, в количестве трёх штук!
Холодная Гора – скамеек, огородов,
махровых цветников последний тёплый друг…
Не зря я отмыкал затворы паладина,
где к тёмной умбре лиц наследственных холстов
сквозь окна долетал багрянец георгина
и отблеск-переплеск шафрановых плодов.
Не зря я отворял калитку крестоносца
и свежую эмаль награды обмывал.
Приор опять зовёт. Дождусь теперь морозца,
глядишь – и ко двору дворянскому придётся
сей, не придворный мой, но вольный, мадригал!
И даже над Содомом - бездна неба...
* * *
Зерно бы только, твёрдое ядро -
а время сладит мясо протоплазмы.
И высветлит дублёное нутро,
и вылечит от сглаза и от язвы.
Один лишь светлой ереси кристалл,
молекула нерастворимой соли -
и ты не сгинул, глиною не стал,
не помешался от тоскливой боли.
Одна крупица соли за душой -
верней в итоге, чем подачка хлеба.
Настанет день для правды:
мир большой!
И даже над Содомом - бездна неба.
* * *
Мы словно и не существуем оба,
соратник мой по рокоту-хорею.
В бульоне счастья булькает амёба,
а я, похоже, всё трудней старею...
И всё ж забудь, - я повторю, - не думай
о торге и о радостях расчёта!
Работник, твердорукий и угрюмый,
слова положит на Господни ноты.
Холщовый инок, то ли на медведя
похожий, то ль на гунна - сивой гривой,
как будто бы резцом в пластину меди,
вгрызётся в текст рукой правдолюбивой.
На гульбище нас нет, но мы-то дышим
и подлинней, и во сто крат живучей,
чем суверен, с его законом-дышлом,
и чем вассал, с повадкой прытко-сучьей.
И дар высотных слов есть то, что нужно
пространству мерзлоты, где гибнут птицы,
где время признаёт великодушно,
что жизнь - не поле с "veni, vidi, vici"...
Звени и мне, лимонный крон, синица...
День стужи
Мороз лимонногрудую синицу
сбивает наземь с ветки ледяной.
И к нам в окно день стужи постучится,
птенец-душа, льняной мой, кровяной...
Долбит огрызок хмуро ворон-птица,
но горсть ярко-соломенных пичуг
хранит и в малом родственные лица
и мечет звонкий бисер свой на юг.
Спасибо им - в сибирщине ядрёной
в стеклянные пронзительные дни
не выжить без глазастой, тонкозвонной,
зигзагами порхающей родни!
Звени и мне, лимонный крон, синица:
"Где зяблик, где серебряный клинок?",
чтоб не посмел устать я и склониться
пред мытарем, сдирающим оброк...
Звени, пока морозною иглою
январь под сердце не уколет влёт.
Когда ж мы запоём в нездешнем слое,
тогда тебя на небе к аналою
жених твой, летний зяблик, поведёт!
Кто со скрипкой в футляре, а кто - и с канистрой зелёной...
Смена года
Кто со скрипкой в футляре, а кто - и с канистрой зелёной
по Рождественской Пушкинской, мокро-вечерней, идёт.
Льётся, - колера кьянти, - витринная влага неона
по губам, по устам, но ни каплей не падает в рот.
Да не ты ль, пешеход-вездеход, - и со сменою года, -
обращаешься сызнова в ритм, на бегу, на лету?
Ни финансовый кризис, ни шизофрения погоды
не поймают на слове твоей простоты правоту.
В том и радость твоя, и нездешняя сумма в итоге,
чтобы с искрой в зрачке, с ускорением пульса в виске
вдоль по улице Пушке, по харьковской жлобской дороге
добираться до неба с железною тарой в руке...
Хорошо - что пешком полверсты от заглохшей "восьмёрки"
до разбойной заправки с лимонной рекламой "Леон"!
По пути и скрипачку поздравишь, и, трезвенно-зоркий,
виноцветье неона вольёшь в свой попутный пеон,
в крупнояблочный ямб или Далевский дактиль, к примеру.
За тесниной кварталов - размашиста певчая даль!
Смена года черна: всем - по вере и каждому - в меру...
Но гремит, но сверкает - трамвая концертный рояль!
Но трепещет в пещере огонь Рождества...
* * *
Между пламенем жёлтым и белым морозом
возникает бубенчатый зов Рождества,
между слабым ответом и вечным вопросом
быть не может и нет никакого родства.
Но и то хорошо, что морозно и снежно
в некрещённой и тысячезвездной ночи.
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно
то ли имя души, то ли пламя свечи.
А когда пеленает Мария младенца,
очи добрых животных лелеют вертеп,
и ягнёнок, ложась, подгибает коленца,
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,
а Иосиф ладонью потреплет руно,
чтобы агнец тучнел, завитками белея,
ибо взыщет горячего мяса вино.
Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –
ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон,
и назавтра во всём Вифлееме проснутся
чада, камни, смоковницы новых времён.
Между жизнью короткой и правдою долгой
прохудилось до дыр одеяло родства.
Нитка рвётся, и палец изранен иголкой...
Но студёная ночь дышит хвойно и колко,
но трепещет в пещере огонь Рождества.
* * *
Но свету Рождества - не потеряться
в содомах, среди каменных химер.
Больному миру легче просыпаться
в присутствии волшебнейшей из вер -
во дни, где хлеб и хлев роднит Спаситель,
где лепит вечность лепетом Дитя,
где вещим звуком полнится обитель -
крылатым хором с острия гвоздя...
Вспоминая Клюева
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.
Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.
Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?
Ежели ты, здравствуй, батюшка, войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.
Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарою,
штофом залью на душе красногривую смуту.
Зиму бы пробедовать без большого пожара…
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара…
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!
* * *
В пять часов - ни души, ни бродячей собаки
в темноте тридцать первого декабря.
Ясно-зимний Гурзуф чуть звенит во мраке,
золотые глазища за так даря.
В каждой лавке кусок - кусает однако,
шкуру с позднего путника всласть дерут.
Лишь зрачок огня во вселенстве мрака -
и цветок на грудь, и значок за труд.
В зимнем воздухе угольный выдох дыма. -
Так полвека назад из белёной печи,
от забот твоих, милая, неопалимо
обещали румянцем цвести калачи.
Сквозь пространство - и запах приходит, и привкус -
полнотой возвращенья утрат щемит.
Ясно-зимний Гурзуф - самоцвет на вынос,
самопал, воссиявший от искры быт...
Драго-Дракула, с третьим столетьем ворона...
Письмо
Драго-Дракула, с третьим столетьем ворона
не поздравил тебя, но к Покрову пишу…
Ветер рукопись рвёт и несёт во все стороны
запах гибели – палой листвы анашу.
А как дым погребений проест в экологии,
в окоёме озона, сквозную дыру,
в эту брешь устремятся, инкогнито, многие –
по ночному винту и с возвратом к утру…
Прошмыгнув параллельными координатами,
лабиринтами, броуновской кутерьмой,
вдоль кротовых проходов толкаются атомы,
чтоб любыми маршрутами, блогами, чатами, –
но прорваться к истоку – к порогу, домой…
Тем же фортелем, Дракула, тень Трансильвании
со шнурками усов и с шиповкой хвоста,
догоняет меня. Здесь, в шершавой компании,
древесина осин – осиянно чиста!
На безрыбье, в безлунье состряпаны выборы
здесь, где век-вурдалак всё живое гнобит,
где трансформеры-гопники, киборги-килеры
всё надменнее корчат значительный вид.
Вот и брызжет мне, княже, багряными фесками
в очи время. И ломится в грудь шариат.
Ты ведь прав – над Кощеями и Чаушесками
правя требу – псалмами, до крайности резкими...
И семь раз осенён – твой осиновый клад!
Cтало трудно радоваться снегу...
* * *
Cтало трудно радоваться снегу,
а ведь раньше белый свет любил!
Снежнохолмий альфу и омегу
изо всех отважноглазых сил
чтил-читал. И по зигзагу зайца,
сбросив лыжи, мчался полем вслед...
Жаль, зрачку мальца, огню-бенгальцу,
в нынешнем раскладе места нет.
Ямбу снегопада выжить трудно.
Разве что по скользанке шальной
всё ещё снуют зеркально-смутно
школяры, чей снежный мир больной
исчезает над багровой крышей,
под которой Голем, Бренд и Тренд,
на ведьмачьей сходке нуворишей
добивают смысл, отгомонивший,
и идеей назначают высшей -
гроб ваплёный, шоу-секонд-хенд...
И на лыжах махну по Донцу...
Первый снег
В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли - но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.
Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признанье мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.
Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я - мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...
Инет
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице - контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, - с прорехой в перикарде, -
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением - в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице - фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа -
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
Колыбельная
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике - вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках - и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает - про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз - людоед, самодур.
По сараям - чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам - сёла. Промежду сугробов - кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!
* * *
Притчи Борхеса, Хорхе Луиса,
плошка риса, полчашки маиса.
И чего тебе больше, бедняк?
Разве склянку зелёного зелья?
Так оно ведь давно не к веселью -
то к депрессии, то аж никак.
Притчи Борхеса, мачо слепого,
золотое кастильское слово,
аргентинской травы серебро.
Парацельса целебная роза...
В жилах Цельсия - тридцать мороза
на равнине, сломавшей ребро.
Здесь, в краю беззаконной развязки,
где из лыка и марли повязки
лешаку и лишенцу - к лицу,
ляпну снега на рваную рану,
в серый полдень пальну из нагана
и на лыжах махну по Донцу...
Карки Цахеса, карлика злого,
исклевали сердечное слово.
Ворон рвёт огневую лису.
Что осталось мне? Хлеба ковригу,
стыд в глазах и о будущем книгу
в конуру на ночь глядя несу.
Притчи Борхеса перечитаю. -
Не витийствуя и не витая
в эмпиреях, мудрец повторит,
что Содом - некритический случай,
если выжил в нём некто живучий -
или праведник, или же лучше:
грешник, но не утративший стыд...
Двадцать первое июля – день рождения бойца...
21 июля 1969 г.
Этой ночью человеки опускались на Луну.
Некий вахтенный по роте танкового рода войск,
сквозь оконные решётки зря холодную войну,
взбадривал эрзацем кофе бдящий по уставу мозг.
Двадцать первое июля, шестьдесят девятый год,
где колёсиком «Спидолы» догоняешь ты волну –
репортаж о том, как Армстронг вдоль по вечности идёт,
раздвигая полнолунья молодую целину.
Двадцать первое июля – день рождения бойца,
пьющего цикорий в будке родины сторожевой,
каждый вечер, год за годом, и от первого лица,
извлекающего звуки партитуры мировой.
И редакции советы шлют резонные вполне:
«Постигай, как пишет Пушкин, он рифмует – будь здоров!»
«Вьются тучи», но на строго засекреченной Луне
первым будет белозубый старший лейтенант Петров...
Сорок лет прошло, но Армстронг, из тех самых, прежних, жив,
хоть меж Алых Роз и Белых, тридцать тысяч их легло…
Даже, если понимаешь птиц и лепеты олив,
даже и сбежав от скверны, – заплати налог на зло!
Ведь над чем добру подняться? Лилиям негоже прясть.
Благо – златоткань заката, белой ниткой самолёт…
В календарь падучих майя вгрызлась паучиха-власть,
человечье доедая в сетке численных тенёт…
Уйдёт без упрёка Цезария Эвора...
* * *
Уйдёт без упрёка Цезария Эвора
из мира, где молодость «Бесаме мучо»
сменяется за ночь синдромом Альцгеймера
иль хворью иной, на порядок покруче…
И мне, Кабо Верде, к эбеновой зелени
твоих островов не досталось билета.
Но нечто мятётся в сегодняшнем эллине –
и скрипами мачт, и изломами света.
Вот так и люблю – босиком отошедшую,
к Зелёному Мысу, кофейную диву,
как Осипа, брата-поэта, нашедшего
подкову под Ветхим Заветом оливы.
Есть царствие Эворы, детское, кроткое,
где каждый – глазаст и стыдливо не встречен.
Туда и плыву я папирусной лодкою,
поскольку и сам тем же резусом мечен.
Верблюды влачат сквозь игольные уши
с богатством тюки и баулы с грехами…
А чёрных сестёр бесприданницы-души –
певучи. И небо ступает по суше
праматери Евы босыми ногами.
Вот бенгальские свечи тебе, мой дружок...
* * *
М.
Вот бенгальские свечи тебе, мой дружок!
Вот и сердце моё - тоже с искрой Господней.
Новый год у порога. Имбирь в порошок
истолчём и корицы чуток новогодней
со щепоткой гвоздики добавим в пирог -
в золотое, домашнее-пышное, тесто.
А кому посвящается каждый мой слог,
я не выдам секрет - ни ползвука, ни жеста...
Под сосновым дыханьем, вокруг пирога,
соберёмся, за скатертью, вышитой гладью.
Не стихает любовь - вот и вся недолга.
Длится чадо небес над асфальтом исчадья.
Вот и выпал бы снег за декабрьским окном,
вот и диск серебристый блеснул бы в тумане!
Я запью темноту тёмно-красным вином.
И не выдам ни слова - о самом родном,
как бы таймером пульс ни частил о признанье...
И мы теперь, как никогда, близки...
* * *
Оплакали, отпели, схоронили.
И злое время дальше потекло.
Неотвратимо холодно в могиле,
а наверху сиятельно тепло.
Твой гроб тяжёлый, словно жизнь, тяжёлый,
с надрывом пал на глиняное дно.
Прощай, отец! Винясь, к тебе пришёл я.
Темнеет в рюмке мёртвое вино.
Нам так весёлой лёгкости хотелось!
Но ход вещей не ведает стыда -
его жестокосердая умелость
куда верней Грядущего Суда.
О Константине Божьем поп Василий
последние слова гудит под нос.
И вот тебя отпели, схоронили,
и залит зноем августа погост.
Прощай, отец! - Глоток за новоселье,
за Царствие Небесное твоё...
Хотелось капли лёгкого веселья,
но в целом мире не было её...
Сорок дней
А всё ж ещё - в последней, в поздней силе,
пяток деревьев, постаревший сад.
И первые морозы не скосили
с наследных лоз чернильный виноград.
И сиз налёт на яблочном кармине,
и меж ветвей как будто бы искрят
осколки притчи об отце и сыне,
слова вразброс, прощанья невпопад...
За сорок дней не зажила утрата.
А в сбоях сердца истина о нас -
что мы, отец, ни гладко, ни богато
не проживём и в следующий раз.
Вороны хрипнут, по садам кочуя,
в ворожий клюв запихивая дань
О високосной пагубе молчу я,
читая вновь отеческую длань,
вновь узнавая, в собственном узоре,
жизнелюбивый дар его руки.
И наконец, в последнем разговоре,
нет места даже самой малой ссоре.
И мы теперь, как никогда, близки...
Когда б не музыка...
* * *
Когда б не музыка, не травный ветер тихий,
когда б не трепет сизопёрых крыл,
я б с бабой злой, судьбою-поварихой
и миски клейкой каши не сварил.
А так - глотну воды, живу и знаю:
не должен сам, а долг чужой прощу.
Так птица, бесприданница лесная,
взлетает, золотясь и не мешая,
плести тенёта хищному хвощу...
* * *
Цикады и сверчки - о, здравствуй, Моцарт милый!
Летучие смычки - о, здравствуй, певчий дар!
Какою нутряной, какой небесной силой
отмечены, июль, бемоль твой и бекар?
Семь зёрен, семь семян, семь нот благоуханных
рассыплют в темноте цикада и сверчок.
помилуй, Отче, нас, душой не бесталанных,
смягчи ещё гортань и не гаси зрачок.
Прости мне хрипоту и почерка изъяны. -
Покаясь, повинясь, я снова тихо рад
истоку своему - от их ночного клана,
от пьющих синеву таврических цикад.
Когда погашен свет, столь властен пьяный воздух,
что хочется отдать слова и письмена
за камертонный звук, за первозданный роздых,
за семь ночных глотков летучего вина.
Мы в оны времена совсем по-птичьи пели.
И лишь потом сплели словес лукавых сеть.
Но помнится от гнёзд, от лиственной купели:
воистину, дышать и означало - петь...
Как Одиссей-Улисс или Эней...
До упора
В.К.
Каналья – тот, кто спит в канаве, сорри,
или в канале – то на берегу,
а то, коль с воскресенья к четвергу
не протрезвел, уже на дне, в конторе,
что входом в преисподнюю зовут…
Ты помнишь, как на вдохновенный труд
спешили мы, спросонок, спозаранку,
товарищ дней студенческих моих?
Тебе преподношу я этот стих,
профессор-алконавт, водила танка
на энских сборах сорок лет назад…
Куда девался твой смышленый взгляд,
твой ум математической повадки?
Багровые бугры, рубцы и складки
украсили теперешний твой фейс,
что рвётся столь неотразимо-броско
пополнить ряд химер и бестий Босха…
Когда-то и Нарцисс, и эдельвейс, –
«Хорошенький!» – сокурсницы пищали, –
теперь ты тот, кем сделал тебя век,
сей рефери, что, восклицая «Брэк!»,
спешит добавить: «По углам, канальи,
по клиникам, по ямам, по гробам!»
Увы, мой друг, уже не долго нам
махать рукою вялой, после драки,
и физией помятой торговать…
И я о важном поспешу сказать
тебе, мой неутраченный дружище:
в свищах души и плоти ветер свищет,
и, что ни год, – всё злей и холодней.
Но мы с тобою – до упора! – вправе,
как Одиссей-Улисс или Эней,
не о подземной помнить переправе –
о синем ветре золотистых дней!
О молодости – славной и в бесславье!
И грех – не вспомнить наш Кучук-Ламбат,
наш век минувший, год семидесятый,
смоковниц сад и августа закат
с лачугой-хатой и доступной платой.
Всех гонит прочь холерный вибрион,
а мы с тобою зельем ркацители
спасаемся. Как явен этот звон
жизнелюбивых парусных времён,
как жив в ещё неотгудевшем теле!
И гор гряда с грядою облаков
сливается на дальнем горизонте.
А нас с тобой из запасных кусков
ещё, даст Бог, склепают в капремонте.
Но больше – на себя и на тебя
надеюсь, как бы ни звучало странно
доверие к тому, кто, в рот любя
вливать на полном форте пьяно-пьяно, –
давно не тот… Но, братец мой седой,
ты для меня до самого упора –
свидетель и двойник мой молодой,
что с облачной сливается грядой
над охрой гор, над яркою водой, -
почти без сожаленья и укора…
Позови меня молча, глазами...
* * *
Позови меня молча, глазами –
и да сбудется воля Его!
Но пред плахою, но пред часами
никому не отдам ничего.
Позови меня нежно и кротко.
Как томит нерастраченный стыд!
Так весеннего воздуха водка
волчью пару в овраге пьянит.
Продолженью земного блужданья
нужен мозг и до ночи труды.
А священному зверю желанья
дам я крови и свежей воды.
Я ведь знаю, вдвойне одиноко
нам дано это поле пройти.
Ну, а ласка вернее упрёка
и в конце, и в начале пути.
Позови же без тени укора,
ибо слабость - твоя правота.
Себялюбий мышиная ссора
тишине да не тронет уста.
* * *
И., Е.
И меня, хоть и трудно, но любят:
"Сыщет брод и вернётся, бродяга..."
И простят, даже если осудят,
коли брага сморит у оврага.
Никому не даю я совета.
Ломан путь мой и небезупречен.
Лишь печалюсь, что коротко лето,
что и сам я ни словом не вечен...
Но припомнил июльский Всевышний
о моей именинной награде -
чёрно-спелые жаловал вишни
и лиловый вьюнок на ограде.
Дал мне яблонь шатровые ветки
у обочины знойной дороги,
где парят корольки-однолетки,
беспризорные детские боги.
Да ещё бы послал он прощенье
им, кем малый задаток мой понят!
Я ведь чувствую, ждут возвращенья
и за мною лишь лучшее помнят...
Над челядью, продавшейся за крохи…
Голландские эскизы
1. На четырёх языках
По каналам Амстердама
сердце плавает моё,
словно в красной лодке дама:
платье - бисером шитьё.
У неё по ткани чёрной
серебрится поясок,
а над нею - торг узорный,
город - лакомый кусок.
Вдоль воды, едва текучей, -
изразцы коньков пестры.
Триста лет нет ярче бучи,
нету радостней сестры,
чем Голландия-пастушка,
королева ветряков...
О, фаянсовая кружка
и ячменной пены зов!
По купеческим каналам,
отдав гульденов чуток,
с капитаном, тёртым малым,
объезжал я тот чертог.
А голландка рядом пела
про мосты, про Амстердам. -
Так звенело её тело,
что мой слух доныне там,
где над сизою водою
взор инфанты молодой...
Вот, возьму, глаза закрою -
и дышу её водой.
Вот её четыре речи,
призмой множимый рассказ.
И под чёрной тканью плечи -
сей алмаз не напоказ...
Эти о пространстве вирши
множат лёгкость сквозняка.
Крестится, их сотворивши,
грешная моя рука.
Но ведь было в ней такое
нечто - не для простаков:
то ль монаршество младое,
то ли знанье языков!
2. Маастрихт
Недолог путь из Льежа в Маастрихт –
вдоль берега Мааса мчится поезд
не больше часа. Острозубый шрифт
граффити – о дурной свободе повесть.
И портят кладку станционных стен,
натруженный кирпич живого цвета –
не миру, так подруге «Мэри-джейн», –
от косяка тинейджера приветы…
Но поезд там, по плану, тормозит,
где старый Маастрихт, Европы сводник
новейшей, в синем воздухе парит,
труда и здравомыслия угодник.
И вот, во Льеже перейдя Маас,
я возвращаюсь вновь на берег тот же –
уже в другой стране. Потоки масс,
с молочной белизной голландской кожи,
разбавлены экзотикою лиц,
любых оттенков кофе и какао,
с белками глаз в махровости ресниц…
И хладнокровней Дао, величаво
несёт Маас упругой мощью вод
скорлупки барж, игрушки теплоходов.
Так явственно стратегией живёт
подвижное единство антиподов!
«Да не убий себя своей татьбой!» –
гудят колокола голландца-храма.
За что ж иной исчёрканы хвальбой
моей часовни стены? – Диаграммы,
каракули-крючки про честь и ум,
про волчью совесть ссученной эпохи.
И всюду – пир чумной и власти глум
над челядью, продавшейся за крохи…
«Во лжи своей – себя не укради!»
Вокзал. Из автомата капучино –
не больно сладок. Но в конце пути –
всё та же боль, что – Господи прости! –
не беспричинна. Нет, не беспричинна…
Всё будет. И ещё останется...
Послание
Лев Первый, соправитель Августа, -
медяк Бизанта, пятый век...
Сквозь щель в средневековье Фауста -
сквозняк: секрет, кульбит, камбэк.
На йоту время приоткроется.
В любви признаться не спеша,
толкнётся сквозь жасмины Троицы
звук, мотыльковая душа.
И на запястье, на школярское,
где Блок пульсирует и страсть,
присядет белое и царское
письмо: "Не кануть, не пропасть..."
Взметнётся бабочка-посланница,
разбрызгивая светотень,
понятная с налёта странница...
Всё будет. И ещё останется -
на каждый новый Божий день!
Иордан
Языческих примет нахваливать не буду,
но кем-то полдень мой столь щедро освещён,
что "здравствуй" молвил мне брат Господа Иуда,
запив глотком воды тождественность имён.
Ведь тот, Искариот, скрипел за кадром тусклым,
за рыбьим пузырём, оконною слюдой...
Но трудно родники рекли иссохшим руслам,
что не устанут быть единою водой.
Что будет полон струй источник Иордана
средь спёкшихся песков и жарко-рыжих глин...
Там окунул чело в купель я покаянно
и не хотел отнять от той воды седин.
И рыба подплыла, в уста поцеловала.
Тончайшим серебром сверкнули крышки жабр.
И влажное лицо я поднял - всё молчало,
лишь в мокрые глаза дышали мирт и лавр.
Геннисарет
И Бог, и дьявол, спрятавшись в деталях,
траву и воздух делят пополам.
И будет так, что голубая сталь их
воздаст любому слову по делам.
А потому молчи, чурайся фальши.
Всё меньше смысла в умноженье слов.
Живи, умри. - А он плеснётся дальше,
серебряный, от галилеян, лов.
Вода, тенёта, лодок древесина -
всё подлинно и взвешено сполна.
И мускулисты бронзовые спины
ловцов. И силу кормит глубина.
Добро и зло, намешаны в чернила,
бумажный лист испишут пополам...
Пройдёшь Геннисарет и дельту Нила
и, если не иссякнет в сердце сила,
вдоль русла ляжешь, высветлен и прям.
Не грех - согреться малостью родной...
* * *
Чем злей мороз, тем тоньше писк синиц -
волосяные жалобы и пени.
Ордынским ликом распластавшись ниц,
отчизна спит во льду, в снегу и лени.
И выдыхая азиатский дух,
спит у холма мой забубённый город -
сбит набок замусоленный треух,
башмак дыряв и ватный бок распорот.
Какая бесконечная зима!
Полвека не бывало столько снега.
Вмерзают в воздух люди и дома
на взлёте невозможного побега.
Чем злей морозы, тем гнездо добрей,
дыханием окукленная норка,
где - книг развал и чайник-носогрей,
где на окне ярка лимона корка.
Отчизна спит - в её грудине лёд,
в гортани - ломоносовская ода...
А мне в дому, быть может, повезёт
перетерпеть студёные полгода.
Не грех - согреться малостью родной,
чтоб уцелеть среди огромной стужи.
Какой отрады мне желать иной? -
Войди в мой дом, скрипучий, лубяной,
и помолчи со мною, старый друже...
Живородящи линзы Левенгука...
* * *
Тогда хотелось побыстрее
крылом ударить и взлететь.
Тогда моложе и острее
анапеста звенела медь.
Но оказалось, что для взлёта
нужней не пылкие уста,
но всевлюблённости работа
и самоедства правота.
Отдай единственное сердце
и жизни лакомый кусок -
и может быть, тугая дверца
раздвинется на волосок.
И луч огня в шагрень вонзится.
Но ты успеешь осознать,
что глупые, - другие! - птицы
умеют по небу носиться,
поскольку не умеют лгать...
* * *
Вослед за шарлатаном Калиостро
и вслед за балаганом Джона Ло
и тру глаза, и вглядываюсь остро
сквозь выпукло-тяжёлое стекло.
Живородящи линзы Левенгука,
возлюблен бородатый Гутенберг.
Но есть астралы, где глупа наука,
как туша на крюке, - ногами вверх.
Там неуклюжи домыслы Декарта,
и малокровен десятичный счёт.
В дыру времён над охрами Урарту
сквозной спиральный посвист увлечёт
разъятое на атомы сознанье...
И лишь одно припомнишь, воротясь, -
как еле уловимые касанья
включали ослепительную связь,
как ты и я, - не в фокусе, не в фазе, -
последние теряли вечера,
поскольку, вне единственности связи,
в хаОсе чисел делалась игра...
Но что-то вновь живое из тумана,
светилось, и на нервах у людей,
на клавишах гармоники стеклянной -
играл нездешний мальчик Амадей...
Так дружбы мне хотелось, удвоенья...
Дружба
Я рос и видел сны о звёздных странах:
кварталы розовели ранней тишью,
играя парой крыльев белотканных,
я озирал иного мира крыши.
Так дружбы мне хотелось, удвоенья,
за тридевять земель живой приязни!
Так яблоки незрелого сужденья
сбивал я с верхних веток без боязни!
Я, кажется, проснулся - зазеркалье
ещё витало в сумраке, в жилище,
где мыши, острозубые канальи,
за плинтусом искали скудной пищи.
Моих окон рассвет едва коснулся,
и стало видно, как, паря упруго
над нашей крышей, мальчик улыбнулся. -
И обнял я возлюбленного друга!
В пречистый пламень уходи, полова...
* * *
Я думаю об ангельских делах -
о суммах технологий, о понятьях.
И о крылатых кряжистых телах
я помню, о моих по духу братьях,
с какой-то целью бросивших меня
наедине с зиянием Бизанта...
Но есть в маршрутах вестников огня
прицельности бессонная константа.
Тяжёл и грешен тысячью стихов
о человечьем, о невнятном зове,
весь век - кандальник, я в себе оков
не чувствую, зане спасён любовью
двукрылою. Спеши, огонь, дыши!
В пречистый пламень уходи, полова!
О многоборстве ангельской души
опять молюсь в предгибельной глуши -
без кривды фраз и без обмана слова...
Сыновья за отцов и за все сорок бед отвечают...
* * *
За казённою дверью начислят на воздух налоги,
шитый белыми нитками, проштемпелюют отчёт.
Призрак тащит бревно вдоль субботы и века итоги
всё никак по-людски не поделит - то нечет, то чёт.
Голосили надрывно, вздувались цитатною пеной,
беленою словес пузырились на красных губах...-
Длится время расплаты, яремной набычившись веной,
мишурой сумасшедших бумажек шурша на столбах.
В чёрно-зимнем провале вдвойне и обидно, и тяжко
покрывать всею жизнью дырявой равнины долги.
Только как бы ни льнула расстрельная к телу рубашка,
уповаю на Спаса я: "Малых моих сбереги!"
И молюсь всей душой, среди мёрзлого луба и стужи,
за птенцов человечьих, за снежных моих голубей...
Да крещусь, чтобы выбрать мне, сивому, упряжь потуже
и пройти по корявым пластам задубевших скорбей
бездорожье и смуту... Ведь зелень с размаху крепчает,
стоит солнцу проснуться и птичьим женитьбам запеть.
Сыновья за отцов и за все сорок бед отвечают,
и вдоль ран и порывов срастается кровная сеть...
А паучьей зиме и гроша на помин я не дал бы,
чьи налоги на мух и на воздух свистят сквозь карман.
Подошло половодье под горло расшатанной дамбе -
и костями Чингиза гремя, чешет темя Иван...
Гуля беленький с чёрною крапиной...
Побег
Гуля беленький с чёрною крапиной,
из мальчишества голубок!
Травит сердце тягучей царапиной
недостроя прогул-урок.
Чья ты почта? Из снежной пары ли,
что под ёлку отец принёс?
Снеговей откупили барели.
Время, трейлер и бензовоз,
то ли жжёной чадит резиною,
то ль коробкой гремит передач.
Крутит люд развлекуху зимнюю,
гонит сапиенс триллер вскачь.
И в кино том - ни ветра свежего
над зимой, псалтырь-белизной,
ни полшороха тёплого лешего
под студёной звездой стальной...
Только гуля мой глазом-клюковкой
через вьюжный декабрь глядит,
где по рынку с берданкой-пукалкой
бродит сторож в ночи, Вечный Жид.
А как выпорхнут в форточку пленные,
так в метельную тьму-маету
всё кричу им вдогон сокровенное,
всё болю отворённой веною,
словно сам - на ветру, на лету!
Не сыщется на нас погибельней батыев...
При дороге
В 33-ем году на икону
положили, младенца, тебя
и у шляха полынному лону
возвратили… Уже не скорбя…
Ибо мать и сестра не вставали,
батьку в глину свезли, за овраг,
и все хаты давно порубали
на баланду костлявых собак.
Положили тебя в придорожье,
в слобожанской солёной пыли,
чтоб Господь и случайный прохожий
над тобою склониться могли,
чтоб седая душа Украины
над тобой зарыдала на миг,
неповинно казнённому сыну
заглянув в нерассказанный лик…
Небом правишь ли, кривда земная?
Средь степи, в людоедском году,
cмотрит с л е п о Мария н е м а я.
Поднимаю дитя, поднимаю -
и по веку, г л у х о м у, иду…
У могилы Чичибабина
Не плачь, не плачь, Яськов! -
Он больше, чем возможно,
остался, - и уйдя, - живым среди живых.
А дым его махры, мятежный и тревожный,
всё тянется за ним, - пахучий, словно жмых, -
с тех лесопильных лет, казалось бы далёких,
что в ватнике-фуфле и нынче прут во двор...
О волчьх колерах да о собачьих сроках
доныне на Руси не кончен разговор.
С чего б и тише стать охриплости напева
о Вятке-Колыме, о Воркуте-Мордве?
Обмылок справа мок, торчало шило слева. -
Патруль сменил патруль на курве, на Москве...
И тот же вертухай, брехливый дядька-Киев,
из мутного Днепра вовсю гребёт улов.
Не сыщется на нас погибельней батыев,
чем эти, из своих занюханных углов!
Уйми слезу, Яськов, под добрыми очками
и облаку махры вослед в стихе вздохни,
как ранены глаза щепой на пилораме
и в эти, - ну, ничуть не радостнее, - дни.
Не верю я словам, но сердцем чую голос,
который свыше дан, не предан, не пропит.
Ядрёная зима! - Скрипит морозный полоз.
Сдирает стужа скальп и плакать не велит.
Нет точки. Только острое тире...
* * *
Ровно сто живого весу -
крыл шести ли шесть пудов? -
сгину ли, за так исчезну
из содомских городов?
Вы ли, чуждого, собьёте
влёт из "калаша" меня,
вор в законе, червь в полёте,
совладельцы злобы дня?
Ест зеницы пир закланья,
зачумленья на паях.
Несть крупицы покаянья
в обесчещенных краях.
С погорелым - в горле - лесом,
с горькой гарью в каждом дне,
отпляшу ли мелким бесом
в обезбожевшей стране?
Вновь роняю очи долу,
катакомбный иерей...
Аве, брат Савонарола,
флорентийский царь зверей!
* * *
Мы время пьём, как воздух или воду.
Бескровный полузапах, полувкус
свидетельствует строгую природу,
едва ли снисходящую до чувств.
Нам ведать своенравный ход потока -
не по плечу. И нечто мы должны,
должны ему - без милости, без срока...
И без любви в него погружены.
Но время множит Дух! - Вот тень намёка
на равенство. Вот гончим псам - амбре.
Кто пересилил синтаксис упрёка,
тот знает бессловесно и глубоко:
нет точки. Только острое тире...
Листья уходят, вздыхая о дружбе домами...
* * *
Где Каин-ветер, слёз сглотнуть не в силе,
шатает над песком осенний дом,
там дробь рябины - егерем по жиле -
гремит. И пахнет дымом и вином.
Пока ещё гепарды листопада
хранят по кругу обморок ветвей.
Но всё мокрей-черней зубцы ограды,
и всё желтей конверты у дверей...
Лишь ты - не осень! Юлианством хмеля
и зеленью полны твои глаза.
И столь точна их оптика в прицеле,
что взвизгивают разом тормоза,
когда, светясь над грубой синью ткани
полоской наготы, соблазном лон,
несёшь ты на предзимнее закланье -
рябиновый огонь в ладони-длани
и над челом - прохладной чёлки лён...
***
Бледно-лиловые астры в сумраке стылого сада
светят над чёрной землёю после тяжёлых дождей.
Ярко-оранжевым ядом брызжут календул лампады.
Холодно, пусто. Часами – нет ни собак , ни людей
в этих посадках старинных...
Только корявые лики
разнорабочих деревьев – яблонь, черешен и слив –
не покидают усадьбы. Да рассыпаются крики
соек, снующих повсюду в поиске скудных пожив.
Полупрозрачные астры не по-сентябрьски озябли.
Рано повеяло стужей и соловецким вином.
Хлопнем по шкалику, братец, выпьем ещё по три капли
и угловатые грабли в тёплые лапы возьмем.
Вот и ещё одна осень, палой листвы погребенье.
Листья становятся дымом, запахом и забытьём.
А в глубине, за ветвями, - близко-далёкие тени:
словно вчера ещё,
в детстве по листопаду идём..
* * *
Листья уйдут, обнажая избыток пространства.
Воздух запахнет предсмертным намёком на водку.
С трассы увидишь всё там же, как знак постоянства,
олово озера и одинокую лодку -
не доезжая Воронежа, между холмами.
Может, и впрямь о Тоскане тоскуют пейзажи.
Листья уходят, вздыхая о дружбе домами,
о краснояблочной, взятой в рогожу, поклаже.
Герда злится, мёрзнет Грета...
Окно ночью
Я полночным сугробным проулком иду.
Жутковато, как перед уколом Манту.
Мёрзлый тополь скрипит и морозу-врагу
подставляет корявую спину в снегу.
Нетверёзый мужик стороною прошёл.
Стало тише, просторней - совсем хорошо.
Только тополь скрипит, и на синий сугроб
навалился строенья кирпичного лоб.
Щиплет ноздри и горло мороза вино,
а вверху, в чёрном небе, мансарды окно
не уснуло под скатом крутым ледяным -
здесь парит, а и светит нездешним, иным...
Человек ли там с книжицей? Альфой кровит
с продырявленной кожицей брат, индивид?
Человек ли зовёт в кривоватом окне,
поздним светом своим прикасаясь ко мне?
Полуночник не спит, стережёт тишину.
Я ни звуком её и его не спугну.
Лишь черкну на снегу под чердачным огнём
бесконечности знак - о себе и о нём...
* * *
Снова впору зимовать,
снова зябнущий рассудок
станет на ночь отнимать
день от девяноста суток.
Драные фуфайки дней
знать не знают слов привета.
Ночи - поезда длинней.
В почве - обморок корней.
Герда злится, мёрзнет Грета...
Лучше был бы день пуржист,
ведь не снег тому виною,
что уколот хорошист,
отрок, в яблоко глазное...
Брызжет в очи колкий лёд
косоротой королевы. -
"Это дело - врёт народ -
враз до свадьбы заживёт,
до притопа, до припева!"
Я и сам отнять спешу
день от зимних девяноста,
тёплой арией дышу,
раскрывая Ариоста...
Но с оранжевой хурмы
шкурку мёрзлую сдирая,
понимаю, обмирая,
то, что дни не от зимы,
но от жизни-кутерьмы,
но от сердца отбираю...
И сквозь мокрые хлопья целую я губы твои...
* * *
Время мёртвой листвы и падения мокрого снега,
что слезами небесными тычется к зябким губам.
Но и напрочь простуженных сумерек, - без оберега,
без пунктира огня, - безнадёжности я не отдам.
Головастики - ноль-переходов кротовые норы
не сегодня, так завтра для полного счастья найдут,
чтобы стужей дохнула бездонная тара Пандоры,
чтоб в змеином клубке задохнулся последний уют.
Яйцелобые умники гложут ядро интеграла
и сверхточно суммируют слабо сходящийся ряд.
"Мале" - "плохо" в латыни. А много - всегда уже мало.
Хлопья мокрого снега сквозь сны измерений летят -
сквозь зияние чёрной дыры и магнит Атлантиды,
сквозь изломы времён и нахлёст турбулентной струи.
А в Галактике Млечной своей мы стоим, неофиты,
у общаги, лет сорок назад. - И пылают болиды,
и сквозь мокрые хлопья целую я губы твои...
И дышит сада ярко-чёрный куст...
От лета до зимы
1. Гонец от Кочубея
Мне только пять. И я ещё - не выше
тележного кривого колеса.
Сестрица-жизнь с улыбкою бесстыжей
ещё не заглянула мне в глаза.
Ещё "Полтаву" я не сам читаю,
а голос деда, высветлен и тих,
казацкую обиду поминая,
поёт с печалью благолепный стих.
И не сверчковой музыкой унылой,
но полнозвучьем о родном-былом
захвачен я. Ночная степь укрыла
коня гнедого с месяцем-челом.
"Кто при звездАх и при луне" - струится
из дедовых единокровных уст.
В распах окна кричит ночная птица,
и дышит сада ярко-чёрный куст.
"Зачем он шапкой дорожит?" - я слышу
и глажу книги стёртую парчу...
Мне - пять. Ещё я стремени не выше.
Но я скачу. Но, видит Бог, - лечу...
2.
На склоне лет узнал я зиму,
охоту, уток над прудом.
Щетинный вепрь пронёсся мимо,
круша лещину, напролом.
А нам пора уже вернуться
в свой дом, тулупы сбросить с плеч
и, свечку запалив на блюдце,
в камине истово разжечь
сосновые дрова. - Не надо
первосященнее огня...
В крови - вечерняя отрада
на воле прожитого дня,
дня свежевыпавшего снега,
морозно-дымного ствола...
В окне темнеет. Льдисто Вега
над стужей ельника взошла.
Тепло в дому. В усталом теле
есть лёгкость поздней правоты.
Мы лишь на четверть поседели.
А о душе и о метели
молчать умеем - я и ты...
Искатель-дух, неутолимый свет...
За Феодосией
Кузнечики - хитиновый надкус
полынной жилы, мускус-мускулинум
собранья сочленений... Шорох муз
в бессмертнике - цветке первопричинном.
И охрою, и переспелой хной
холмы окрасит кафкианство полдня.
Всю Кафу, все кофейни за спиной
оставлю, вместе с будкой - в сутки сотня...
И вновь холмов, что Осип величал
овечьими, касается мой посох
и прочь ведёт от черномазых шпал
туда, где синевой сияет воздух.
В побег ведёт - в реликтовый распах
пространства, где - ни лающей собаки,
ни сапиенса с ложью на губах,
где море - сокровенно... После драки
ни шуйцей, ни правицей не машу.
Грядой бугристой жизнь брела сквозь годы -
без всяких шансов одолеть межу
враждебных чисел, внешней несвободы.
Но вот - кто есть, не мавр, не бедуин,
не кафр, лишь Кафы родич загорелый,
спешу опять, - в мальчишестве седин, -
по мергелю, по здешней глине белой
с зеленоватой примесью. Трещат
кузнечики, хранители аскезы
степного мира. Дышит, - непочат,
и некой свежиной богаче Креза,-
искатель-дух, неутолимый свет
за слоганом футболки, за грудиной...
Душа, на нас земной управы нет!
На сорок здешних бед - один ответ:
размах небес и Батько Всеединый.
Легки, как дельтаплан, и треугольны...
Март Адриатики
1. Снег Римини
Что в Римини тебе моём,
когда ты в нём не засветился
и в межсезонье не вселился
в узорный, возле моря, дом?
Адриатический песок
прохладно-тих под солнцем марта.
Легла, суля удачу, карта
с утра и на невнятный срок...
И правда - в полдень снег валит,
внезапный, вдрызг не итальянский.
Как будто башнею Пизанской,
циклоном рухнувшим прибит
зелёный обморок газона
и веток розовый наряд...
Шальной, нездешний снегопад,
догнал на юг бежавших чад,
как варвар смял центуриона.
Но вновь под солнцем дряхлый храм
просушит с Малатестой фреску -
бессмертный дар делла Франческо
наследникам минувших драм...
Что в Римини тебе моём,
во времени, ещё пустынном?
В безлюдном пляже, плоском, длинном,
похожем на аэродром?
На гребень челнока присесть,
на перевёрнутую лодку...
За рифмы золотую водку
отдашь ли страннику красотку, -
в невесты, - Малатеста-тесть?
2. Князь-скала
Жалеть о том, что стены Сан-Марино
предатель-март в густой туман укутал?
Что мокрый снег упал скале на спину,
все краски смазал и все карты спутал?
Куда там! Воротник плаща поглуше
на шее застегну и по туману
рвану наверх. По здешним каплям туши
гадать не буду, и пенять не стану
на безнадёгу чёрно-белой гаммы...
Но, как наследник-воин Хокусая,
по-самурайски не признаю драмы -
раскатанной губы не искусаю.
Лишь запахну ещё раз тёртый ворот
на молодом тысячелетнем горле...
А по-над кислым снегом мокрый ворон -
не свой ли тать и не родимый вор ли?
Нет, нет, не я пропью твои подарки,
о князь-скала! - Мне и того довольно,
бродяге, рифмачу и перестарку,
что солнечны твои - над детством! - марки,
легки, как дельтаплан, и треугольны!
3. Равенна
Флоренция пинками гнала Данта,
и клювом Зальцбург Моцарта долбил.
И ты, мой продувной, ты, без ветрил
сквозняк-степняк, мой град, - понты-пуанты, -
ещё сто лет пиита не простишь
за собственного облика убогость…
Господь и тем являет пастве строгость,
что всех бедней – в Его часовне мышь.
Таков я сам - импровизатор фраз,
жонглёр гармоник, амплитуд и фаз,
знаток с прадавних пор, не напоказ,
бесплатных интегральных исчислений…
Но к камню Данта в солнечной Равенне,
полуденной не оставляя тени,
в гурьбе икрою выметанных масс,
дальневосточных узко-острых глаз
я приближаюсь снова, – здесь-сейчас
иль там-тогда, - координаты зыбки…
Зеницы-осы, бабочки-улыбки
и акварельных ласточек язык.
И здесь же – спутник мой, почти двойник,
пространство крепко взявший за кадык
герой Угры, Бородина и Шипки
и прочих битв на бронзовом коне.
Но маршалы на марше - сон во сне
не мне, другому пехотинцу, в жилу.
Полвека простота моя служила –
кому, зачем?.. «Доколе?» - не вопрос,
зане и ноет шрам, и сломан нос
кастетом. И мотает аритмия
по ямам так, что ямбам не до рифм.
Всё жрать хотят твой ворон и твой гриф,
край отчима, Горыныча и Вия!
Знать, скифа череп сплюснут навсегда…
Но здесь, в Равенне, сонная вода
журчит. Насквозь пропитан полдень солнцем,
над гробом-квадром Данта - гид японцам
лепечет нечто о кругах-путях,
о девяти спиралях-терренкурах,
о свежих, и не очень, новостях,
пропетых в Пятикнижии и в сурах.
И здесь, где далеко за тыщу лет
златятся смальтой своды византийства,
тишь – вдевятеро подлинней витийства,
и девять раз по девять голубь-свет,
спускаясь на лазурный март Равенны,
готов на ноль умножить брендов бред,
тирады поражений и побед, -
лишь пёрышка касаньем... Вдохновенно
с весной бегут по веткам перемены,
сверкает циферблат, как амулет.
И тишью, так похожей на завет,
ложится в память ясноглазый день
в Равенне, где голубка-коломбина
флиртует с тенью Дантовой орлиной
и где сравнима с ядерной доктриной
соском лиловым взбухшая сирень...
В позолотах глухих окраин...
* * *
Запах флоксов, дурман увяданья.
Бело-розовый дым октября.
Вкус прощенья и привкус прощанья.
Полудрёма коры и зверья.
Тихо. Только ребёнок-синица
сыплет маленьких нот дребедень.
А под стылое утро приснится:
храм Крестителя, тёплые лица,
Пасха, звон,
купола и сирень...
* * *
Гриб осенний, рождаясь, шарит
тесный выход из-под земли.
Стылый морок, хозяин-скаред
прячет в угол с добром кули.
Затолкавший жар-птицу света
в свой кулацкий кривой мешок,
ни за что не отдаст до лета
ослабевшему дню должок.
Веет пагубой прель околиц.
Ну, да разве ж нам привыкать?
Над окном - воркованье горлиц:
вот и правда, и благодать...
В позолотах глухих окраин
вызрел алый на ветках глод.""
И вдоль сумерек Ванька Каин,-
кабыздохом, сквозь лень, облаян,-
на охоту, крестясь, идёт.
( ""глод - боярышник )
* * *
Есть правда одиночества. Оно
жестОко, но целительно-высОко.
Чутьё слепца и ястребово око
ушедшему от скопища дано.
Когда-то сон огромный нас слепил.
Затем и сон и явь вместились в малость.
И что же нам в конце концов осталось?
Ответь, осенний ветер, брат-зоил!
Осталось тесной комнаты тепло
на чёрно-сером, на предзимнем свете,
когда уже и в полдень не светло,
когда, всё, долгожданное, прошло
и упорхнули к дальним гнёздам дети...
А я - любви историю учу...
* * *
М.
Кипенье яда вдоль расщелин ада
на миг уймёт подпочвенную прыть. -
И нам с тобой опять, мой милый, надо
учить урок и, не сдаваясь, жить.
Законница, таблица умноженья
не защитит нас от бесстыдства дня.
Но я держу и ток, и напряженье,
пока ты, свет мой, смотришь на меня,
пока негромко и немногословно
мы говорим на нашем языке,
пока ладонь твоя припала кровно,
как будто жизни смысл, к моей руке.
Дитя, как мне осилить эту зиму,
гадать не стану - Бог хранит свечу...
Ты учишь географию - и мимо
разломов почвы близишься к Гольфстриму.
А я - любви историю учу...
Всё брезжит нечто городу и миру...
* * *
Купив билет в июльский Мариуполь,
не тронь грязцы холерного копытца.
В окне плацкарты свет скользит на убыль,
и тамбур козьим запахом клубится.
Опять не спишь всю ночь в мешке вагона.
На кой же снова песня - ноги в руки?
Но кой опять по сгонам полигона
на стыках рельсов-нервов множишь стуки?
Не спи, не доезжая Таганрога,
ты выйдешь на вокзале "Мариуполь",
где в зное - гул пролога-эпилога
про сталь Азова, про руду и уголь -
про всё, что, ни за грош, гоп-стопом банды,
первичным накопленьем капитала,
проглочено. А цветики и банты
Мальвин, и голубкИ - лишь робко-вяло
подсвечивают площадь у театра...
О, город-сад, понятий заповедник!
В игре форматов и в нарезке кадра,
ты, знаю, - не виновник, лишь посредник
в слиянье доз абсурда и металла...
Аз впал в Азов. Заказник Азиопы
базарной пеной тутошнего нала
умножит и топ-сотни, и нон-стопы
безрыбья. Вслед извивам вибриона
чума на суше - сущий хит Шекспиру...
Но сквозь пространство и сквозь время оно,
неутомимо и неутолённо,
всё брезжит нечто городу и миру!
Образ белой голубки осенней свободой промыт...
* * *
Т.С.
На краю октября полон полис огня-полыханья.
Остывающим солнцем пронизан последний твой день.
Нет ответа в словах. Безглагольна печаль узнаванья.
И в фальшивке вопроса с бесстыжестью смешана лень.
Но как вязы молчат! - Сердцевиною, неодолимо.
С бесконечным достоинством гибель встречает листва.
Отпевают тебя - в самой дальней дали от Гольфстрима.
И у здешней Клочковской от стужи болит голова.
Из жестянки от чая "Ахмад" извлекается ладан.
Попик, юный, но с лысиной, синею смолкой кадит.
И замызганный двор, пустоглазый, как дервиш бен Ладен,
мимо двух гробовых табуреток джинсой шелестит.
Нет пощады в словах. А в отчаянье рифмы - тем паче.
Смерть смердит. Ну, а жизнь, не зевая, к поживе спешит.
Черновик и догадка - всё начисто. И не иначе.
Спи, усталая птица - без недоуменья и плача.
Образ белой голубки осенней свободой промыт...
И сотник ста задумчивых людей...
* * *
Так кто же я? Зачем живу на свете? -
Как страшен в безответности вопрос!
Качнутся звёзды, и родятся дети.
И встретит скудной глиною погост.
Но станет глина буйными цветами,
мы ляжем на вечерние цветы -
и свод планет разверзнется над нами.
И вновь воскликнешь неуёмно ты:
"Зачем довлеешь надо мною, небо?
Мой дух живой тебе равновелик.
Зачем, зачем..." - отважно и нелепо
лепечет сердце. И молчит язык.
Nemo
Широкоплечий и великодушный.
А кто и чей? Средь скопища - один.
С какой-то целью плану Божью нужный
предзимего предместья паладин.
Взор, что скорей стремителен, чем точен.
Слух, непокорный кличкам площадей.
Центурион плавнохолмистых вотчин
и сотник ста задумчивых людей.
Се - человек. Без меры мягкосердый
с ребёнком кротким, с женщиной простой.
Но внук Атиллы, а не семя смерда,
но воин неба - здесь, в пыли густой.
И печенег, и славянин глазастый,
и бьющий вдаль Тосканы арбалет.
Полынный отрок. И пропаще-страстный
философ: за семь бед - один ответ.
Живёт. То аритмиею отваги,
то строгой амплитудою Фуко.
А фразы? Клятвы кровью на бумаге? -
Записывает. Жертвенно. Легко...
Он и нежней, и жёстче ...
* * *
Стихосложенье, суть укачиванье боли,
с его лицензией на взлётное движенье,
крылом цепляет всякий раз, помимо воли,
столбцы осин или таблицы умноженья.
И жвал осы неудержимо-жадный скрежет
над снедью гусеницы, над осенним трупом
какой-то всклень единородной нотой брезжит,
дымком отечества над самоедским супом.
Но наваждение - сколь неизбывна всё же
потребность чувствовать своими те пейзажи,
где дождь-анафема - озноб костей и кожи,
где бездорожье лижет крыши экипажей!
Где столь же вечны - заунывны и бесслёзны -
те песнопения, что в избах вдоль дороги
дрожат-пульсируют, пустые пряча дёсны, -
о мокром, глиняном, но теплокровном Боге...
* * *
Старый писатель лучше
знает своё ремесло.
Зря по стерне колючей
вьётся гадючье зло.
Он, на излёте, зорче
щурится и добрей.
Даром, что режет очи
волчий гиперборей.
Даром на плечи сядет
с кашлем про суть вещей
в Сергиевом Посаде
ворон, чернец, кащей.
Варвар умножит грека,
ибо и в русский год
чресел живое млеко
русло своё найдёт
и одолеет зимы -
те, где сто дней тоска
длится неодолимо
снизу - от стоп до виска...
Старый художник кровно
вынянчит полотно -
даром семигреховна
плоть, да и дно - темно.
Даром долбит подрамник
клювом вражина-вран.
Охрой помазанник, странник
в Божий вмалёван план. -
Он и нежней, и жёстче
крон и кармин возьмёт
из уходящей рощи,
ибо - чего уж проще:
скоро и сам уйдёт...
Я здесь, мой фараонов зверь...
Гурзуф, терраса Коровина
Не то, чтоб кофе по-турецки
и густо-красное вино
плясали явно заодно,
но что-то брезжит и от фески,
и от багрового платка
со лба юрзуфского корсара,
когда горчит напитков пара,
соединясь по полглотка
на языке. Широк на море
с Коровинской террасы вид -
из пушек Генуя палит,
и русский бас гудит в мажоре,
поскольку Константина друг,
что ныне бронзой стал воочью,
Шаляпин, петь готов за двух
с утра и днём, и поздней ночью...
И суть террасы высока,
зане в её лучах художник
мне видится не как безбожник,
но как посланник сквозь века...
Все скалы эти вширь и ввысь
за четверть века я излазил.
Нет, брат Гурзуф меня не сглазил -
алкаш, торгаш, меняла-хмырь
не стали путами моими,
и крыльев мне не повязал
зачуханный автовокзал...
Нет, в розоватом майском дыме
трёх абрикосовых дерев -
при входе в чеховскую дачу -
я вижу свой Гурзуф иначе:
седой тяжелогривый лев,
зверь камнелобый, царь и воин,
припал ноздрями к йоду вод.
Ещё сто лет во сне пройдёт,
что из лоскутьев яви скроен,
пока, размяв спросонок зев,
не гаркнет бодрый мой соратник:
"А где же Сергий, младший братик?
Ведь так же розов флёр дерев,
как при Раевских, при Арапе,
при благородном Ришелье.
Где ж брат - в подвале "Сомелье"
иль на каком ином этапе?"
Я здесь, мой фараонов зверь,
мой львище утреннего цвета!
Ты лишь мигни - и в наше лето
я тотчас приоткрою дверь.
Ведь мы с тобою - заодно.
И знай, что в шторм у Аю-Дага
не сдали нас любовь и брага,
что певчего-гребца отвага,
помечена тряпицей флага,
с фелюгой не ушла на дно!
Что ты лепечешь, тишайшая речка?..
* * *
Что ты лепечешь, тишайшая речка? -
Это о ней, о душе человечьей.
Птицею вскрикнул орешник уснувший -
это про нашу бессонную душу.
Травы живые, русалочьи воды,
исповедальные очи природы,
ночью от смятого изголовья
к вам отлетают наши любови.
Вы затаили, лилейная тайна,
белую юность багрового Каина.
То, что в стихе не сбылось, не пропелось,
Вас осенило, озёрная светлость.
Мудрых лесов инфракрасные совы
выловят мышь ускользнувшего слова,
букву склюёт, серебристую мошку,
маленький гений в дерюжке, соловушка.
И запоём мы, и зов наш - безгрешен
в девичьих рощах воздушных орешин.
Колыбель
Брызни в небо просинью и волей,
хлынь на берег сильным молоком!
Ива, словно ангел на виоле,
оживляет ноту над песком.
Меж травинок ящерка струится,
дрёма-dreem, cмарагдовый дракон.
Всё, что с нами обещает сбыться,
гомонит, высвечивает лица,
камышом шуршит со всех сторон.
Колыбель-ладью колышут плавно
хвост русалки и наяды грудь.
И ни зенкам лешего, ни фавна -
лилий-лодок с русла не столкнуть.
А когда на берег сыплет осень
весь багрец погибели своей,
вслед седмице - длятся новых восемь,
восемь млечных материнских дней.
Пусть не я наплывом угадаю,
но и в злом пространстве не унять
ноту, на которой "баю-баю",
заклиная, плёсом пеленая,
лепетала над младенцем мать.
Так и помню - гибко и атласно
надо мной стелила невода.
Уплывала тоже не напрасно.
До родной-речной ресницы, ясно,
до чешуйки помню. Навсегда.
Ни пловца в акватории. И ни чтеца...
Побережье, Покрова
С мексиканских маклюр осыпаются грузно,
в кожуре-гуттаперче, обманки плодов.
По-над пустошью здравниц колышется грустно
Богородицы, всё ещё тёплый, Покров.
Но свежак-ветродуй, налетая к закату
от залива, терзает, как пёс, твой пиджак.
Ни души в Евпатории. Привкус расплаты
за все пряники лета ложится, - как знак
обречённости, - на толстокорые губы,
на шершавые щёки октябрьских дерев...
Ты и сам за всё то, что срифмовано любо,
в жанре прозы ответишь. Насупился лев
у ступеней в старинную книжную залу.
Ни пловца в акватории. И ни чтеца
в поле зренья. И ящерки мало-помалу
утекают под камень сквозь пальцы мальца...
И, как будто бы с жертвенной сцены ацтека,
ядовитые яблоки с колких ветвей
опадают к стопам чудака-человека -
дегустатора слов и лилового млека
с виноградных делянок понтийского грека.
"Не зови никого. Ни о чём не жалей... "
Осенних чар и летних повстречанье...
Лето по старому календарю
Где лёгкость шеи с лёгкостью ключицы
сливается замедленно и плавно,
в предплечье и в предкрылии родится
твоё дыханье, тайною представ мне.
Где узел русой тяжести рассыпан,
и осень на плечах горит и плачет, -
весь дом, как воздух, невесом и зыбок,
и свет нездешних сумерек прозрачен.
Закатное окно теплу раскрыто,
и лето в календарь ушло старинный,
где две недели молится из скита
о наших душах, слитых воедино.
Осенних чар и летних повстречанье -
две первые сентябрьские недели.
Проста ночная музыка венчанья -
вздыхают звёзды, клапаны свирели.
* * *
Сухой ноябрь. Желтеет облепиха
собором спелым каталонской лепки.
И Гауди Антоний дышит тихо
сквозь сизый сон пырея и сурепки.
Куст облепихи празднично и густо
и ягодами полон, и шипами.
Да будет жить, - в царапинах, - искусство,
как раненая нежность между нами.
Да освежит язык мне лёд облатки -
осеннего ковша кружок подмёрзлый,
и нищих туч холщовые заплатки
да светят над зрачком речушки Ворсклы!
Лимонный храм, предтеча каталонца,
колючий арлекин, сорочьи тризны...
Чем ближе стынь, тем кровней проблеск солнца
средь терний, желтизны и укоризны.
С библейским взором взрослое дитя...
Крёстная
П.Б.
Полина, стебелёк, полыни венчик,
с библейским взором взрослое дитя!
За мир и город - слабый я ответчик,
но и меня прости, перекрестя.
Прости мне грех поспешности летучей.
Хоть я тебя, дружок, не позабыл,
я мог бы за всех нас молиться лучше,
когда бы не дорожной пыли пыл...
Платок на голове твоей повязан
монашески. И сумерки любя,
я словно миром утренним помазан,
когда при встрече праздную тебя.
Есть облики со взором родниковым,
есть женщины в селеньях никаких
родные - и молчанием, и словом.
И ты - из них, доподлинно из них.
Ты - издавна, из глуби. Издалёка
травинка брезжит мне меж волн и гор.
Не назначай нам однозначность срока,
луч васильковый, солнечный укор!
Ждёт ангел мой средь гульбищ супостата
крестильной чаши на чужом ветру...
Но Бог вернёт любовь.
И Сам когда-то
к нам навсегда вернётся поутру.
* * *
Памяти П.Б.
Не спасли тебя, милая, слов заклинания,
не укрыли, дитя тростниковое, русое.
Ибо есть в Отчей сини провалы-зияния,
есть земная неправда и гибельный груз её.
И кому б ещё жить? Не тебе ли, Полинушка,
тростниковая флейта, орешника лепеты?
Голубиная тишь, белокрылая спинушка,
сизарями-цветками расплёскана в небе ты...
Знать, уводит Господь с понизовий пречистую
душу-горлицу, юное верносердечие.
Отрыдаю рыданьем тебя. Сиречь выстою
почву черноречивую, пепел наречия...
Через тысячу вёрст в две зари твои серые
окунался и помнил ответа дыхание...
В незабвение, в нерасставание верую:
в нашу первую встречу - в живящую длань её.
Но с борта ты, как с радуги, сошёл...
Серхио де Седа -
Эстебану Эскрибано
Груз корабельный, паруса глагол,
треск переборок в корабельном трюме.
Но с борта ты, как с радуги, сошёл
на краснозём. И приплюсован к сумме.
Плюс - приревнован к треснувшей плите
де Седа, чьё наследство - торба дыма...
Но над гримасой лжи - всегда, везде, -
в юродивой, но высшей простоте
воздушный мост вздымает пилигрима.
Держу дорогу - и штурвала круг
колдобиной из рук ещё не выбит.
Держись и ты, амиго, тинто друг,
пока до дна, самим собой, не выпит...
Я помяну тебя, мой Эстебан!
И ты ведь за мою палому-душу,
дон Эскрибано, сивый пеликан,
при случае один-другой стакан
глотнёшь. И, без меня, сойдёшь на сушу.
* * *
Мы всё плывём, амиго АмерИго,
Атлантикою, волнами индиго,
по выгибу экватора скользя.
Скрипит штурвал, мерцает медный компас,
над мачтой багровеют Марс и Фобос.
Плывём, и путь наш - дерзкая стезя.
Не откажи в любезности, Веспуччи,
позволь из грозовой напиться тучи,
поскольку все бочонки корабля
пусты и источают затхлый воздух.
А сад-фантом Мадрида тонет в розах,
и вздыблен лев на флаге короля...
Что ж, Первому Пилоту всей Кастильи,
синьору флорентийцу, знать, по силе -
такие отчеканить письмена
о снах бразильских, табаках Тобаго,
что письма станут наважденьем мага,
и подлинных Колумбов имена
окажутся в забвенье. А Веспуччи
останется живым в среде живучей,
столь ловко отразясь в кривом стекле,
что сочинитель мифов, плут, холерик
пребудет крёстным двух больших Америк...
"Оле - поёт мадридский люд - оле!"
О чём осенний свет? О жизни-смерти...
Промах
Тот, кто в Одессе высадил платаны,
вполне достоин звания Платона,
а также Аристотеля, зане
иных и нет зелёных насаждений,
чтоб философской вязью светотеней
столь живо бы дышали - на стене
сентябрьской, на теплыни тротуара,
Приморского, к примеру ли, бульвара
иль улицы, которая звалась
недавно Итальянской, а сегодня -
как Пушкинская - стала всенародней,
бо так решила порто-франко власть.
О чём осенний свет? О жизни-смерти...
О броуновской юркой круговерти
мобил, автомобилей, ходоков.
Дробится солнце, сквозь платанов кроны
ложась на лица умиротворённо -
отцов, детей, торговцев, моряков.
Опять стреляли - снова не убили.
Живуч ли я? Великодушен Ты ли?
И то: на схлёсте, сломе - не в тылу -
всё, меченное сутью, происходит.
И сцепкой дней полмига верховодит,
и ангел Твой, спускаясь на иглу,
чьё острие вмещает стражей дО ста,
с улыбкой глядя, говорит мне просто:
"Привет! Нежны платаны в сентябре
и здесь, и на соседней Ришельевской.
Но я тебе не сторож в рифме дерзкой,
в твоей, давно проигранной, игре!"
Он хочет слышать: "Дитятко, Хранитель!
Аз, под тобой,- теснейших торжищ житель.
Но - взявший в грудь просторный - твой! - инстинкт.
Оставь же мне мой звук сердцебиенья,
и в оптике земной, на полделенья,
крутни ещё раз тот, в прицеле, винт..."
В настое зноя растворённый Китеж...
* * *
И воробей купается в пыли,
крылом в июльской плещется полове,
имущества узлы, добра кули
растрынькивая в воробьином слове.
Как вписан в хоку звонкий "чик-чирик"!
Как безупречен росчерк Хокусая
в пичужке той, от коей ни на миг
и не пытаюсь отвести глаза я.
Не оброню улыбки. Не хочу
небесней пенья, щебета земнее,
чем те, что Божьей твари по плечу,
чем Четьи, воробьиные, Минеи.
О, только б не сболтнуть: "Лови, лови!"
Спугнёшь его - себя же не увидишь...
Просторен день - шатёр ничьей любви,
храм на зелёно-золотой крови,
в настое зноя растворённый Китеж.
Без остатка
Теперь возьми моё нескурвленное слово -
на день, на два. А ещё лучше - насовсем.
Оно давно к посмертной лёгкости готово
и кратно тезису "Сим-сим!" и коду "семь".
Дели на месте, чтоб остаться без остатка,
чтоб над канавой, в семь орудий, фейерверк
пальнул бы в полночь, дабы взятки были гладки
с комет весёлых, устремивших брызги вверх...
И не мусоль мои школярские тетради,
где без пол-литра ни бельмеса не прочесть.
Дели их тоже без остатка, Бога ради,
на семь сестёр, на дуги воздуха в аркаде,
на Пятикнижие и на Благую весть.
Пол-осени или полсердца вынуто...
* * *
Подсолнухам снесли косилкой головы,
и тёплый груз свезли на двор, к макухе.
А стебли держат стойку, как Ермолова, -
сухие губы, почвенники-духи.
Пол-осени или полсердца вынуто,
но сам себе гудишь такой же трубкой
шершавой, ибо синь и высь покинуты
иллюзией, гульливою голубкой...
А всё же, стебли, ватки с перепонками,
с удельным весом по Лилиенталю!
Как живы переливчатыми плёнками
те дни, когда мы по небу летали! -
По воздуху заветному индейскому,
вдоль лазерной наводки паутины,
всему, всему, - навязчивому, вескому, -
инопланетны, противопричинны...
Тони и волшебные двери
Мелочь в пенале,- и никель, и медь, -
перебирают школярские пальцы.
"Надо хотя бы за кошкой успеть,
чтобы состряпать похлёбку из зайца".
Надо впервые мне рубль наскрести,
чтобы купить эту книжку в картоне:
речь о волшебной двери. Пропусти,
время-пространство, мечтателя Тони
в нынешний, чуть постаревший, мой дом!
Мне было семь, а ему было восемь.
Через полвека мне шепчут о нём
дух тех страниц, та индейская осень...
Шорох листов - словно отзвук судьбы,
над камертоном сентябрьские ноты,
жёлто-багряные всхолмий горбы,
воздух над синью озёрной губы,
замерших ос пустотелые соты...
Вспыхнут белым в сумраке единороги...
Посадка на остров
Ду ю спик ли инглиш? - Да нет, не дую,
что-то ветра в холстине-парусе мало.
Приласкал бы Англию, моль седую,
но вино в мехах молодиться стало.
Ду ю спик ли рашен? – О йес, дурашен!
С этим я родился и сгину с тем же.
Ветер сносит крыши с домов без башен
и, швырнув до Темзы, уносит в Тежу.
Бормочу своё языком древесным,
то крушинным словом, а то кленовым.
А боднусь ли с дубом – неинтересно
ни с плотвой-уклейкой, ни с вялым клёвом.
Языком дворняжьим лизну, шершавым
свеже-красной марки липучку-спинку
и письмо с любовью, со словом-"лавом",
отослав на остров, пущу пластинку,
где хитрюга Леннон и жук Маккартни
о герлАх стенают настолько страстно,
что любому ясно: склоняясь к карте,
держит руль Британия самовластно!
Три часа – до Темзы по небу, в итоге.
Проблеснёт на спуске речная дельта.
Потемнеют поздних лугов чертоги,
вспыхнут белым в сумраке единороги –
скакуны с зелёною кровью кельта…
В галерее
Лондон полон солнца был и яда.
Человеки расставляли сеть,
чтобы, жвачкой "Орбит" от Пилата
не гнушаясь, жить и богатеть.
Здесь и впрямь - великая столица.
Что ни Squere - по гравию, песку
скачет конь из бронзы, и десница
воеводы тянется к куску.
Здесь и впрямь нездешняя погода -
розы смяты натиском жары.
И напёрстки пришлого народа
боком-скоком вёртки и хитры.
Здесь пиитом с погремухой "Инок"
прорезинен рифмою ЛондОн.
А средь лиц убийц, средь ста картинок
с фейсами Тюдоров,
некто Донн -
Джон-найдёныш, звонник Иоанна -
восклицает взором: "Слово - Бог!"
Сам Господь бы собственного плана
столь открыто, на все сто желанно
ни за что бы высветить не мог...
О львином сердце, вырванном с корнями...
* * *
О львином сердце, вырванном с корнями,
о цезаря бубновой голове
поговорим вполголоса, меж нами,
в горячей мураве.
Свирепый зверь, неловкий чтец талмуда,
не хочет знать колючих, цепких слов.
Но видит сны - и в рыжем сне Иуда
опять предать готов.
Таков он, август, пащенок ущерба,
свояченник непойманных убийц.
Сквозь пурпур династического герба
совсем не видно лиц.
Сквозь выпуклую толщу океана
не слышен субмарины обертон -
а только дрожи гибельной осанна
корёжит небосклон.
Проспать бы на лету лихое время!
Ты был моложе - и вчера зарыт...
Чертополох, бросая в воздух семя, -
над нами семерыми, надо всеми, -
вдоль радуги размыт.
Порыв стужи
Ветер студёный шальной налетел,
наколотил яснобоких каштанов. -
Словно плоды марсианских баштанов,
светятся россыпи глянцевых тел.
Ветер внезапный, богемная блажь,
дерзкою стужею брызжет на листья,
треплет ветвей обречённые кисти,
ломится в форточку - на абордаж...
Кличет, бродяга, всю голь на гульбу -
и багреца, и цыганского злата.
Стынью, немением чакры во лбу
осень его, перед казнью, богата...
Травы охрупчит студёная тишь,
остекленеют до Пасхи лягушки.
Заиндевелых каштанов игрушки
стащит в нору острозубая мышь...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом...
Ночь в Феодосии
Дозревает лоза во дворе на холме Карантин.
Итальянского угля-зубца не предаст цитадель.
Золотятся и тают наплывы закатных картин,
и по жилам кружит и пружинит пожизненный хмель.
Хорошо мне во тьме ничего для себя не хотеть,
доверяясь нездешнему пульсу полночных минут.
Там, где гавань с холмом океану сосватали твердь,
растворяются в вечности зыбкие "ныне" и "тут"...
И уместится в верности тысяча жалких измен,
и звездою уколет - меж датами жизни дефис.
Тени гроздьев исчёркали мел голубеющих стен,
и вдоль глин Карантина хромают репейники вниз.
Хорошо мне с хозяйкою лоз полчаса разделить.
Не беда, что не пьёт, не глотнёт ни слезы "Пино-гри".
Столь полна эта тишь, что пуста говорения прыть.
Я и сам не сболтну, вот и ты промолчи, мон шерри!
Я числом не совру, разве нотой пугну петуха.
Недозрелою ягодой поздний глоток закушу.
Оттого моя повесть о жизни - не то чтоб плоха,
но всё сносится мутью теченья ко лжедележу.
У подножья холма лижет синюю глину волна.
Деревянные рыбы баркасов увязли в песке.
Ну, а здесь, наверху, над репьями парит тишина.
И под ногтем заноза ни мне, ни тебе не слышна,
и зубец цитадели не пискнет у ночи в виске...
* * *
Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
Привокзальное радио снова "Славянку" играет,
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
Снова сутки свиданья с портовой фартовою Кафой
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
Каплет в рюмку мою "Пино-гри" виноградников графа -
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.
Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, -
эти минус три четверти века... Со снимка глядят
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, -
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
Не осталось уже никого с августовского фото,
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года -
карусели приморской дрожат золотые жучки.
Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
Александра - вослед Македонцу, Арапу вослед.
Я ведь сам - иноходец Ивана и сын Константина,
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
но которые живы и набраны чётким петитом
в каждой строчке моей, в каждой рифме - один на один...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.
Помнится белый в порту, из Палермо, корабль...
Неаполь, Старая крепость
Локоть саднит. Вспоминается что ли Неаполь?
С лестницы рухнув, ты крепко к камням приложился...
Помнится белый в порту, из Палермо, корабль,
шайка подростков, влачащих обвисшие джинсы.
Славный декабрь: плюс пятнадцать, и солнце возможно
на полчаса, на зубок, отчего - лишь дороже...
Вечностью дымной синеет Везувий, и ложно
время - вне дрожи сетчатки, вне чуткости кожи.
Плоть ли гранёного мифа, фортеции-мыса
чёрной скалою в оплот Двух Сицилий врастает?
Дух ли Неаполя, запахом йода, аниса
над огнестрельною башней сгущаясь, витает?
Локоть болит, и ребро у бродяжьего сердца,
наискось треснув, скрипит на расшатанной ноте.
Птичку черкни - про глоток италийского перца,
и, нота бене, заметь - на ходу ты, на взлёте!
Лестница, впрочем, вела к изваянью кентавра
в стиле модерн, из зелёного с чёрным металла.
Правил Стрелец декабрём, корешок Минотавра...
Ну, и ни звука - о кознях чужого астрала!
Эпосу - время, метафора вместится в сутки.
В Наполи гладил дворняг ты. И даже мастифа.
Помни Неаполь - не частности и предрассудки,
молодцеватую цельность целебного мифа!
Плато
Есть крепость Каламита в Инкермане
на пьедестале известковых скал.
Когда-то я в Завете и Коране
об этой вещей пустоши читал.
Внизу ютится скомканно, убого
Климентовский могильный монастырь
Гремит железный поезд - мимо Бога,
а едкий выдох кельи - нашатырь.
Но наверху, средь башен и развалин,
средь белых глыб, усыпавших плато,
стоит июль, безмолвно гениален
и Божьим словом полон на все сто.
И мириады веретён-улиток,
усеяв каждый стебель травяной,
прядут своё, свивая некий свиток,
неисчислимы, как перед войной.
Так близко небо! Камни под ногами,
разбитые надгробья и кресты -
в оплёте трав. И мощными кругами
очерчен купол синей высоты.
Весь день - ни человека, ни пичуги.
И лишь в каменоломне - ор орды
бродяжьей: хохот хама, визг подруги -
погибель накликающие звуки
по-над смарагдом почвенной воды...
И пагубным огнём, зрачком Ахматовой...
* * *
И пагубным огнём, зрачком Ахматовой,
доподлинно был порчен Модильяни -
вослед нирване, в безнадёге патовой
теряя нитку пульса, в пьянь-тумане.
Аз, веди-вуду, колдовские пассии,
проказы сглаза и угрозы паса...
"С пробитой грудью ляжешь!"- сквозь фантазии
супружеского диспута-атаса
прорвётся предсказанье. - И сбывается
напутствие, навскидку, мимолётно
озвученное. Смысл и кровь сгущаются,
и пазлы к пазлам прилипают плотно...
А всё ж - Фонтан, Одесса, Евпатория.
Ещё не Киев даже с Гумилёвым.
Песок и море детства. Предыстория
сгущений. И безмерна мира глория -
со львиным зевом и бычковым клёвом!
Птиц-имён неизбывная стая...
Послевоенное
Оглянись в повоенное время -
там над полусожжённой землёю
прорастает репейное семя,
рвётся-силится встать над собою.
Там, в отечестве скудного хлеба,
искалеченных ясеней руки
тянут пальцы к правительству неба
у железнодорожной излуки.
Там облезлая сивая лошадь
тащит фуру с собачьею будкой,
оглашая базарную площадь
нотой гибели - воющей, жуткой...
Там, ухмылками наглы и юрки,
матерщинным хрипя перебором,
пиво хлещут отпетые урки
под зловонным базарным забором.
Как их бесовы пасти хохочут
над слезами предсмертного плача!..-
Значит, живы и Каин, и кочет,
и Лаврентий c мангалом - тем паче.
Значит, правит Иосиф всеправый,
плотоядность лампасов лелея
и атлас простирая кровавый
к занемевшей груди Мавзолея...
Его серые губы смеютя,
под табачными прячась усами,
его пальцы в суставах не гнутся,
мировыми играя часами.
Ссохлись кущи, затинились реки,
и хрипят пневмонийные груди.
И ложатся в суглинок навеки
победители, русские люди...
Катит полночь скрипучую фуру
через долгую чёрную площадь,
и, дрожа верноподданной шкурой,
жилы рвёт бессловесная лошадь.
Оглянись в повоенное время,
где лишь радио - с пеной у зева...
Въелось насмерть когтистое семя
в полкраюхи лихого посева.
Въелось семя родючее в память. -
Пьёт её, к небесам прорастая.
И летит сквозь колючую заметь
птиц-имён неизбывная стая...
1988
И ветром умчало две капли печали...
На картошке
Стояла ты, тонкое, юное диво -
казалось всё поле похожим на бал.
И ветер трепал твою русую гривку,
над кедами ладные брючки трепал.
Щекой в борозде розовела картошка,
едва досмотрев чернозёмные сны.
Глаза твои - ясное утро в окошке,
мятеж и мечтательность синь-глубины.
В кого влюблена студиозочка дивно?
Ну, что мне за дело до детских грехов...
Вздыхала. И поле вдыхало наивный
нездешний настой приворотных духов.
Лишь солнце и ветер тебя замечали.
Лишь я, а не тот, для кого ворожишь.
И ветром умчало две капли печали
обратным путём из Терновки в Париж...
Костёр у моря
Там уголь створок с перламутром
и хереса дубовый яд,
от чьих щедрот назавтра утром
глазные яблоки болят.
Костёр в пяти шагах от моря,
на трёх камнях железный лист.
И априори в соль-мажоре -
печёных мидий пар и свист.
Там грани варвара-стакана,
что трубкой мира, вкруг огня
вращается легко, не пьяно,
о зубы бодрые звеня.
Там нежность пассии поспешной
и откровения Москвы -
терпки, безбашенны, безгрешны,
как запах сброшенной листвы...
Руины пира перламутром,
изнанкой раковин, блестят,
и шайка чаек зябким утром
клюёт примятый виноград...
Среди немногих, любых ли, постылых...
* * *
Полковнику не пишут даже мыши. -
Кому он нужен, старый хрен моржовый,
он, кто опять на кухне лепит вирши,
согрев нутрянку бражкою дешёвой!
Никто не пишет сивому старлею,
в холерный год дававшему присягу.
Власть, - выскоблена бритвой брадобрея, -
всех стриженых опять сведёт к оврагу
или в посадку. Скажет: "Так и было!",
навек под спудом заховав архивы...
А всё ж и нас с тобою жизнь любила -
ночами своенравного разлива!
И потому, старлей мой, пеший маршал,
мы и без войск пробьёмся, без оружья.
Родной асбест и антрацит откашляв,
опять с утра схвачусь за дюжий гуж я.
На здешних перегноях не случайно
зернистая живучесть колосится.
Не зря на тёмных перегонах тайна
за каждым кадром Режиссёру мнится.
Но, смог вдыхая, выдыхая звуки,
уже не жди известий - мэйлов милых
о том, что будешь взят ты на поруки
среди немногих, любых ли, постылых...
Где радость, стрекоза и цыпа-дрыпа...
* * *
М.
Потом, когда по гамбургскому счёту
возмёшь ты в руку синий карандаш,
опять, штрихом, индиговую воду
плесни вживую на песчаный пляж -
на белый берег с молотой ракушкой,
где в полный рост подросток загорел...
Туда, где время сломанной игрушкой
притихло меж упавших навзничь тел,
где от тандыра в срок везёт лепёшки
татарин на рыдване-"москвиче",
где не скребутся, лишь мурлычут, кошки
в окукленном сознанье. На плече
играет зайцем август Казантипа,
и с каждым часом - меньше, меньше дней
до финиша замедленного клипа,
где радость, стрекоза и цыпа-дрыпа,
искрит крылом над россыпью камней...
Светляка бы, сверчка бы, кузнечика...
* * *
Светляка бы, сверчка бы, кузнечика,
маломальскую в гости бы тварь!
Скрипку в помощь бы, жилки да плечики,
хрупко-ломкой души инвентарь...
Зажигая стекло магазинное,
катит зной колесом по траве.
По ночам караоке козлиное
ширит дырку в моей голове.
В пьяном воздухе - дичь обнуления.
Но, едва дочудит козлетон,
снова звуки смычкового пения
золотят человечеству сон.
Свеже-мятный сквозняк сквозь отверстые
августовские окна впорхнёт.
Не смолкайте, сверчки легкоперстые,
и свои, и небесно-неместные, -
Амадеевой церкви приход!
* * *
От большой и воздушной музыки
отпочкуется дюжина слов,
и в неловком мертвецком кузове
повезут меня прочь от даров -
от пахучего белого яблока
и от ласковой кожи твоей.
Попросите, пожалуйста, лабуха:
пусть играет чуть веселей.
Дайте водки могильной братии,
иже в глину втыкает крест,
чтоб совсем отучила врать её -
птицу, лучшую из невест,
голубицу, сестрицу-музыку,
ноту-ласточку между строк...
Выпей, брат мой, за волю узнику -
за надёжный бескрайний срок!
На ходу, на бегу, на лету...
* * *
И боярышник алостью ягоды,
и лиловым султаном будяк
улыбаются в путь мне - без тяготы,
в бескорыстии дружбы, за так. -
Лишь за то, что с седою чуприною,
словно вызревшний чертополох,
на дороге с дикаркой-маслиною,
объявлюсь я, всё так же неплох
иноходца повадкою спорою...
Лишь за то, что по-прежнему жив,
мятый паспорт и хвори историю,
то есть жизни, в карман положив,
снова суть обретаю в азарте я -
на ходу, на бегу, на лету!
И по памяти сверившись с картою,
всё верней по наитью иду...
Брызжет свет от бессмертника-венчика,
от химерных кузнечиков лиц.
Распрямляет предкрылие-плечико
ангелок, нарушитель границ.
Оберег мой, жилец измерения
без окалины и окаянств,
метит путь наш - бескрайний во времени,
бесконечный по стыкам пространств...
* * *
Сладкая жизнь разбомбила мне зубы под корень -
то поцелуи, то с юга креплёные вина...
Смолоду, помнится, ловок я был и проворен,
но горячился. Засим и спалил половину
черновиков и надёжных мостов через реки -
через Евфрат, через Нетечь и Трубеж, к примеру...
Благо, инстинкт восхождения во человеки
не поскупился скрепить изнутри мою веру.
Брал на прикус я озёрную мову в Украйне.
Ангеле мой! Отчего всё летим через ночь мы?
Странно мне дышится тут, где, - и здешний, и крайний, -
я Перворусью зачем-то зову эти почвы.
Брал я на зуб чернозём серединной России -
куры с орлами, Тамбова пчелиные тумбы.
С Пушкиным липецким липкую глину месили,
всё-то шутил Александр: "Ты бы взялся за ум бы..."
Так за бухгалтерский разум я и не схватился. -
Ни синекуры блатной, ни свечного завода
не приласкал. Лишь за гривенник гнутый долбился,
вахту держа, не сдавая секретного кода.
Ergo, в дому моём сильно расшатаны камни.
Скрипы прогнивших стропил, оцинковки казённой
спать не дают мне. И больно измяли бока мне
бесы бессонниц у стенки с фамильной иконой.
Плохо мы, родичи, брашна стяжали земные:
жадно, поспешно - глаза и язык испоганя.
Сколько б ни чтил я умом откровенья иные,
в сердце стучит - лишь предчувствие во Иоанне...
Гуще ничто твоё, Русь. Бездуховнее раса.
Ранят сирень холода перекупщика-мая.
Глажу овчарку чепрачно-стального окраса.
В гости не жду никого. Лишь тепла ожидаю...
Кем бы и был я – без родины той...
Аналогия
Флаг голубой и шафрановый крест –
это моя голубица, Верона!
Сизоворонка, белянка-ворона,
веритас-птица, царевна невест!
Что бы и пел я, когда бы не ты? –
Ты, что у Альп, у сквозной горловины
Приоткрываешь сады-Апеннины,
сея фиалковой крови цветы!
Прапор днепрянский, соломенный крест –
сердцем под догматом вашим рождаясь,
солнцем-лазурью с утра заряжаюсь:
верному – вера,
дитёнку – the best!
Кем бы и был я – без родины той,
что – ясноглаза и плавноязыка –
синь-ключевой запивает музЫкой
хлебного ломтя припёк золотой?
* * *
Дорогим мертвецам наливаю я рюмку багряного,
к незабытым устам подношу поминанье вина.
Не случилось мне, дед мой, ни разу видать тебя пьяного,
но сегодня прошу тебя: выпей со мною до дна.
Неугасшим глазам соберу угощение краткое:
помидоры и хлеб – на двоих за дощатым столом,
средь осенних стволов, под кирпичной оранжевой кладкою –
у садового дома, что крепок ещё на излом.
Иоанн Иоанныч! Не выдохнуть гласных блаженнее,
не найти всенароднее имени и веселей.
Потемнел виноград – твоих саженцев-лоз продолжение,
фиолет «изабеллы» подмешан в воздушный елей.
Эти стебли, увившие стену, – по-прежнему сильные.
Я к ладони твоей потянусь и опять узнаю:
теплоносную линию жизни, наследье фамильное –
широченную руку отцову и лапу свою…
Сторона моя русая – правда моя погорелая!
Что и взять с тебя – водки пузырь иль костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот что от сердца я сделаю:
снова вспомню своих - Иоанна. Николу. Петра.
Не больше часа в белом самолёте...
* * *
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном -
и вы, смутясь и торопясь, войдёте
туда, где правят юности законы.
Там вкус вина смешается и соли,
и там повсюду будет привкус солнца.
Лиловым ветром позабытой воли
повеют с древних склонов колокольцы...
Была ладонь её солоновата,
и горячи нетронутые губы.
Спускалась ночь, почти что без заката,
и лето шло стремительно на убыль.
И юность к окончанию катилась.
к подножью от вершины Аю-Дага.
И всё прошло, забылось и простилось.
И близко всё - каких-нибудь полшага...
Жизнь оказалась щедро, странно длинной -
и ныне так же колко, как в семнадцать,
обводом моря, лунною долиной,
тропою кипарисной пробираться...
И может быть, вы просто не умрёте,
глотнув свободы над волнистым лоном. -
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном...
Меж часовней и пивной...
* * *
Кликни клавишею мыши,
левой, правой – все равно
бывший, выбитый из ниши,
не вписавшийся в кино!
Щёлкни кнопкой-самозванкой! –
Виртуальная фигня
антрацитовой изнанкой
расшифрует колер дня.
Птица Гейтса – чёрный ворон,
в мёртвом поле – свежий нал.
Рыцарь инок сэр Уоррен
вдоль инета проскакал.
Искру высек из брусчатки
Меж часовней и пивной,
вздыблен чёрною перчаткой,
иноходец вороной…
Что нам кости паладина?
Наша смерть живым-жива:
рыщет Русью животина –
в шрамах пёсья голова.
То, острожны лбы обривши,
три реальных бандюка
в три фонтана, с джипа крыши,
метят мнимые века…
Им в угоду «Чёрный бумер»
тает радио-губой.
От пинка холоп не умер –
знай, смердит самим собой!
Здесь, где чёрт танцует с чёртом,
сколь ни молви «чур» да «чур»,
всё равно зацепом мёртвым
сальдо свяжется в ажур,
всё равно – на рупь, но жадно –
в дураки пойдёт игра…
Ты роди меня обратно,
чернозёмная дыра!
Не родишь – с молитвой двину
к черторою на постой.
Кану в кокон-паутину,
лягу в чёрную калину
под калёною звездой…
Крепчал сирени свежий голод...
* * *
Неверный май. Похолодало.
В студёном воздухе - бодрей
горчащего гудка вокзала
сиреневый гиперборей.
Таков наш климат ненадёжный -
то перепад, то перекос.
И нрав наш - тот же: бунт подкожный,
непредсказуемый до слёз.
Крепчал сирени свежий голод
в ноздрях, в грудине, в голове,
и ёжился озябший город
на дальних подступах к Москве.
Там варят, кажется, железо,
чтоб сталью слёзы утереть,
чтоб молчаливый ствол обреза
под рёбра брату упереть...
Быль нашей придури - сурова.
Но есть три света: образа,
от сердца молвленное слово
и тихой матери глаза...
Всё прочее - вполне похерю
и не признАю проку в нём.
А с этой троицей - поверю,
опять поверю в окоём,
где заревом расплава выплеск
похож на неизбежный Суд...
То был, должно быть, город Липецк,
где в мае липы не цветут.
И где малиновки поют в кустах малины...
На волоске
И пережив звонки трёх собственных смертей,
я этот, - видимо, заслуженный, - подарок,
подобно горстке полинявших детских марок,
храню в запасе среди редкостных вестей
как откровенье. И давно уже не жду
от ближнего ни звука одобренья.
Не кворум движет, но лишь случай вдохновенья
способен зыркнуть за табу и за черту.
Волной воздушною и рябью по воде
продлятся кванты и гармоники антенны.
Я опыт к ночи завершу, чтоб без измены
две строчки формул багрянели на Суде...
Но, если эти заклинанья на песке
опять смутят Тебя незрелостью созвучий,
прости, Садовник! Ты и впрямь умеешь лучше
свой глобус-цитрус удержать на волоске...
* * *
Стрижи и жеребёнок-стригунок -
по грудь, по губы в травостое лета.
Как бестолков и короток урок!
Сметает ветер лепестки ответа.
Неужто впрямь гаданьем по цветку
ромашковые заросли когда-то
тебя манили? Гулкое "ку-ку"
сулило щедро и врало богато.
И сникло всё, бесследно так ушло,
бесстыдно так, непоправимо быстро,
как будто погорелое село
покрылось чащей лешего-магистра.
Так цепкой всё опуталось травой!
Ни ласточек, ни жеребёнка-цацы...
И чуять больно день над головой,
и трудно из сырой земли подняться...
* * *
На небо, солнышко! На облако, жучок,
кровинка-бусина, скорлупка из хитина!
Туда, где звонок летний цокот-каблучок
и где малиновки поют в кустах малины.
На небо, дитятко! Там и отец, и сын,
седые оба, не удержат слёз при встрече.
Там синь-вино повинных глаз и соль седин -
два цвета времени предельно краткой речи.
Коровка Божья! Краем рая молоко
струится в русле берегов кисельно-щедрых.
И клевер тамошний белеет высоко
над здешней глиною на двух квадратных метрах...
Хранят по струнке золотые байбаки
склон буерака, будто столбики-солдаты.
А город тих теплом апреля. Дни легки,
где мать с отцом опять касаются руки,
где колко-свеж глоток воды из автомата...
Прямые стебли сквозь кривые дни...
* * *
Мой друг Степаныч, Виктор Черномырдин,
не лез за "шуткой юмора" в карман.
Наперстник "Правдин" и наследник "Искрин",
он в ящике стола держал наган -
подарок Министерства шила-мыла
к одной из важных вседержавных дат.
Но красного словца его посылы
точней лупили в цель, и свод цитат
остался жить - отнюдь не пережитком,
но правдой-маткой явей-полуснов...
Крутясь крутым яйцом в бульоне жидком,
он к статусу хранителя основ
сумел добавить дар творца традиций,
всесилья секты газа и нефтИ,
и дар чутья объёмных инвестиций...
Хоть задний ум родимый впереди
сошедшего с пути локомотива
ещё, казалось, брезжил, но Труба
прошла сквозь всё живое, молчаливо,
сминая в прах и отчие гроба...
И Разинским, и разночинным стругом
пахан-партиец, муфтий нефти плыл.
Но я его своим считаю другом,
зане никто иной меня не крыл
столь пенистой пузырчатостью слова,
как та, что вдруг забулькотела в нём
средь киевского бала наградного:
"Пиши! А мы, ей Богу, всё прочтём!"
Да будет так. Покойся с миром, чёрный
и белый углеводородов маг!
Я помню обаятельный, проворный
фарфор улыбки и пожатье-взмах
твоей десницы, лапы экс-премьера,
подарок флибустьерской пятерни...
Моё - со мной: травы и лета вера -
прямые стебли сквозь кривые дни.
И ты, вальяжный жук, мне впрямь напомнил,
как быстро глохнет славы лабуда!
Степаныч, кто в охотку пОжил-пОпил,
да почивает, воронёный сокол,
да будет там - вне здешнего Суда...
Как ясно дышит время ...
Печенежское море
Меж кромкой вод и кручею иду
Через пространство ласточек снующих,
Облюбовавших глину берегов
Для сотен гнёзд.
Их стаи неустанны -
Они и средь кривых корней сосны,
Подмытых прошлогодним половодьем,
Снуют, ныряют в родовые норы,
На корневищах вислых отдыхают...
А узкая песчаная тропа
Меж охрою пещерного гнездовья
И небом, отразившимся в воде,
Ведет меня всё дальше вдоль обрыва -
Туда, где зелень хвой береговых
Становится туманной, сине-сизой...
Какой простор! –
Земля, вода и солнце
Породнены властительным покоем
И лёгким лётом броуновских птиц.
Как ясно дышит время –
На кордоне,
На стыке печенег, Руси, кипчаков
Приостановлен Северский Донец,
И море в добрых сорок километров
Зовётся Печенежским...
Долог путь -
Над головою зной столетий веет.
А глупая бездомная бутылка,
Сознанье потерявшая в песке,
Не в силах это чувство обескрылить...
Чуть слышный ветер овевает сосны,
И вдоль лучей, полётных трасс касаток,
Так несомненно мира разбеганье!
Так явственно пространство -
Вширь и ввысь!
И за кремлями круч желто-зелёных,
За древней вспоминающей водою,
За полногрудой мощью окоёма
Так видима
Пронизанная солнцем,
Огромная, просторная страна!
Звала с собой в ночное море...
Понтийское полнолуние
В полночь в траве суетятся ежи,
щиплют таврийскую скрипку цикады,
и олеандра нежнейшие яды
шепчут о Борджа, о царственной лжи.
Шелестом влажным ночная волна
плавно ласкает овальные камни,
фосфоресцируя... Аве! - Пока мне
кровна и рифма, и склянка вина,
буду опять заклинать средь зимы:
"Снитесь мне, лунные тени Тавриды,
и, в корабельном эскизе Эвклида,
гнитесь, кедровые доски кормы!"
Аве вам, тайные бухты любви
и кипарисные хвои зачатья,
вам, можжевеловых веток объятья -
сера и золото в дымной крови!
Крым мой, помеченный кармой живой,
рухнувший в море с небес астероид. -
Здесь пуповина планетная ноет,
узел магнитный, сосок мировой...
Полночь. Хмельная маслина цветёт,
мыши летучие множат зигзаги.
Тянутся корни упорно ко влаге,
и продолжается царственной саги
мерный, оплодотворяющий ход...
* * *
Звала с собой в ночное море.
Смеясь, осталась на песке.
И, словно извиняясь "сорри",
мигал маяк невдалеке.
Дрожащею полоской лунной
ты к берегу обратно плыл,
и зов магнитный, голос юный
опять к себе тебя манил.
Пространство, время воедино
вовне дышали и внутри
твоей звенящей сердцевины...
Плыви же к ней и не соври
ни слова о душе и плоти
ни там, тогда, ни здесь, сейчас...
О том, что на автопилоте
заглохла жизнь, прошла в заботе.
А зов тот жив и не угас.
В продолжение странного странствия...
Остров Хвар
В продолжение странного странствия, плавного плаванья,
проходя между пристанью Шолта и островом Брач,
достигает мой белый паром Твоей, Господи, гавани -
на попутной волне, на смешенье утрат и удач.
Приближенье к сокровищу Хвара, ядранского острова,
к сиво-пепельным рубищам тысячелетних маслин
ощущается свежей добавкой акцента-апострофа
к бесконечности ритма, что всюду велик и един.
Ты, мне славшая мэйлы и смайлы, не очень надёжные,
назначая свидания в неких ресурсах сети,
если б знать ты могла, как всевластвует тягой подкожною
не дающий покоя сквозняк, оператор пути!
Не затем ли и я умыкаю тебя у компьютера,
что меня самого солнцедар, ослепительный Хвар
в одночасье срывает с крючка, с поводка и цугундера,
виноградарь мой, сборщик олив, моцареллы овчар?
И пробившись на остров-Буян, не с одной пересадкою, -
самолёт, серпантина гудрон, внесезонный паром, -
собеседницей праздник украсив и ракией сладкою,
о любви не совру я, лишь скрипну, пост скриптум, пером:
ты не первая хворь моя, Хвар! Островной лихоманкою
въелся в душу и плоть ещё Хортицы дымный ночлег.
Но и даже не Сечь утирает мне рот самобранкою,
не пурпурные гидры Ядрана сверкают обманкою,
просто - голубю вслед, всё плывёт к Арарату ковчег...
Спеша по грани встречного движенья...
* * *
Ну вот он и устал, обманщик-день,
который обещал сиять так долго,
как над капотом хромовый олень
на танке-лимузине марки "Волга".
И вот он сдулся, агитатор-век,
где всё же отрок счастлив был над книгой...
С хребта тысячелетия абрек
сошёл и важно обнялся с барыгой,
в цене равняя: с храмом - дури грамм,
а с облаками - пух, скребущий ноздри,
швырнув давно забытой чести хлам
под хвост и под копыта Коза Ностре...
И срама дух от выживших идёт -
уже и пары чистых не осталось,
чтоб грех свой замолить и в огород
укрыться, с помидорами, под старость.
Какое время! Тамошний Шекспир
предвидел лишь отчасти те сюжеты,
что нынешний осатаневший мир
реализует и суёт в газеты.
И чувствуя, что спичи всех писак
не стоят спички от самосожженья,
уходит Бог, вдыхая смог и мрак,
спеша по грани встречного движенья...
Серебряные ходики ковать..
* * *
М.
И здесь, в "тени украинских черешен",
на лавке Гоголь, сгорбившись, сидит,
и гетман, то Брюхат, то Многогрешен,
ховает стыд в богатый свой прикид -
в жупан червоный, в шапку из мерлушки
и в голенища яловых сапог.
За церквой Вия счёт ведёт кукушки
бухгалтерский, из тени, голосок... -
То мы с тобой поставлены на счётчик.
И явственней сегодня, чем вчера,
что Гекла - здешних зол первоисточник,
воронка ада, чёрная дыра.
А эти бычьи, пёсьи, козьи тени,
с присосками ничтожного ума, -
суть бесовщина местного значенья.
И потому им имени - нема!
По крайней мере, для небес - бесспорно...
"Вот облако - мой Гоголь!" - повторю.
А вот - и лоб Тараса, непокорно
вмалёванный в вишнёвую зарю.
И в зарослях крушины и черешен
я волен не по фене куковать,
но со скворцами всех живых скворешен
серебряные ходики ковать,
июнь-июль до неба прославляя,
до виноградной грядки сентября, -
как минимум, с апреля или мая, -
не за подачку-грош, но и не зря!
Поскольку договор - дороже денег.
А Слово - Бог. Не говор - договор!
Мне рифма свяжет золотистый веник,
чтоб вымести на Пасху скотный двор.
Чтоб здесь, в тени украинских черешен,
вдыхал бы я просторней, и полней
наследный гай и луг орловский Бежин,
и пустоши остервенелых дней...
И чтоб тебя, мой отрок тонкокожий,
пришелец-вестник, ангельский двойник,
берёг бы я верней, по воле Божьей,
чем лучший в худшей школе ученик...
Спасибо за редкоземельность прижизненных писем...
* * *
Но дальше той мысли, что все остаются чужими,
должно же быть нечто, помимо дороги в дурдом! -
Дитя непропащее. Неосквернённое имя.
Иль дрожь лихорадки любовной во сне молодом...
Боюсь я читающих губ. Шевелить ими трудно.
Усталые уши, опавшие веки - верней.
Что прожито подлинно, то до Суда - неподсудно.
Дух метил юдоль. Не мирскому судачить о ней.
Спасибо за редкоземельность прижизненных писем.
Читатель скончался, когда зазвонил телефон.
Я в синее море тянулся оранжевым мысом.
слова мои - лишь тектонических скрежетов фон.
Когда-нибудь звук отболит. Но немое смириться
не сможет с собою. И там, в Ойкумене души,
то вздыбятся камни, то новорождённая птица
так родственно вскрикнет, что хлеба ей, хлеба, кроши!
Спасибо, что в 20 и в 30 меня не убили -
того, кто был едок, как некий шотландец Лермон.
Cпеши, моя птица! Твои своенравные крылья
расправлены ветрами океанических лон.
Косноязычие
Тяжеловесность движенья железной фалангой,
рёвы пещерно-шершавые рашен-медведей.
Полных три метра Топтыгина над самобранкой
вздыбятся вусмерть - над циклами энциклопедий.
Цокнут все файлы дискеты твоей забубённой,
воспоминаний вопросы с ответами и многоточья...
Слива-гулёна, вся в кожице юно-зелёной,
с белым июлем сольётся в объятьях воочью.
Глядь - и желтеют в усталых глазах мирабели
прежний, в колючках, кобель и репьи вдоль дороги.
Даром мы снова с тобою как лучше хотели,
даже читали в журнале, что будем - как боги...
Вязок во рту примороженный овощ константы.
А не смолчавший - болтлив или косноязычен.
Но и из глотки выдёргивать яблоки-гланды -
больно, как будто и сам ты из большего вычтен...
Оттолкнувшись от места и времени...
* * *
Оттолкнувшись от места и времени,
поднимается ввысь монгольфьер -
без обиды, вины и без бремени
мнимых чисел и звуков-химер.
Приближается к облаку белому
полный крепкого воздуха шар.
И тебе, загорелому, смелому,
машет снизу рукой Буссенар.
И выходит, что лётчику-отроку
с капитаном Сорви-головой -
он оставил по свежему оклику
над колючей склерозной травой.
Чтоб пробиться с оранжевым знаменем
сквозь барханы и зыби песков,
чтоб прижучить винчестера пламенем
чуингамы полков-чужаков...
Справедливость отваги и странствия,
амперметром искрящийся Верн -
вот все признаки Божия царствия,
где не нужен у власти экстерн.
Монгольфьеры, свежи и доподлинны,
прорастут над монголом земли. -
Лётным шаром, смородиной родины,
золотистой корзиной рули!
* * *
Всё течёт чуть разболтанным ходом -
солнце августа входит в июль.
Масло падает вниз бутербродом,
за пилота хватается руль,
и с развинченным компасом птица,
не в себе, - динь-дилинь, - не в уме,
поспешив к декабрю возвратиться,
подпевает кошачьей зиме.
Знать, поддав ещё газу немного
в этом вспять обращённом кино,
сатана бы и вылепил Бога
из доступного ширева... Но
с каждым днём всё спокойней я знаю,-
по безрыбью мазутной реки, -
что гармония, еле живая,
оклемавшись до месяца мая,
всем чертям подравняет виски.
Мирволит мне, благоволит...
* * *
Подсвечены клубы заката - крылом ли, блюдцем ли летучим,
цезарианской лаской август дарует полноцветье снам.
А в полдне Спаса-Вознесенья сквозит предчувствие о лучшем,
о взлётности, дающей силу горизонталям-письменам.
Ушёл мой брат, Андрей Андреич, и тут же проводили Бэллу...
Вот и летят их души рядом, крылами в рифму шелестят.
В эфире баритон стенает цыганский хит про Сингареллу,
и номер "Юности" измялся - лет сорок пять тому назад.
Там Вознесенский во весь голос антимирам бросает вызов
и множит "Треугольной грушей" архитектоники плоды.
Там Изабэлла Евтушенке даётся самым первым призом,
чтоб длил он, свадеб не считая, литературные труды.
Я знал их лично, но не близко, не коротко. - И слава Богу!
Как замечал философ Лебедь: "Берлоге не вместить двоих
пернатых..." Каждый, руль сжимая, стремится удержать дорогу.
И здесь, на резком повороте, опасно даже тронуть стих.
На скорости за сто, к примеру. Но, в руки взяв журнал старинный,
я пыль лихих десятилетий с обложки "Юности" стряхну.
Как явственна живая тяга, тот юный зов тропы целинной,
дороги, с коей ни сегодня, ни в хэппи-энде не сверну!
Спешу, и вдоль пути витают охранные фантомы теней -
и фат, и сноб, и хрип эпохи, и и тенор дня, и сибарит.
Всё что-то родственное бьётся в обрывках общих сновидений.
А тот, ширококрылый, вправду - мирволит мне, благоволит...
Наследный сад - советские шесть соток...
* * *
Наследный сад - советские шесть соток,
где яблоням - шестой десяток лет.
В углах скучает рухлядь старых шмоток,
в фазенде, что когда-то строил дед
Иван Иваныч, по-родному - Ванчик,
интеллигент до кончиков ногтей.
А ты, всегда бегущий мальчик-с-пальчик,
в стране чудес и дутых скоростей,
нет, не уступишь Броуну в движенье!
Там лоб твой честный морщат кадры дней
бессмысленного словоизверженья...
Но там же - ни свежей, ни зеленей
эдемов, чем семейный шмат землицы,
не сыщет, вплоть до горизонта, глаз.
Как дышит светотень, как вольность длится
там и тогда! Не здесь и не сейчас.
Сад, Салтовка. На ветках возле хаты
густеет Кобзарёвых вишен смак
и чуть горчит. Но ты, с листками мяты,
добавь их в поздний чай. Да будет так,
как спелось к ночи. Ноль луны глумливо
итожит весь твой здешний капитал...
Но лук, но стрелы, - стройные на диво
побеги клёна, груши, дички-сливы,-
внучонку, херувиму светлой гривы,
ты в полное владенье передал...
Где девушка, голубка-коломбина...
Корты
Тепло. И значит, дикая маслина
цветёт у кортов, на пороге лета,
где девушка, голубка-коломбина,
в легчайший хлопок, в облако одета.
От звёзд-цветков, от амальгамы кущей
опять июнь плывёт, настолько пряный,
что чудится: осилит путь идущий
и средь камней насыщен будет манной.
От трёх олив, от их седин античных
столь подлинно амброзия струится,
что знать пейзаж не хочет о обличьях,
лишь первородством осеняя лица.
Когда бы всякий раз моя подача
вонзалась в угол жёлтого квадрата,
я был бы вхож в пейзаж и не иначе,
как жил бы в нём в почётной роли брата -
там, где сестра, игрунья, коломбина
порхает белым крылышком футболки
и, сбросив джинсы, веет властью джинна -
и амброй кожи, и пшеницей чёлки...
* * *
Въезжаешь в серый и туманный Крым,
не в тот, куда козлёнком молодым
врывался на чумазом тепловозе,
когда, расплавлено, раскалено,
пространства терпковатое вино
втекало в губы разомлевшей розе.
Нет, все камбэки в прежние места -
чем дальше, тем опасней. Неспроста
бормочется о тщетности усилий.
Но, может, этот привкус, эту медь
на языке, ты мог бы одолеть
естественною чистотою стиля,
не вспоминая попусту про то,
что в балагане, в цирке-шапито,
хохочут, а тебя к себе не кличут...
Зато у моря ярко-алый груз
татары продадут тебе, арбуз,
чей сочный кус - куда полней, чем вычет!
Средь кипарисов зяблики снуют.
Две трети жизни помнимый уют
где обновлён, где напрочь покосился.
Лишь море необманно. Как всегда,
волна-невеста - страстно молода!
И синий взор её не износился.
Нет, ужин свой не отдадим врагу
и вновь сольёмся здесь, на берегу,
в глотке багряном, в моложавой силе.
А если б вы "Зачем?" спросили - есть
в ночах цикад "пленительная смесь"!
Но вы меня об этом не спросили...
Словно око у иволги, выклюет стихотворенье ...
* * *
Полночные черновики,
бессонница, кресты помарок...
И всё-таки - персты легки,
и всё-таки - хрусталик ярок!
Что б ни было - не предавал
души, крещённой одиноко.
И потому - в просветах срока
глядел в магический кристалл.
* * *
Ты хранил меня, Отче, в рисковой сумятице странствий,
Ты прощал мне дерзанье разведки в разбойной ночи.
Знать, радел не о царстве земном я, лихом самозванстве,
но о притче свечи.
Знать, дотронувшись в юности к первоапостольским книгам,
в пехотинцы не выбился, самоубийцей не стал,
но, под острым углом иноходца, под тягостным игом
лёгкость света искал...
И не знал я от неба царей на косматом просторе,
не притворно-приветливой, на хитрованской Руси.
Каждый раз, просыпаясь, в бодрящем твердил приговоре:
"Ни о чём не проси!
Даже не лепечи власть имущему о снисхожденье,
ибо мечены разною кровью торгаш и певец.
Словно око у иволги, выклюет стихотворенье
ворон, хриплый стервец..."
Ты берёг на путях меня, Отче, затем, чтобы искра
не погасла до срока. Чтоб тополь светил, как свеча.
Но спешат ненасытные годы, но рвутся в магистры
дарвинисты плеча...
Подоплёка сложна. Но в итоге, отпущенник света,
неизбежность маршрута легко я пойму и прийму.
Для полётного плана - первейшая всё же примета:
без единого слова взлетать. И в рассветном дыму...
Из фляги белену и уксус в молоке...
* * *
Из фляги белену и уксус в молоке
в урочный час хлебнув, себя вините, губы!
Ведь гости,что вчера явились налегке,
под утро напились и блудословят грубо.
Что мне до их имён? Но помнится, один
мощами был колюч, как вешалка для платья.
Другой напоминал фактурой пластилин,
что колотым стеклом - сказать бы: "Хэлуин"! -
по самые, по "я" был начинён некстати...
Ну, что ж, прощал всегда. И этих, знать, прощу.
Смирением кровит юродивая сила.
В траве школярских драк оставил я пращу,
когда меня душа о смысле дней спросила, -
когда она, сестра, мне глянула в лицо,
чуть слышно вопросив: "Кто мы и для чего мы?"
Навряд с небес слетит с ответом письмецо.
Почтовый ящик ржав на драной стенке дома...
Я думал вот о чём: Флоренция брела
по девяти кругам в тринадцатом столетье,
не менее Руси исполненная зла, -
казнила, яд лила и Данта прочь гнала.
Но более всего спаслась в Господнем свете
терцинами его и красками своих
пророков от холста - да Винчи, Боттичелли.
Власть алчна и мертва. А Джотто фреска-стих
являет Дух живой и Цель над скопом целей...
Так ни надменных губ, ни желчи в молоке,
ни дружбы в белене, циничный век, не надо!
С наивною сестрой, без скарба, налегке,
на хвое в сосняке спасёмся - вдалеке
от девяти кругов бетонной эстакады...
Ближе к вечеру - звонче стрижей неуёмный мажор...
* * *
М.
Вижу - лилий, цветков-поцелуев, раскрылись воронки.
Вызревает поспешное лето, слепя рыжиной.
Лепестками Лолиты нежны, стебли-талии тонки,
и минуты взлетают, как птицы, - одна за одной.
Будто бусины, нижутся полдни на красные нити -
то узлы хронологии, то междометья "увы"...
И напрасно я чадам твержу: "На бегу не порвите
этой хитро-узорчатой и ненадёжной канвы!"
Мы сидим на скамье под окном, сокровенный мой отрок.
Веет с улицы спелый июнь целомудрием лип.
Гулок двор городской, где лоснятся громоздко, бок о бок,
джип "Тойота" ментовский и "Лексус", торгашеский джип.
О годах крепостного труда ради булки в котомке,
о тебе я вздыхаю, родное моё существо...
Предзакатной кирпичной стены ярко-рыжие кромки
огибают стрижи. И уже на душе - ничего,
кроме глупых людей и смертельно усталого Бога,
начертившего сызнова зыбкого лета узор.
Посидим, дорогой. Поглядим ещё в небо немного. -
Ближе к вечеру - звонче стрижей неуёмный мажор...
Вдоль пёстрых дворов, под уклон. ..
* * *
Въезжаешь в серый и туманный Крым,
не в тот, куда козлёнком молодым
врывался на чумазом тепловозе,
когда, расплавлено, раскалено,
пространства терпковатое вино
втекало в губы разомлевшей розе...
Нет, все камбэки в прежние места -
чем дальше, тем опасней. Неспроста
бормочется о тщетности усилий.
Но, может, этот привкус, эту медь
на языке, ты мог бы одолеть
естественною чистотою стиля,
не вспоминая попусту про то,
что в балагане, в цирке-шапито,
хохочут, но тебя к себе не кличут...
Зато у моря ярко-алый груз
татары продадут тебе, арбуз,
чей сочный кус - куда полней, чем вычет!
Средь кипарисов зяблики снуют.
Две трети жизни помнимый уют
где обновлён, где напрочь покосился.
Лишь море необманно. Как всегда,
волна-невеста - страстно молода!
И синий взор её не износился.
Нет, ужин свой не отдадим врагу
и вновь сольёмся здесь, на берегу,
в глотке багряном, в моложавой силе.
А если б вы "Зачем?" спросили - есть
в ночах цикад "пленительная смесь"!
Но вы меня об этом не спросили...
* * *
Подшит ли гурзуфским самшитом,
сиренью ли здешнею пьян,
сканирую взором промытым
размашистых гор дастархан.
Цветёт первоцвет-самобранка,
и снова - ни вычесть, ни счесть! -
целует под сердце вакханка,
веснянка - невеста и весть.
Флюидами раннего чуда
напитана майская взвесь.
И розовой веткой Иуда
ласкает прогретую жесть
на крыше белёной лачуги
над свежею синькою рам...
Я всё за бровей твоих дуги,
за радугу взора отдам!
Фонтанной пойдём, Пролетарской
вдоль пёстрых дворов, под уклон.
Ведёт башмачок твой татарский
в козырный узорный полон.
Ныряй же скорей, недотрога,
и в душу, и в звонкий карман,
пока не пропил всё Серёга
дружок-караим, Дамир-хан!
Светятся глаз твоих истины...
* * *
Раковинами и книгами
дом мой заполонён.
Русоволосыми играми
детство ведёт в полон.
Радугой растревоженный,
дом отворяет дверь.
Бабушка, сказ хороший мой,
невоскресимый теперь...
Светятся глаз твоих истины,
руки в раденье легки.
Два наших имени - искренние,
радостные стихи.
Жду. Даже если тенью
вздрогнет под вечер сад,
три на веранду ступени
всё же не заскрипят.
С глянца ракушки мраморной
пыль не сотрёт рука.
Мёртв, заблудясь меж рамами,
хрупкий огонь мотылька...
Квохчет обыденно курица.
Грядка черна, как погост.
Искры твоей настурции -
капли мальчишеских слёз.
Бьюсь. Ошибаюсь мерою.
Звучен ли голос мой, тих -
верю в судьбу, ибо верую
в твой первозданный стих.
Храм белоствольный
День смолкнет, песню исковеркав,
а вночь - белеет в очи мне
Аннозачатьевская церковь
на багрянеющем холме.
И строгий лист передо мною,
несбыточной надежды лист,
такой же веет белизною,
гипнотизирующе чист.
Какая жертвенность отваги,
какой отчаянный замах -
оставить слово на бумаге
и колокольню на холмах!
Ни брашен, ни щепоти соли,
казалось бы, в раденье том,
но некий отзвук высшей воли
шатры возводит над холмом.
И церкви белое растенье
сквозь онемение дерев
невестины и вдовьи стены
вздымает к небу нараспев.
Не хлебом, так водой из крана
спасутся дни моих седин,
пока молитва неустанна,
пока извёстка храма Анны
сквозит сквозь киноварь осин...
Этот город знаком мне до камня...
URBI
1.
Этот город знаком мне до камня,
до цветка, до железки знаком -
крутолобый, с большими руками,
с яркой клумбой - нагрудным значком.
Мы товарищи без снисхожденья -
он как старший учителем был
и солёного долготерпенья,
и сознания собственных сил.
И, соратникам без умилений,
нам не нужно неискренних слов.
От реальности и сновидений
между нами - скупая любовь.
От хромающей, послевоенной,
горевой, погорелой поры
не забылись разбитые стены,
заражённые блатом дворы...
Искорёженный лом арматуры
что помалу растаял окрест,
Иванов, возвращённый де-юре
из навек промороженных мест...
Этот город знаком мне до ветки,
до развилки трамвайной ветви.
Здесь, вне плана восьмой пятилетки,
мой невидимый храм на крови -
непреклонная в резкости юность,
всем неправдам отверстая грудь
и отчаянной веры сутулость -
будь, что будет, но всё-таки будь!
Город-знахарь с корнями-руками,
с поседевшим в заботе виском,
пыльный книжник с очками-кругами,
с полуночным в ресницах песком,
друг железный мой, каменнокожий!
Подыши мне в лицо, подыши
этой, на откровенье похожей,
смесью смога и нежной души...
80-ые годы
2.
Просторный город, гул горячий
под майским солнцем молодым,
он - сад, рассадник новобрачий,
он - радужный фонтанный дым
и фон для постановки фото -
спортсмена с вазой золотой,
плюс жениха-автопилота,
что поднял девушку с фатой,
прижав к груди и даже к сердцу
свой свадебный воздушный приз...
А град твой, деятель коммерций,
глядит с ухмылкой сверху вниз,
на глупых-честных, безнадёжных
не вхожих в ненасытный клан,
взбухая на посылах ложных
евангелия обезьян...
Но май вздымает синий купол
над перекупкой-суетой.
Всего и дел-то: бес попутал
твой век, и тесный, и пустой...
Фонтан - фантом и брызги ситу.
Но май, но лето - продержись!
И не держи в душе обиду
на тех, кому не подал виду,
как странно и не по Эвклиду
желанна - и средь скверны - жизнь!
2011 г.
Движенье надёжному смыслу навстречу...
Утро работы
И вот он шагает, весомо, красиво,
в коричневой шляпе австрийского фетра,
и брючная ширь тридцать три сантиметра
колышется, вроде морского залива.
И вот он идёт, боевого сложенья,
в двубортном сукне довоенного кроя.
И дрожжи судьбы продолжают броженье,
и солнце встаёт над Холодной Горою.
Закваска времён закипает не всуе,
и крепнет полётности дней ощущенье -
ведь я его поступь с балкона рисую,
а он всё идёт, не сбавляя движенья.
И вижу я сверху, как лётчик в кабине,
саженные, ватой подбитые плечи,
и век наш, на строгой его середине,
окраин-развалин калечное вече...
Но мой карандаш на шершавой бумаге
рисует не полусожжённые стены,
не чадную свалку в соседнем овраге,
не древо измен до седьмого колена.
И даже не бога в геройской фуражке
с кавказским, прицельно прищуренным оком,
я вижу... Лишь дымный завод нараспашку,
лишь утро отца в его шаге широком.
И в сильном, гудящем до полночи шаге,
во взмахе руки, неизменно тяжёлой,
всё внятней мне время голодной отваги,
мгновение соли крутого помола.
Суровыми днями завещано что-то,
крепившее те несогбенные плечи... -
Неискоренимая треба работы,
движенье надёжному смыслу навстречу.
Всё ещё золотятся надежды коврижки...
* * *
Не спеши, мой дружочек июнь, не спеши,
загорелый, в хлопчатой рубашке, мальчишка!
В твоих дырах-дворах, в давней тёплой глуши,
всё ещё золотятся надежды коврижки.
Даром трижды потом убивали меня
и три раза по тридцать в глаза мне плевали. -
Мне всё памятны духом твои зеленя,
внятен свет с высоты твой, без фальши-морали.
Время сплющено средь матерщинных пространств -
инфузории липнут ко власти амёбы.
Лишь шиповник-июнь вводит в песенный транс
и щенячий язык мой и выгибы нёба.
Бог простит мне грехи молодые мои -
перепевы Адамовых яблочных песен.
Я ведь знаю, что тихие радуг слои -
чистозвучней в июне, чем Армстронг Луи,
чем, наверное, в консерватории Гнесин...
Небеса нескончаемы и осиянны...
* * *
Здесь Дубровник и улица Нико Теслы,
инженера магии сербо-хорватов.
Здесь, в гнезде Тарабича Дино,- не тесно,
в чистоплотном приюте на 20 квадратов.
И окно не то чтобы прямо на море
распахнулось, но - в направленье Ядрана -
к тем откосам, над коими априори
небеса нескончаемы и осиянны.
Небеса, чьей милостью свет, не слабея,
проникает сквозь жалюзи, стены и крыши...
А чуть сдвинешь фокус: на метр левее
подоконника - любятся голуби в нише.
А правее окна, под навесом пиний,
мушмула дошла, и вовсю золотятся
те плоды, что в Тавриде и на Сардинии
ты срывал. И теперь мушмулой Далмации
закуси глоток "Жеребцовой крови",
ну, верней, не глоток, а гранчак-стопарик.
И вдохни тепла черепичной кровли
пополам с прохладой античных арок.
И скорей на волю, в одной рубашке! -
В середине мая дозрел Ярило
над Ядраном. Ярятся фортеций башни,
белый камень-упрямец бугрится силой...
Здесь Хорватия - родина солнца и Теслы,
тесляра ещё тех сундуков потаённых
и ларцов Пандоры. О если б, если
не голубка... На белых, над синью, склонах
вижу профиль Тарабича Хайруддина,
босняка, с хорватицей-Анной, женою.
Будит Дино осколками сербская мина
рано утром. - Чтоб он свояка-славянина
кавой-кафою-кахвой поил заварною...
Тридцать первого мая закат...
* * *
Что тебе хитроумия синтез,
все лукавые сцепки идей?
Ты одно лишь за скобки и вынес -
первородство счастливцев-детей.
Как по-летнему ласково-зноен
тридцать первого мая закат!
Так восходит над плоскостью воин
в нелинейности координат.
Золотятся сакральные сроки,
где рождается лета родник,
где опять в молодильном истоке
отражается Любящий Лик.
Весь ты - в Нём, словно в летнем начале,
всем чутьём, молоком на губе,
всею сутью живучей печали...
О, как в двери ломились, стучали
те, кто вряд ли пробьются к тебе!..
* * *
А если до июня доживал ты,
то каждым днём июньским дорожил
и чувствовал, влюбляясь, – ветер с Мальты,
акаций запах, хлопанье ветрил.
И если добредал ты до июня,
то возвращался от избытка сил
в гортанно-белый город Ла-Корунья,
где ты полдня, во сне, проездом был.
Но пуще всех – таврический поселок,
где зреет густо-красное вино,
в тебе, июньском, ярок был и колок,
был на все сто – с тобою заодно.
Там брызги – на сандалиях подножья
вулканов и шиповниковых гор,
там просветлённый привкус Царства Божья
хранит в себе рубиновый кагор.
В ночь уплывала ласковая лгунья,
чуть серебрясь и «чао» говоря...
Но ты, коль добирался до июня,
уже готов был плыть до сентября.
* * *
Прохладная нынче Троица,
и холоден века край.
Красой на три дня покроется
шиповника колкий рай.
Тоска о минувшем времени,
невидимый миру плач -
какого ты роду-племени
не спросит ночной палач.
Не спросит судьба родителей,
какое дитя им дать.
Всё горче теперь, всё мнительней
гляжу на отца и мать.
Мне истины той не вымолвить,
которая им нужна,
и ни для кого не вымолить
земного незлого сна.
А чадо моё пшеничное,
которое в сердце нёс,
давно про своё, девичье,
по-своему морщит нос...
Но жду я: "А вдруг устроится! -
Мы с ниткою свяжем нить.
И станем друг другу на Троицу
в июньский звонок звонить..."
Каждый двухсотый живущий...
* * *
Каждый двухсотый живущий - потомок Чингиза,
а из рифмующих - каждый, пожалуй, десятый.
Думаю также: достоин отдельного приза
брат мой любой во Христе, по отдельности взятый.
Но и свояк мой, коричневый воин ислама,
в войлочной шапке душмана, в халате талиба,
в рай попадёт. Ибо верность не ведает срама -
от Целебеса целебного и до Магриба.
Камень Каабы рифмует с константою Планка
строчку Корана и куба первичное имя.
В чёрных чадрах золотистые магометанки
шепчут "Аллах" и вдыхают мечту о "сим-симе"...
Солнце восходит, Восток подступает вплотную.
В яблоке глобала червя несытого нежить
выела суть. И бесстыдно истрёпано всуе
имя Того, чьё дыханье над звонницей брезжит...
И по каким виражам ты спешишь в кольцевые
гонки, Империя пороха, чая, жасмина?
Время - воронка, спираль. И счета лицевые
вновь обнуляет Чингиз, разоритель Пекина...
Маяк на Утёсе
Кучук-ламбатский каменный Хаос -
столпотворенье глыб тысячелетних.
Затейник и игрун не из последних -
резвившийся нал берегом колосс...
Венчает циклопическую прыть
Утёс, поросший травами и хвоей.
Но око его, буйное-шальное,
ресницами ветвей не заслонить.
В гранитном смуглом лбу оно горит -
то теплится реликтовой лазурью,
то, блажью переполнясь, бычьей, турьей,
угрозы мечет за далёкий Крит,
о давних вспоминая временах,
о вечно-синих струях-Дарданеллах,
о янычарах, кровожадно-смелых,
с глазами, как вино "Кара-Чанах".
О жарко-пыльных ханских городах,
о шишаке-тюрбане, с минарета
стенавшем правоверные заветы.
О дымчатой мечети Чатыр-Даг...
И вночь скорбит о терпком прожитом
циклопье фосфорическое око.
Луна приходит с тюркского востока,
но Крым уже просторно и широко
покрыт казачьим звёздчатым шатром...
Всей яви ярь, Ядрана все излуки...
Далмация
Далмация, Ядран. - Сквозь дымку лет,
сквозь фимиамы истуканов Рима
всё побережье выпукло и зримо
за два тысячелетия ответ
открыто держит. Стены крупной кладки,
сторожевые башни городов,
Дубровника и Сплита, без усадки
стоят в дозоре. И без лишних слов
хранят свой выбор. Времени стремнина
развёрнута в пространстве столь светло,
что спору нет: на римские руины,
на круг славян и мир аквамарина
с небес благословенье снизошло.
От мела стен, от охры черепицы,
от мая в нескончаемом цвету
исходит тонкий запах медуницы,
струится то, что только в детстве снится,-
и радугой, и счастьем, - раз в году...
Всей яви ярь, Ядрана все излуки,
все цепи драгоценных островов,
наследуя, прими в зрачки и в руки
из дряхлых лап цезарианских львов.
Дабы над синью белые хорваты
на внятном, до кровинки, языке
для северского вымолили брата
ещё пять дней отсрочки от расплаты,
от краха долгостроя на песке...
"Всем расскажи - взывает баба Вука -
прекрасней нет Далмации моей!",
и в восемьдесят лет крепя науку
о ракии, живительнице дней.
"На завтрак рюмку и на сон грядущий -
все хвори пересилит, до одной!"
Ядран ярится, веют мёдом кущи.
Сажает "Дуглас" Лётчик вездесущий
и длит благое Слово надо мной...
Присяга - пленных в слове не щадить... ...
* * *
Чтоб ворочать кубами воздушными
и слоями времён и пространств,
родились мы с тобой непослушными,
нетерпимыми к фальши убранств.
Для снованья небесными сферами
и для выбора координат
нам хребет выпрямляли галерами
Хаммурапи и Понтий Пилат.
И теперь оптимальною хордою
наша лодка, вдоль опта, плывёт -
над землёй, неприкаянно-гордою,
чуть живой от посул и щедрот.
Так не спрашивай времени-имени -
ни за рупь, ни за два не скажу!
Кто я им? - Их усохшему вымени,
их продрогшему в дым шалашу?
Косноязычие
Тяжеловесность движенья железной фалангой,
рёвы пещерно-шершавые рашен-медвдей.
Полных три метра Топтыгина над самобранкой
вздыбятся вусмерть - над циклами энциклопедий.
Цокнут все файлы дискеты твоей забубённой,
воспоминаний вопросы с ответами и многоточья...
Слива-гулёна, вся в кожице юно-зелёной,
с белым июлем сольётся в объятьях воочью.
Глядь - и желтеют в усталых глазах мирабели
прежний, в колючках, кобель и репьи вдоль дороги.
Даром мы снова с тобою как лучше хотели,
даже читали в журнале, что будем - как боги...
Вязок во рту примороженный овощ константы.
А не смолчавший - болтлив или косноязычен.
Но и из глотки выдёргивать яблоки-гланды -
больно, как будто и сам ты из большего вычтен...
* * *
Шафран-река, до дна прогретый Маныч.
Под илом русла - глина, мел, гранит...
Желтеет Владислав Фелицианыч
и зеркало, и Сирина бранит.
Залив чухонский не шепнёт ни слова,
и сам я молча лист чабра сорву
там, где зернистый почерк Гумилёва
расстрельным днём просыпался в траву.
Двуцветна ворожба твоя, Воронеж,
на чернозёме - снега сочный шмат!
Прими, к каким низинам ты ни клонишь,
от Осипа небесный постулат.
Где ни приткну я на ночлег "девятку",
в пределах рассупоненных равнин,
повсюду режет в очи правду-матку,
размякший свет сжимая в резкий клин,
всё та страсть, первичная в основе,
язычески-ритмическая прыть,
в запястье тяга к отворенью крови,
присяга - пленных в слове не щадить...
Холмы в снегах - белей, чем неофиты,
а, преданные в оттепель, - черны.
В каком же русском городе пииты
не казнены, не мёртворождены?
Но на живом дитёнке снова мета:
в яремной ямке - талый сок земли...
Поэтам места среди торга нету.
Но с их руки - искупит зиму лето,
и, верная Христовому завету,
вскипит стократно рыба на мели...
Но лишь здесь - голубые улитки...
Погоня
Дрожит над степью Зодиак -
звериный, птичий, рыбий Пояс.
И режет грудью влажный мрак
мой гончий зверь - полночный поезд.
Из тьмы меж Курском и Орлом
хрипит вослед ему собака,
но, наклонясь железным лбом,
он мчит вдоль нерва Зодиака.
К бурьянам полная луна
сползает в полудрёме юзом.
Лишь он, стальной кентавр, без сна
частит по рельсам жарким пульсом.
Лишь он несётся по степи
и снова мне сквозь чад вагона
стучит в виски: "Не спи, не спи!
Не спи - бессонницу копи,
погоня звёдная - бессонна..."
* * *
Только там, за каймой окоёма,
за крутой неизбежной чертой,
дети блудные, будем мы дома -
под своею искомой звездой.
Только там - наше лучшее время,
неподсудная наша судьба,
начинённое порохом семя,
Ойкумена высокого лба...
Но лишь здесь - голубые улитки,
истомлённая ливнем трава
оживляют спиральные свитки
галактического вещества...
Но лишь здесь - три сосновых ступени
под ступнёю босой заскрипят,
и давно отлетевшие тени,
дрожью зябкою тронув колени,
покачнут вспоминающий сад...
Ну, не день, а сплошная удача...
Горожане
1.Почтальонша
31-го марта настигла весна
город мой, неприсмотренный Богом,
где всю зиму в упор ни покрышки, ни дна
не просматривалось за порогом.
Но о том, что опять Возрожденье грядёт
просияла Флоренция неба.
В подворотне звенели стаканы "Вперёд!"
над газетою с закусью хлеба.
Чернозёмы околиц накрыло тепло
вслед почти полугоду ненастья.
Одуряюще с крыш и карнизов текло,
и рукой помахала мне "Здрасьте!"
почтальонша румяная, маковый цвет...
Не спеши, госслуживая, мимо!
Мне письмо бы - из Крыма, к примеру, привет
иль открытку с туманом Гольфстрима.
Иль хотя бы строку из тех пальмовых мест,
где мы сроду с тобой не бывали,
где белейшие ткани кофейных невест
в квартеронском плывут карнавале...
2. День удач
Откровенье - по майскому городу шаг
в дни любовного птичьего писка.
Розовеет в лохматых зелёных пучках
благородным соцветьем редиска.
Льётся солнце и ярким узором горит
на сермяжном казённом халате.
И лоточница, чуть приподнявшись, парит
над весами - в изысканном платье.
Утончённая леди мусолит рубли,
серебро высыпает на сдачу...
Глядь - и 5-ый трамвай из-за шара Земли. -
Ну, не день, а сплошная удача!
3. Мороженщик
Жара. Замри, не говори -
ни так, ни в рифму, ни верлибром.
Зной полдня, как картошку фри,
запить бы впору литром-сидром.
И вот, на схлёсте двух дорог,
как будто вызвонив побудку,
пугнув кругами гиблый смог,
прохладный торг открыла будка,
чтоб жаркий лоб мой охладил
мороженщик Мафусаил,
лелея сизую слезу
на перламутровом носу.
Чтоб, склеротической рукой
взмахнув средь полисов и весей,
серебряный товарец свой
метнул он гирькой равновесий
на атомарные весы,
чтоб вновь на уровне молекул
бодрей затикали часы,
и бяша, всех живей, замекал...
Судьба скупа на скипетр. Но
заметь, что с ним бесспорно схоже
Мафусаила эскимо. -
Цитируй же, рискуй! Но - строже.
Где золотится даже старый веник...
* * *
С Христовым днём, с Пасхальною Седмицей,
с приходом Благодатного огня
в письме e-mail и в пиццикатто птица
уже с утра поздравили меня.
И то сказать - так тускло зимовали,
так вмёрзнув в трезвость каторжанских дней,
что пряный лист апрельской пасторали -
и зла пьяней, и зелья зеленей!
До самой Пасхи огрызался стужей
и корчил рожи ветродуй-Кучум -
шаманский сын, сибирский склад оружья,
в трухе треух, в соломе задний ум...
Нет, не сростёшься с климатом проломов,
поборов и напоров ледяных.
Законник Каин и охранник Громов
на пару взбухли на дрожжах родных,
а ты - всегда чужак, всегда не местный
здесь, где твоя прокантовалась жизнь...
Но над нулём, над минусовой бездной
до Пасхи на упрямстве продержись!
Когда ж настанет Светлый Понедельник,
где дети, с визгом, брызжутся водой,
где золотится даже старый веник,
ты улыбнись, предубеждений пленник,
над блажью их, отважно-молодой...
Парит чумак Лука с волом широколобым...
Пасха
Со львом крылатым Марк и с ангелом Матвей,
и труженик Лука с волом ширококрылым...
О, купол удержись! О, влажный ветер, вей!
Когда идёт апрель, то жизнь ещё - по силам.
Пасхальное яйцо рубиново горит
на паперти в руке калечного подростка.
Пробьётся бытие сквозь окаянный быт,
и брызнет белизной церковная извёстка.
Светлынь, а паствы нет, достойной взлётных стен,
и в пастыре земном - убогость лицемерья.
Недаром балаган фальшивых перемен
нам жаловал сполна наследие безверья.
Как храму устоять, когда душа пуста?
Дай воздуха, апрель, удушливым трущобам!
Так солон в купол путь! - Там, у крыла креста,
парит чумак Лука с волом широколобым...
На Красную горку
Вот и угол больницы, где бледно-весенней улыбкой
попрощался со мною Иван мой, предчувствуя смерть.
Та апрельская боль возвращается смутою зыбкой.
Но не лучше побег от неё – карусель, круговерть.
Вот и стены тюрьмы, где Василия били кастетом,
как за тысячу вёрст, на Лубянке, костили Петра…
На Холодной горе освежили салатовым цветом
бок тюряги весенней. И солнце сияет с утра.
Сватья-баба-судьба, как верна твоя злая натаска!
Снова в дуре-копилке хохочет над старостью медь.
Стал я сивым и яркому колеру верю с опаской.
Отчего ж до сих пор
не устал поутру молодеть?
Что же держит нас здесь – на просторе, мазутном и плоском?
Ты ли, ветер-свежак неиспорченных вешних времён?
Не бурлацкий же стон, не уста же, залитые воском,
не борца же за светлое завтра
в зенице патрон?
"И не стану я клясть косоротое хищное время" –
говорил я вчера и сегодня скажу наперёд.
Улыбнётся Иван не простой, золотой, теореме:
жизнь и хвори минуют,
а Пасха все дОлги вернёт...
* * *
Ход событий, последыш Батыев,
не твоим я подловлен курком,
коль Гурзуф, Севастополь и Киев
ободряют пасхальным звонком,
коль звонят поутру, как сначала,
прорываются вдоль проводов,
и за окнами вновь зазвучало
время белых, на вишне, цветков.
Что ж, как Пасха с ведьмачьею сходкой
да с маёвкою переплелась?
Соль акафиста буквицей кроткой
подверстается в алую вязь...
На родном языке позвонили -
по весне, по добру, неспроста!
И - "Воскресе!" - опять воскресили
стихолюбца без рифмы - Христа.
Разве ж плечи сломает сутулость,
разве сникнет душа наугад?
За Атлантикой к ночи проснулись,
и оттуда - "Воскресе!" - звонят...
Вне зла и вне времени прикосновенья...
* * *
Невесел мой взгляд из окна коммуналки
на грязно-кирпичные стены колодца
во двор, где акаций колючие палки
отчаянно тянутся к зимнему солнцу.
А всё же и в этом суде мне доступны
вне зла и вне времени прикосновенья.
И музы ступни, никому не подсудны,
минуют замызганных маршей ступени.
Зашепчешь "Теплей...", на груди затихая.
Нет в мире предательства, стужи, злословья.
И я наше чудо тепла называю -
небесною рифмой, земною любовью...
* * *
Там, где Лугань, июльскую былую,
сплошь затянули ряска и мазут,
в белёном доме по сей день живу я,
и те, кого любил я, в нём живут.
Там, в трёх шагах от Каменного Брода,
известного бандитского гнезда,
всё лето напролёт - тепла погода,
трава пахуча и вкусна вода.
Ароль, щенок окраса капуччино,
щеку мне лижет, лая вслух пароль.
И льётся с облаков первопричинно
Господний свет на пыльную юдоль.
И две души родные дышат рядом
хранительно. А, в десять яблонь, сад
вздымается бескрайним вертоградом
над той Луганью, сорок лет назад.
Одежда там бедна. Теперь наглее
топорщит перья и хвосты шпана.
Но похвальба лабазника-плебея
едва ли дальше Лопани слышна.
Расшатан мост над сохнущим потоком,
и май горбат, и обескровлен труд...
Но день спасён мой - тем щенячьим оком,
тем солнечным степным юго-востоком,
где в доме белостенном невысоком
меня до самой поздней ночи ждут...
Под "фью" и "фифти-фифти"...
Уличная сирень
Под "фью" и "фифти-фифти"
залётного скворца
оконные финифти
бульварного кольца
промыто воссияли,
и хлынуло тепло
на полиса скрижали,
кромешные зело.
Над местностью казённой,
чей колер - серь и хрень,
душой зажглась, не кроной,
бездомная сирень.
У Южного вокзала,
чья песня - пьяни харк,
сирень себя сжигала,
подобно Жанне д'Арк.
О, уличных растений
поэтова судьба! -
УФО, Сафо в цветенье,
задворков голытьба
так жертвенно светилась
в лилово-голубом,
как будто жилка билась
у камня под виском.
О, мая, мая мантры,
мажорных нот скворец,
достойный и Синатры,
и Сирина певец!
Он массам населенья
"Не тронь - звенит - не рви
цветков сердцебинья,
ветвей живой любви!"
Старая конура
Пел ветер - очи с поволокой -
качался в ветках бузины,
и хмель бузинный кособокий
глотал из влажной глубины.
И затопила дни апреля
волной встающая теплынь -
стволы сквозь кожу зеленели,
и вдоль ветвей сочилась синь.
И меж стеклом и ставней дачи
зарделся мотылька фитиль.
А в круге конуры собачьей
роилась солнечная пыль.
Был населён скрипучий ящик,
ледащий, траченный паршой,
бездомной чьей-то, немудрящей,
но вдрызг лучистою душой!
* * *
Уже грачи любовно стонут,
и трелью трубчатой скворцы
зовут из приземлённых комнат
к паренью листьев и пыльцы.
Уже кряхтят грачи гортанно,
латая хворостом гнездо,
и жёлтый скворчий клюв трёхгранно
остервенел на верхнем "до".
О, крыльев свадебные взмахи
и призменная дрожь пера!
Сирени влажные рубахи,
свеженадетые с утра...
О, переулка хмель зелёный,
киноафиш ковбойский бред!
И отроческий взор - влюблённый
в лазурный,- в пятый ряд,- билет...
Пьянчуге - грош и пёрышко - пичуге...
* * *
Медвежья кровь и птичье молоко
нас не оставят авитаминозу
на поруганье. Термин "рококо"
наследует барокко и легко
в себя вмещает и репей, и розу.
И множество иных простых вещей,
положенных, однако же, в основу
инстинкта выживанья - средь свищей
пространства, средь двуногих овощей,
враждебных в корне - и числу, и слову.
Теория побита молью, друг,
а древо жизни зеленью клубится.
Когда ж тебе, к примеру, недосуг
витийствовать, блесни пальбой с двух рук,
по-македонски, - воинством амбиций.
Ведь лишь в отваге оживает речь
сердечности, опорных стоп поступок.
Чтоб подлинность идеи уберечь,
храни катану, самурайский меч,
в готовности в любое время суток.
Едва ли отчей тактики размах
достигнет тектонических разломов
и островов, где дышит в трёх строках
дух сакуры. А что же до "Ямах",
стартующих резвее, чем Обломов,
то - в бездну.ру, в стратегию-облом,
по-птичьи заглянув, островитяне
останутся собой - со смелым лбом,
со щебетом, сполна и поделом -
не иноки, так инопланетяне...
Прости мне спич о птичьем молоке,
босой Басё в бамбуковой лачуге.
Отпущенник барокко, налегке
я всё своё несу в одной руке:
пьянчуге - грош и пёрышко - пичуге.
И здесь, средь простоглазой пустоты,
где быт и стыд - отстойны и затратны,
япона-друг, дорожные кусты
худы по-волчьи и не так просты,
как кажется... Но нет пути обратно.
Я многих знал, помеченных стихами...
Памяти Бориса Чичибабина
Надежды не сбываются. И в этом -
обязанность и право бить дуплетом.
И в шахматы игра, и в карамболь
шлифуют это нужное уменье.
Всяк, видящий затылком, без сомненья,
и перец перемелет свой, и соль.
Расчёты - приблизительны. Напрасно
Троянская жена была прекрасна,
и Пенелопа пряжу берегла.
Всё может быть. Однако, не по плану.
И только сдуру, смолоду и спьяну
мы верим в обаяние числа.
Подобно сну с самим собой валетом
опасное искусство - быть поэтом.
Я даже титул этот не хочу
произносить. Вернее, опасаюсь
гневить судьбу. - Ведь, лишь пробьётся завязь,
как тотчас жди и тлю, и саранчу.
Я многих знал, помеченных стихами -
с их краткой верой, с долгими грехами. -
Любя из них, живых, лишь одного...
Но этого достаточно, ей Богу.
ведь редкому из нас, единорогу,
дарована единственность его.
Дано неукротимое уменье
на глине замесить стихотворенье,
зачать слова уже не от ребра -
от кровеотворяющего ритма...
И лишь тогда рождается молитва,
когда на жизнь и смерть идёт игра.
Упиться - стыдно. Уповать - не надо.
Уже и то немалая награда,
что осень на погосте хороша. -
Текучий пламень поминальной водки
омоет сухость огрубевшей глотки.
Так и живём, на краешке гроша
поставлены. А о тебе, кто умер,
то снова зачастит под сердцем зуммер,
то застрекочет жилка у виска.
И взор твой брызнет синью васильковой,
светлынью кротко-дерзкою, рисковой
из-под бровей, лохматей колоска.
Надежда - лишь ребячий сон. И всё же
мне верится, что, раньше или позже,
нам будет встреча тайная дана.
Почти без слов. И только осень снова
плеснёт нам по глотку вина земного,
пронзительно-небесного вина...
И бьющие пенальти львы...
Сечение
Давным-давно, когда ещё плескались
по ветру платья красные в горох,
глотал ты молча отрочества зависть
к герою, с кем сравниться ты не мог
ни шумной славой, ни счастливой лыбой
на честном рассекреченном лице.
Озвучив мысль, что Лев Толстой был глыбой,
ты мерил треугольник АВС,
в согласье с Пифагором и Героном,
и биссектрисой в точку попадал.
Но там, за фоном дней, за чашек звоном,
звучал, как камертон, другой астрал,
где плыл ты, самым первым космонавтом,
в янтарной капле капсулы "Восток"...
Смириться ли теперь с реальным фактом,
что жизнь прошла, что зря растрачен срок?
Похоже - стоит только раз запнуться,
закрыть глаза на, - малое зело, -
но зло... На слабый зов не оглянуться,
чтоб сквозь тебя - летающее блюдце
по резкой биссектрисе прочь ушло...
Март на Дворцовый набережной
Студёной чистой синевой
просторный город затопило.
И туч растрёпанных ветрила
неслись над вздувшейся водой.
А на тугой спине Невы,
мешая отраженья, плыли
грифонов вздыбленные крылья
и бьющие пенальти львы.
Роились блики ста измен
в зеркальности дворцовых окон.
И херувимской лепки локон
лучился зайцем с ветхих стен.
Но обновляющей водой
прочь с атрибутов соль смывало,
и вязь фасадов оживала -
промытою и молодой.
И было славно нам глядеть -
как петь! - вдоль солнечного ветра
на юный мир в наряде ретро,
набухший мартом, словно ветвь!
И, отразясь за парапет,
сиял в волне первопричинной
твоей ушаночки овчинной
горячий, яркорусый свет.
В пространстве солнечных дворов...
Двор по утрам
Вдруг, словно кровь мне отворило,
толкнёт, плеснётся в жилах сила,
и в будке ржавой спрячет сор
до края полный солнцем двор.
Смеются у подъезда дети,
и альфой, и омегой метя,
и пряча листья сентября
под переплётом словаря.
В пальто до пят и в камилавке,
старуха греется на лавке.
Судьбой ли, Синей бородой
ей дарен голос молодой?..
А ты, душа, за сизарями,
читай, поводырями в драме,
вспорхнёшь и сядешь на карниз.
И всё в тебе - и высь, и низ.
Но средь листвы и зыбких пятен,
средь известковых голубятен,
в пространстве солнечных дворов
витает полнота даров.
Взлетай! Настанут кои лета,
и оправдаются приметы,
когда в поношенный хитон
оденет крепкий торс Харон.
Всю ночь неузнанная птица
над Летой тёмной будет биться...
А утром, ярким, словно встарь,
опять влетит во двор почтарь.
Тридцатилетье
И это - не печаль и не весёлость.
Я просто знаю осень наизусть,
где яблоко, сорвавшись, накололось
на иглистый шиповниковый куст.
И пусть я вижу, как плоды и дети
окрепли, и пора тепла прошла. -
Звенит, в густых вихрах тридцатилетья
запутавшись, осенняя пчела...
Лесничество
Из ледовитых полнолуний,
из зимних вырвавшись тенёт,
средь юной зелени июня
тропа песчаная блеснёт.
Вильнёт и побежит на север,
где ночи бледные нежны,
где леший, чудской хмари деверь,
тачает лодку из сосны.
Где водит кряква за собою
семёрку дымчатых комков
вдоль неизвестных громобою
озёрных чутких берегов.
Где зреют вековухи-рыбы,
на илистом качаясь дне,
и валунов крутые глыбы
молчат о мамонтовом дне...
Лесник пахучих стружек горстку
смахнёт корявою рукой...
И вплоть до Пскова, до Изборска -
чащобный лапчатый покой...
Приходит, во шмелях и мотыльково,...
* * *
Крестьянский колодец, оконце живое -
четыре берёзы растут по углам.
Склонились к окну - им поётся по-своему,
как снились их косы залётным ветрам.
Над срубом сосновым задумчиво осень
четыре свечи белоствольных зажгла...
Последние дни - и мгновения-осы,
пылинками злата и чёрного зла
мелькают... И в каждом - тончайшее жало,
и жгуч и пьянящ неразбавленный яд.
"Так лето промчалось, так милости мало!" -
чуть наискось листья над срубом летят...
Четыре свечи отгорят без остатка -
влюблённым и русоволосым огнём.
Пойдём же, мой пёс, - откровенье так кратко!
К лачуге, с листвою на крыше, пойдём...
Реставрация полотен
И явь, и сон Ефима Честнякова
сдружились мудро.
Ромашково глядит и васильково
в оконце утро.
Достигнув Костромы и Кологрива,
кормилец-солнце
над Шабловом вовсю румянит сливы,
плоды-червонцы.
На лицах яблок зайцы золотятся,
на чревах репин...
"Вы будете в Париже выставляться" -
пророчит Репин.
Но в том и суть крестьянина Ефима,
что на чужбине
цветное восьмикрылье серафима
тускнеет в стыни.
А тут закат - в полнеба, не иначе,
над речкой Унжей...
Въедается в холсты грызун чердачный
и шашель стужи.
Чернеют по дворам его картины,
и меркнут сказки.
Но почву, но пигмент первопричины
впитали краски...
Земной поклон пречестному Ефиму,
упрямцу дара,
пронёсшему и радугу, и схиму
по чернояру.
Полотна-сновиденья Честнякова -
суть во спасенье!
Приходит, во шмелях и мотыльково,
день воскресенья.
Опять над клятвой карты замереть...
Карта
Опять над клятвой карты замереть.
В пространство,- вширь и ввысь, вдогон и впредь, -
врастать. И ощущать, как под ладонью
вплетается лиана в сельву-сеть.
И оживить туземные слова:
Кайманы и Мальдивы-острова,
Парамарибо, Тонга, Вануату,
свои, на вкус и цвет, едва-едва...
Их искры снова сквозь тебя летят
и колются, как детства лимонад
шибает в нос. И жив пустырь под солнцем,
где ирокез гурону - кровный брат.
И тетива туга, свежа гортань,
а на земле опять такая рань,
что виден отблеск с птичьего полёта:
плывёт тарань в Тамань-Тмутаракань...
Ученичество
Эти выцветшие марки,
средь медведей зоопарка
с нимфой Машею фонтан!
Выговор от педсовета -
за вопросы без ответа,
знай,- за дерзости изъян...
Это лютое упрямство,
неэвклидово пространство
неуклюже быстрых рук,
книжка в бронзовом тисненье,
где трубящего оленя
горловой крепчает звук...
Этот над матросом Крузо,
выше крыш и нот Карузо,
вопль мальчишеской души...
И ещё с телеэкрана
не футболят неустанно
бомбардиры-крепыши.
А сквозь линзу глицерина
крутят с песнями картину
про свинарку с пастухом,
где средь синих гор Кавказа,
не споткнувшись аж ни разу,
скачут соколы верхом.
Тех былых колоний марки,
тот китайский чай-заварку
с краснодарским пополам,
те коричневые брюки,
чёрно-белые науки
я забвенью не отдам!
Слишком многое оттуда, -
аллергия и простуда,
бег на месте, шаг вперёд, -
не смутилось, не исчезло.
Но, храня коренья-чресла,
цветом полнится, живёт!
Старые марки
Так где же он, тот отрок прыткий,
что на пустырь через забор
спешил - куском смолы на нитке
удить тарантулов из нор,
что в школьном кафельном подвале,
где смутно пахло табаком,
на ромбы Африк и Австралий
менял добытых пауков?
И, вечерами впившись в марки,
наутро ахинею нёс
про острова, про, сверху жаркий
и ледяной внутри, кокос...
Где он? - Немногое осталось:
в пузатой тумбе под столом
притих, обидевшийся малость,
давно не листанный, альбом.
Там иногда в зубчатом небе
года плывут наоборот,
и снова чёрный гибкий лебедь
навстречу медленно плывёт...
На то и весна, чтобы лону светиться...
* * *
Не верится, что добрались до апреля,
что кривобородой осадной зимой
друг другу про гибель "Варяга" не спели
и мёрзлые ноги втащили домой.
Но всё-таки перебрели эту слякоть
по ямам-колдобинам, вброд, напролом.
Сороке пора серебриться и вякать
над тополем тёплым, над прелым гнездом.
И Днём Космонавта гордиться охота,
хотя, уж заметили вы или нет,
со дня соколино-рискового взлёта
протикало сорок с копейками лет...
Трещит между веток крикливая птица.
А девы - волшебнее, чем Эрмитаж!
На то и весна, чтобы лону светиться,
а сивому соколу влево коситься,
взбираясь с одышкой на пятый этаж.
* * *
Виолончель, игрунья Василиса!
Как много горлиц, женственных причин,
чтоб вздрогнуть на лету, возвеселиться
в предчувствии апрельских именнин!
Как много в небе турманов-записок!
Всё на свету - в почтовом коде глаз.
И жанр кофейной лавочки не низок
на камертоне, на искренье фаз.
Трагичным струнам преданные пальцы
утомлены зимовкою смычка.
Но у весны в уме - камбэк скитальца
и марсианство здешнего сверчка.
И так пропитан запахом аниса
аврелий, властелин и веселин,
что прямо здесь, игрунья Василиса,
прими джек-пот кофейни на почин!
Твой василёк, оттенком чуть в цикорий
и мягких губ расстрельная статья...
Переболевший глупостью и корью
опять захвачен рифмой "ты и я".
Смахни верлибры нА пол и считалки,
но наш урок сольфеджио спаси,
учителка грехов, очей весталка,
барвинка синь - с полян на небеси!
Где бы мог удивиться ты вслух...
* * *
1.
Одинокая бродит гармония.
Со дворовой оравой бузить
не велит ей глубинный огонь её,
тот, которого не погасить.
Отчего этой музыкой любою,
этой великонежной тоской
навсегда поцелован был в губы я,
взят из стаи шпаны городской?
Мы - родные. Она не откажется
от моих неприкаянных глаз,
хоть ни время с пространством не вяжется,
ни с молитвою - "фас" и "атас".
Нет, никто от себя не открестится,
и не выстоит ирода бюст!
Пьяный сторож в подвале повесится...
А по сердцу свечение месяца
порасплещет сиреневый куст.
2.
Узник жестоковыйной неволи,
егозы мягкосердый отец,
Парацельс, философскою солью
присоливший по вкусу свинец,
воробьиный дружок и собачник,
тупиковой сирени поэт -
канешь в справочник или в задачник
на исходе отмеренных лет.
Но размается куст колчерукий,
теплокровностью ночи вспоён -
и опять ты аукнешься в звуке,
обернёшься собой, обертон!
Ведь Заречье забвенья - не место,
где бы мог удивиться ты вслух,
что сирень - и княжна, и невеста,
и кириллица, рукопись текста,
и фарси персианского дух!
* * *
Люби меня. Пусть я и не достоин
твоей русоволосой красоты.
Я не спасу. И стать другим - не волен.
Но так похожа на спасенье ты!
Звени мне ворожбою золотистой,
мой хрупкий ангел с гибелью в очах!
Не нам с железным взором атеиста
соломенный выстраивать очаг,
не нам копить холодные монеты
на сретение порченых родов...
Люби - не будет подлинней завета
на стенах обречённых городов.
Сквози мне тягой позабытых магий,
зови скорее неба оборот! -
Настанет май, за свалкою в овраге
для нас колючий тёрен расцветёт.
И за три дня набухнут рек затоки
лягушечьей и щучьею икрой.
Да не прервутся между нами токи,
искрящие от первородных Трой!
Да повезёт бессильной нашей власти -
оставить средь травы цветок огня...
Зови меня, зови глубинней страсти!
Люби - и, судит Бог, спасёшь меня...
Растёшь - и солнце держишь надо мной...
* * *
М.
Меня тревожит линия простая -
окружность, по которой прорастает
из мрака почвы взлётным естеством
неодолимый тополиный ствол.
Меня волнует этот след разрыва,
знак боли и отважного призыва -
сквозь тяжесть глин взойти самим собой,
прорвав небытие над головой...
И ты, мой отрок-стебелёк, доверчив,
восходишь, тем же абрисом очерчен -
воротниковой тихой белизной...
Растёшь - и солнце держишь надо мной.
* * *
М.
Возьми же, мой Цезарь-младенец,
полночный гурзуфский простор!
Я был бы в правах пораженец,
когда б не межзвёздный твой взор.
Блаженно цветут лавровишни,
черёмухи южных земель.
Вдоль Будды, Зевеса и Кришны
струится невидимый хмель -
как общая память о Боге,
как истина в чёрном вине...
Как данность любви и тревоги
в тебе, мой царевич, во мне!
* * *
М.
Позволь любить тебя, пока ты мал,
Я знаю, позже будет нам труднее
избегнуть эгоизмов ахинеи…
Я знаю это, потому что знал.
Дай лишь неловкость ангела хранить,
быть рядом – упований мне не надо.
А схожесть твоего с тем, давним, взгляда –
еще одна попытка, может быть,
на будущее глянуть без печали,
но ровно, не глупея от надежд…
О, трогательность маленьких одежд,
О, радость – быть с тобою, быть в начале!
Что ни март – колокольни стройней!
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я -
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся стотысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, - волею высшею, -
что ни март – колокольни стройней!
Вдоль акведука
Предместье Рима, своды акведука,
торжественная подлинность аркад -
центурионов и рабов порука,
изгибы арок, полукруги лука,
бегущие вдоль поезда назад -
к Неаполю, оплоту двух Сицилий...
Как явно сквозь декабрь, сквозь муть его,
алеют плавники живых пецилий
и краснопёрок сердца моего!
К Везувию, к феерии залива,
на юг Тирренский - выгнут акведук.
Возлюбленное с юношества чтиво
раскрыто взмахом белых арок-рук.
И как мне не ласкать скользящих ало
сквозь эти окна яркопёрых рыб?
Не нас ли жизнь под жабры подсекала,
брала и на разрыв, и на изгиб?
И кажется, что путь вдоль акведука
в слиянии с воздушною струёй -
не просто одоления наука,
но некий неизбежный жребий мой:
вдруг ощутить, что здешний необманный
прищур столетий и зрачок аркад -
не столько римский, сколько кровно-странный,
летящий вдоль Днепра, Софии взгляд...
И, может, будет лучше...
* * *
В холодный и сырой,
но всё ж весенний, день
в подвальчик на углу
зайти и выпить кофе.
И справа у окна,
где двух гераней тень,
увидеть молодой
и чуть знакомый профиль.
И то, что мог бы счесть
обычным пустяком,
назвать живым лучом
в разломе вечной тучи...
И думать ни о чём,
о том лишь, что потом
всё будет, как теперь.
И, может, будет лучше...
* * *
Поселенье Водолага,
марта-двоеженца брага,
холода глоток.
По-над площадью базара -
крепкий храм породы старой,
каменный цветок,
бело-голубой початок...
Стынут пальцы без перчаток
на скобе ворот.
Отворю под скрипы петель
дверь, пока базарный петел
во всё горло врёт.
Загляну в церковный дворик,
где студёный воздух горек
куревом зимы.
Плюс - картохой залежалой
пахнут от рядов чувалы.
И лишь дух хурмы,
еле слышимый, весенний,
обещает в воскресенье, -
в это или в то, -
солнца флаги, влаги фляги
и селенью Водолаге, -
наяву, не на бумаге, -
счастья на все сто!
Пусть же над ужиной Мжою
торжище жужжжит большое,
но без лишних трат
пролетает к полустанку
в васильковой вышиванке
ангел-меценат...
* * *
Давай подружим! - Кофе пить,
преумножая встречи случай,
а звуки наших несозвучий -
и не винить, и не таить.
Давай опять туда пойдём,
где Надя в дружеском наряде,
где зёрен дух печёт оладьи
каким-то давним детским днём.
Вдохнём простой минуты суть,
когда из жареной ракушки
торчат две туркиных макушки -
не в красных фесках, ни чуть-чуть...
Пусть малый прок в беседе той,
где чашки-лилипуты стыли,
где мы кивком, по-птичьи, пили
глоток горчащий и густой.
Всё ткутся дни, всё вьётся нить -
кофейная такая дружба,
когда совсем немного нужно -
вдвоём два слова обронить...
Господни голуби и прописи...
Вечера Купалы
П.Ш.
Вот подстаканник опять зазвенел -
вьются в металле зубчатые листья
и винограда зернистые кисти
в переплетенье растительных тел.
Это опять тридцать лет над тобой
вдохом и выдохом памяти смыло -
в кронах стокрылое загомонило,
тридцать смертей отметая листвой.
Вот, через сад тёмно-синий идёшь,
внука в махровом несёшь полотенце -
и всё роднее, вплотную, два сердца...
Ярок небесный над яблоней ковш!
В эти, Купалы-Петра, вечера
нет и полмысли ещё о разлуке -
всё ещё в силе могучие руки,
для казака шестьдесят - не пора.
Пахнет от вишен прозрачной смолой,
веет заваркой с веранды огнистой.
Экий ты, деда, большой да плечистый,
щедрый чуть хмурой своей добротой...
Слышишь, осталось от дюжей руки,
от светлякового сада пространства
то сокровенных минут постоянство,
что не рассыпать уже на куски.
Чуешь, не глина в очах, не песок -
тридцать погибелей враз отметаешь,
ломтики яблок в стакан нарезаешь,
в золотобокий крутой кипяток!
* * *
Давным-давно бы скрылся в чаще я -
замаливать в скиту грехи,
но есть ведь люди настоящие,
есть их, о подлинном, стихи!
В газете ль серой отпечатана
иль в неприкаянных глазах,
их правда есть, и жизнь на атомы
не разлетелась в пух и прах.
И Слово, сгусток тяготения
до хруста сдавленной души,
всю смуту, весь безбожный день её,
во ржавой пересилит лжи.
И паству отвести от пропасти
сумеет. Разве же не знак? -
Господни голуби и прописи
белеют явственно сквозь мрак.
С глазами, как вино "Кара-Чанах"...
Маяк на Утёсе
Кучук-ламбатский каменный Хаос -
столпотворенье глыб тысячелетних.
Затейник и игрун не из последних -
резвившийся над берегом колосс...
Венчает циклопическую прыть
Утёс, поросший травами и хвоей.
И око его, буйное-шальное,
ресницами ветвей не затенить.
В гранитном смуглом лбу оно горит -
то теплится реликтовой лазурью,
то, блажью переполнясь, бычьей, турьей,
угрозы мечет за далёкий Крит,
о давних вспоминая временах,
о вечно-синих струях-Дарданеллах,
о янычарах, кровожадно-смелых,
с глазами, как вино "Кара-Чанах".
О жарко-пыльных ханских городах,
о шишаке-тюрбане, с минарета
стенавшем правоверные заветы.
О дымчатой мечети Чатыр-Даг...
И вночь скорбит о терпком прожитом
циклопье фосфорическое око.
Луна приходит с тюркского востока,
но Крым уже просторно и широко
покрыт казачьим звёздчатым шатром...
* * *
Сине–пепельный жук в дымно-розовом пьян тамариске.
И светим, и неярок подёрнутый влагою май.
Акварели мазок, с побережья обрывок записки:
«Приезжай на неделю, у моря лачугу снимай».
Ещё жив старикан, отставной пехотинец и плотник.
И за тыщу-другую вконец измельчавших рублей
по стакану нальёт, про наяд напоёт, греховодник,
и сиреневый сумрак сгустится и станет теплей.
Заколышется воздух, повеет ночною волною.
Хлебосольной брехне и не верю – а и не сужу…
Встанет месяц над морем, над спелою крымской весною
и подарит касанье укрывшему нас шалашу.
А в четыре утра заорёт петушище хохлатый,
срамно гребнем тряся и на сонный взлетев кипарис…
Здесь, на склоне горы, так лучисты рассветные хаты,
и тропа к лукоморью так бодро торопится вниз!
Рапана Томасиана
Пурпура капля, полмира индиго –
моря и раковины интрига.
Полупрозрачна, нежна и желанна,
в донном песке затаилась рапана.
Соли наростов аляповато
скрыли в изнанке полоску заката,
скрыли живые извивы барокко
от водолазова хищного ока…
Лодка - ныряльщикам смуглым страховка.
Тенью подводной, скользящею ловко,
на поводках пузырей серебристых –
горизонтальные аквалангисты.
Я принимаю авоську с рапанами –
в море, назад, мелюзгу и с изъянами!
Верен обычаю, я агрессивнее
к тем, кто огромнее и красивее.
Пальцами рву из спирали моллюска –
небо, какому же Богу молюсь я?
Без интеллекта, зубов и пищалей,
глухонемым защищались пищаньем…
Пурпуром смертным в живот мне стреляли.
Солнце пылало в Эсхилловом зале –
там, где, обрызганный пурпуром дико,
некто качался на волнах индиго…
Вишню-облако, матрицу солнца...
* * *
М.
Нинзя ветра и нинзя воды -
мы с тобой, мой компьютерный отрок.
Все свои новоделы-труды
отдаю за бесценный твой облик.
Ни за что со щеки не сотру
имя - колкое счастье родное,
ломкий мой стебелёк на ветру
и подранок времён паранойи...
Нинзя нежит пронзительный меч
и без слова, без звука клянётся -
от подземных толчков уберечь
вишню-облако, матрицу солнца.
Так и мы, - двое храбрых, - с тобой,
цвет-подсолнушек, чубчик пшеницы,
догоняем высотной тропой,
словно лётчики или же птицы, -
уносящийся с посвистом смысл,
завихренья-обрывки обиды,
неприветливость кодов и числ...
И в окне ноутбука завис
меч индиго и сдвига Эвклида.
Ковши Медведиц, бабочки-летуньи...
После праздника
Ковши Медведиц, бабочки-летуньи,
которых тем же именем зовут.
И девственно прохладные петуньи,
и пряных табаков душистый блуд.
В полночный сад распахнуты все рамы.
Озон листвы - дыханье влажных пор.
О толкованье звёздной диаграммы -
шершавых корневищ переговор.
О, кроны ночи, вновь я - вместе с вами,
ветвистые сообщницы мои!
Схоласты-дни, играя письменами,
кропают точки над латынью "i".
Их шум корыстный иссушает рощи
индейских клёнов и воздушных пихт.
Но вы, мои живительные ночи, -
молчанья и сочувствия реликт.
Опять окно на Зодиак раскрыто,
пошатываясь, дым гостей исчез.
На кухне деревянное корыто
скребёт копытом домотканный бес...
И правда, ну их к бесу, дни рожденья, -
на днище гуще мидий наросло.
Колышутся во сне деревьев тени,
но спать мешает бабочек биенье
о чёрное, Малевича, стекло...
Храм белый
День смолкнет, песню исковеркав,
а в вночь - белеет в очи мне
Аннозачатьевская церковь
на багрянеющем холме.
И строгий лист передо мною,
несбыточной надежды лист,
такой же веет белизною,
гипнотизирующе чист.
Какая жертвенность отваги,
какой отчаянный замах -
оставить слово на бумаге
и колокольню на холмах!
Ни брашен, ни щепоти соли,
казалось бы, в раденье том,
но некий отзвук высшей воли
шатры возводит над холмом.
И церкви белое растенье
сквозь онемение дерев
невестины и вдовьи стены
вздымает к небу нараспев.
Не хлебом, так водой из крана
спасутся дни моих седин,
пока молитва неустанна,
пока извёстка храма Анны
сквозит сквозь киноварь осин...
Любо мне вспоминать нараспев...
Приглашение
Любо мне вспоминать нараспев имена человеков,
теплотой существительных дом мой согрет лубяной.
Междометьем по-свойски я в гости зову имяреков,
чтобы имя рекли, чтобы хлеб преломили со мной.
Равно мне по душе - говорит ли мой гость или кротко,
повернувшись в три четверти, думой своей удручён.
"Приходите в мой дом" - пел законник тверской, дабы водка
не скучала без дела в краю беззаконных знамён.
О, как чтут на Руси ветродуй заклинанья-напева!
Запоёт Воробьёв или Волков завоет ночной -
и мужик перекрестится, и Богородица-дева
распластает покров над страной, над бедой и виной...
"Приходи же в мой дом" - так и я говорю нелукаво.
Ничего не хочу, из того, что диктует расчёт.
Про Байкал пропоёшь ли, смолчишь ли - останется право
быть на вёслах вдвоём, когда время навстречу течёт.
Загляни - я ещё распахну тебе дюжину книжек
и одно неостывшее сердце, почти раритет!
Постучись, и пока всё под корень цинизм не повыжег,
будет тих до утра над столом электрический свет...
Конец века
На углу проезда Кривды
и проулка Правды
бродит ночь с обломком бритвы
и обрывком дратвы.
Над горбом того проезда
и бугром проулка
леденеют звонко звезды,
свищет ветер гулко.
Сватья-стужа крепкозуба!
Но, чем злее полночь,
тем ещё острее люба
жизнь, краса и сволочь, -
та, что лезвием понежит,
та, что бечевою
перехватит, дура-нежить,
горло болевое...
Та, что по крови родная
с ночью снеговою...
Длится скрип шагов - до края,
до степного воя,
до лесов, где пурги волчьи,
россомашьи вьюги
позасыплют наши очи
свет за светом, други...
Ветер хлопнул мёрзлой дверью:
знать, столетью крышка,
знать, у града, камня-зверя, -
смертная одышка.
Тучны снеговея брашна.
пышен саван века.
Пусто. Хорошо б, - да страшно, -
встретить человека...
Вот мой дом над патогенной зоной...
* * *
Лёха Октябриныч Балаганов,
культовый российский режиссёр,
вырос средь реальных бандюганов,
в глубине Ебуржских руд и нор.
И в своей чернухе, в "Грузе 200",
пополам ломает он хребет
Староплошадной, Лубянской спеси,
в коей есть Москва, а правды нет...
Лёха, сотоварищ мой, Остудин,
стылых душ ведущий инженер,
в атмосфере многотрудных буден
с "хером" рифмовал СССР.
А Роман Андреевич Чурило
был простым учителем в очках,
аж пока не вырос до водилы
с бубликом в натруженных руках.
Вот мой дом над патогенной зоной,
родина, еловая нога!
Я, в неё с младенчества влюблённый,
знать, в любви не смыслю ни фига...
Всё стою на росстанях ростовских,
харьковским украшенный харчком,
всё везут уставших - в цинках, в досках. -
В пиджаках ховают - быстрячком.
Рады-балаганы, Дум шалманы,
буквы-цифры задом наперёд.
И, по откровенью Иоанна,
по эскизу пальца истукана -
гарный Харьков, танковый завод...
* * *
Пока я в скафандре летал на Луну и обратно,
ты делал негромко большое и нужное дело:
в аренду сдавал нефтяные и белые пятна
и нежное грёб - земляника со сливками - тело.
Покуда мой горн золотился на синей ступеньке
и утро трубил вертикально во здравие неба,
ты в рост отдавал мертвецами пропахшие деньги
и ставил азартно на скупку металла и хлеба.
Как всё это - дико-обвально, неправдоподобно:
ты выел мой мозг и растлил мои лучшие ноты!
Удобно ли в «Мерсе» тебе за бронёю? - Удобно!
Совпали твои и убойного века частоты...
Нет ЗАхера глуше, чем недоуменье обиды,
и МАзоха нету черствей, чем засохшие краски.
И воздух усох, и осыпались кариатиды,
и с кожей маржу чикатилы дерут, дерипаски…
Доживем до весны, мой певучий возлюбленный старче...
* * *
Б. Ч.
Доживем до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживем. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. -
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намек:
он - и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счет грехам он забыл, и ничто не идет ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник - прохлада дождя на горячечной ране -
да по небу прочерченный птицей рифмованый след. -
Нас не предал лишь свет безымянный - на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам еще триста лет.
Дотужим до весны - там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зеленом, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
И еле шепчут лиловые губы Обамы...
* * *
Пушкин - пушист, серебрист. По секрету при этом
Лондона Джека в тринадцать я крепче любил. -
С Белым Клыком засыпал под сугробом валетом,
в ружьях Клондайка ценил скорострельности пыл.
В шубе онегинской век крепостничества мчится,
полозом санным скрипя, бубенцами звеня.
Снежный хорей в африканское сердце стучится,
в солнечный бубен морозного синего дня.
Я и теперь к ним тянусь, но уже по-другому:
помня, что дружества мёртвых - вернее иных.
Если живым отказал со стыдом я от дома,
знать, потому, что ломоть их - полова и жмых.
Вот и жую золотую, с мороза, солому.
Корм не в коня, а ясак да ярлык - не в меня.
Честному зверю, Клыку, ослепительно-злому,
верят во сне из-под снега мои зеленя.
А в январе леденеет, не ведая срама,
Пушкина плоть, и бледнеет кофейная кисть.
И еле шепчут лиловые губы Обамы:
"Вымерзли яблони ямбов. Опомнись, окстись!"
Из "Галльских песен"
1.Сумерки Лилля
Шалый ветер из Гента занёс меня в Лилль.
Ещё утром, во Фландрии, угольщик Тиль
Уленшпигель, - зерцала и филина брат, -
не жалел мне энергии, эм-цэ-квадрат,
подавая осенний эспрессо к столу,
обжигая листву в золотую золу...
Говорить по-немецки с фламандцами - гут!
Понимают и кофе охотно несут. -
Жаль мне Гент покидать, но однако же, в Лилль
въехал к вечеру я, в крепкокаменный вилль,
ибо резвый сквозняк продувной меня нёс,
ветер странствий влачил, скороход и матрос,
то по рельсам ездок, то по тучам летун,
неустанный - что в зной, что в мороз-колотун...
Впрочем, вечер сентябрьский был ясен и тих,
не суля ни дождя, ни осадков иных.
Зажигались на Ратушной площади бра,
и пилонами высилась Лилль-Опера.
И с гранитного цоколя бронзовый страж
озирал из-под длани - заката мираж.
Но внезапно, но вдруг - молодой ещё свет
обратился в тревожный, в густой фиолет...
И Атлантики воздух так враз потемнел,
что на миг я себя ощутил не у дел:
что за бес-сомелье заманил меня в Лилль?
Чьи три тысячи лье, соответственно миль,
соответственно вёрст, - на метле, по петле, -
прочертил я, чтоб вдруг, в сине-чёрном стекле,
оклематься, очнуться - один на один
с зазеркальною тягой утробных глубин?
И едва не завыл во мне пёс Баскервиль:
"Не ослаб ли душой ты в походе на Лилль?
Не забыл ли священных примет по пути:
не зевай, не моргай, на лету не свисти?"
Но, всю грудь осенив широченным крестом,
чью-то тень я спугнул, чей-то призрак-фантом...
И пошёл ночевать на арабский чердак -
да с покупкой "Бордо", а не как-нибудь так!
Ибо вправду - чем кровь винограда темней,
тем чужбина к тебе подступает родней,
подливает и врёт всё теплее: "Месье,
будет утром - тре бьен, будет всё - монпасье!"
2.
Ревновала меня к стихам,
к безымянным уже любовям,
к фантастическим послесловьям
ветру-шелесту по верхам.
И в кафе "Клозери де Лила"
через зимний Париж холодный
инквизицией благородной
невесомо за мной вплыла.
Проскользнула - села без слов
за овальный соседний столик.
С можжевеловой водкой тоник
в менуэте слиться готов...
Предзакатная полоса
зарумянилась, заалелась.
О, декабрьского солнца смелость!
И игрушек-яхт паруса -
там, где дети в саду Тюильри
обступили фонтанов чаши...
Заходи же в мой порт и чаще
шхуны, бриги в залог бери.
Приплывай в продолженье снов!
Видишь, трезв покидает "Купол",
задевая плечищем угол,
романист и убивец львов...
3.Урок географии
Сена, Рона, Луара, Гаронна,
восклицательный знак - д"Артаньян,
ослепительность общего тона -
пена кружев и колотых ран.
Цвета сливы шелка кардинала,
стрелы глаз и остры, и легки.
И улыбчивы пастью алой
златозубые кошельки.
В трёх прочтеньях "Трёх мушкетёров"
своевременный юности грех
навострил навсегда твой норов
на искательство истинных вех.
Сена, Рона, Гаронна, Луара -
тропы славы впадают в Париж!
И от каждого шпаги удара
ты над книгой счастливо вопишь.
Сверхурочны в трудах и аккордны
мушкетёрские дьявол-клинки...
А наутро географ холодный
даст вопрос о впаденье реки.
Искрой брызжут подвески алмазно,
бьёт подковой оседланный конь...
"Не в Париж? - ты дерзишь - а напрасно.
Ну, тогда уж, конечно, в Гасконь!"
4.Безансон
Какой живой одушевлённый скрип
у деревянных лестниц в Безансоне!
Витражный блик к щеке моей прилип
и замер я на простодушном фоне -
ступеней шатких, буковых перил,
балясин под прозрачным слоем лака...
Я мифы чту, что издавна любил,
от самого рожденья. Как собака,
и гончим чую, и борзым чутьём,
что плоть слабеет, но крепчают тени,
что по душе мне этот старый дом,
в котором есть из дерева ступени,
где обитает стойкий резонанс
с простёртым за цветным стеклом пейзажем,
где в две ночёвки - по пути в Прованс -
вместил я чувство верности со стажем...
Какой старинно-чуткий камертон
у музыки видавших виды лестниц!
И, если вспомню я мажорный стон
ритмический в альковах у прелестниц,
то умолчу о классике Гюго,
что настигал во всех углах прислугу,
хотя подобной прыти - ого-го! -
грешно не пожелать себе и другу...
Те клавесины лестниц и перил
звучали столь доподлинно знакомо,
что показалось мне - я с детства жил
в шкатулке светло-букового дома.
И сжав в руке орешину-уду
да прихватив водицы и закуски,
я шёл к жёлто-зелёной речке Ду,
чтоб изловить уклейку по-французски...
Меж брегом и бургом...
* * *
1.
Меж брегом и бургом клубится единство дыханья.
Затем и бродяжишь, чтоб высветить близкое дальним,
затем и встречаешь волну в самоходной лохани,
трясёшься на взлёте полночном по кочкам астральным.
Затем и Тоскана-Этрурия длится холмисто,
и город Сиена - гончар, гобеленовый всадник -
классической охрой и ловкой ногой футболиста
открыто гордится. В пожухлой листве виноградник
лелеет на склоне осенннем младенчество кьянти -
багряных, лиловых, чернильных кровей откровенье...
А если и здесь ты не в силах воскликнуть "Аванти!",
то Бог и с тобой, и с твоей утомлённою тенью.
В путь добрый, попутчик! Прости же и мне возвращенье
в края, где ничуть не слабее подсолнух златится,
чем здешний тосканский. Но тускло тоскует о мщенье
отчизна меж брегом и бургом - подбитая птица...
2.
Всё! Наконец домой вернуться
с тропы бродяжьей и случайной,
линялым усом окунуться
в расплав крепчайшей гущи чайной.
Лаская груз фамильной чашки,
под перезвоны разговора
кольнуть клыком, чуть одичавшим,
глазурь забытого фарфора...
Как дышат разноцветной плотью
на книжных полках царства граций!
Как плавно складни переплётов
тебе навстречу отворятся!
И страстно вскрикнет половица
древесным плетивом волокон,
и озарится гладь страницы
кошачьим оком, спектром окон!
И, дрогнув эхом, обернётся
иною рукописью время.
И дым пространства чуть качнётся...
А надо всем и надо всеми -
щемящий свет дочерней тайны,
свеченье детской млечной кожи,
глаза, что всё необычайней,
всё больше на твои похожи...
Четыре месяца с концовкою на "брь"...
* * *
Четыре месяца с концовкою на "брь"...
А вслед - январь, февраль и слякоть марта.
Таков обычай здешний: в оба зырь,
но сто пудов - успеет нетопырь,
в ментовских брюках, передёрнуть карты.
Двенадцать кряду долгих месяцев в году
власть гопников, барыг, кидал в законе
и говорливых попок-какаду
плюёт на розу мира, на звезду,
заветную на неприветном фоне.
На фоне Пушкина и, может быть, ещё
на фоне горстки вымерших спартанцев -
то холодно душе, то горячо.
И саранчой садится на плечо
летучий стрекозёл из школы танцев.
Нет, не Нуриев и не Байрон, а другой -
Барыжников, читай, барыжье семя.
Стрекочет, брови делает дугой,
фигуры чертит белою ногой
венозной. А предгибельное время
все триста с гаком високосных дней-ночей
сестре твоей, звезде, грозит кутузкой...
Как правильно, что ты - почти ничей!
И даже - вне искусства тех врачей,
что лечат все болезни водкой русской.
Позволь подышать ещё музыкой любой...
* * *
Зима разлеглась широко и надолго.
Замри под дохой на печи
и, слушая вой полуночника-волка,
в ответ по-медвежьи молчи.
Не трожь, не тревожь ни шишиг, ни кикимор,
ведь даже мышастый лешак
замолк с декабря, будто намертво вымер,
зарывшись в репейный овраг.
Срываются жалобы волчьего горла,
морозное небо скрипит.
Пока тебя бунтом к стене не припёрло,
пока ты в овчину урыт,
смекай, как легла по-азийски жестоко,
в свирепом размахе, зима.
не зная, с какого ощерится бока
тюрьма ли, сума ли, чума...
Крысиные шорохи, душные ночи,
дурного генезиса сны.
Не каждому хватит удачи и мочи -
от ширева царь-ширины
спастись под овечьей ли, волчьей ли шубой...
Прощай же, певун и дружок!
Учитель мой строгий, Механик мой грубый,
позволь подышать ещё музыкой любой,
прогрей на морозе движок...
Пенькна пани пьёт яржембяк...
Яржембяк
В середине декабря над горизонтом
еле-еле поднимается светило.
Пару рюмок пропустив опрокидонтом,
понимаешь - будет то же, что и было.
Будет то же, что вчера, но всё же больше,
чем за окнами вполглаза различимо.
Пенькна пани пьёт яржембяк в зимней Польше,
да и здесь рябина демосом любима.
И особо, если спиритус коньячный
растворит в себе её горчащий привкус...
А декабрь стоит заснеженный и смачный,
хоть обычно в это время - накось-выкусь
в смысле праздника сверкающего снега,
в плане шанса полюбить и быть любимым...
В эту полночь года альфа и омега
спят, как ящерицы в грунте, в мире мнимом.
В середине декабря в похмельном небе
мутно солнце, и лицо его багрово.
Мысли гложут - о квитанциях, о хлебе.
Чуть отгонишь - подгребают сбоку снова.
За окном - студёный век, не кватроченто,
время льда и задубевших в тине раков.
Вспоминаю я яржембяк и зачем-то
королевский, на горе шляхетной, Краков.
И понеже суть рябиновки янтарна,
я доверюсь её влаге-оберегу.
Пани - пенькна, а и наша дивка - гарна!
Каблуком хрустит по свадебному снегу.
В шкатулке светло-букового дома...
Урок географии
Сена, Рона, Луара, Гаронна,
восклицательный знак - д"Артаньян,
ослепительность общего тона -
пена кружев и колотых ран.
Цвета сливы шелка кардинала,
стрелы глаз и остры, и легки.
И улыбчивы пастью алой
златозубые кошельки.
В трёх прочтениях "Трёх мушкетёров"
своевременный юности грех
навострил твой стремительный норов
на искательство истинных вех.
Сена, Рона, Гаронна, Луара -
тропы славы впадают в Париж!
И от каждого шпаги удара
ты над книгой счастливо вопишь.
Сверхурочны в трудах и аккордны
мушкетёрские дьявол-клинки...
А наутро географ холодный
даст вопрос о впаденье реки.
Искрой брызжут подвески алмазно,
бьёт подковой оседланный конь...
"Не в Париж? - ты дерзишь - а напрасно.
Ну, тогда уж, конечно, в Гасконь!"
Безансон
Какой живой одушевлённый скрип
у деревянных лестниц в Безансоне!
Витражный блик к щеке моей прилип
и замер я на простодушном фоне -
ступеней шатких, буковых перил,
балясин под прозрачным слоем лака...
Я мифы чту, что издавна любил,
от самого рожденья. Как собака,
и гончим чую, и борзым чутьём,
что плоть слабеет, но крепчают тени,
что по душе мне этот старый дом,
в котором есть из дерева ступени,
где обитает стойкий резонанс
с простёртым за цветным стеклом пейзажем,
где в две ночёвки - по пути в Прованс -
вместил я чувство верности со стажем...
Какой старинно-чуткий камертон
у музыки видавших виды лестниц!
И, если вспомню я мажорный стон
ритмический в альковах у прелестниц,
то умолчу о классике Гюго,
что настигал во всех углах прислугу,
хотя подобной прыти - ого-го! -
грешно не пожелать себе и другу...
Те клавесины лестниц и перил
звучали столь доподлинно знакомо,
что показалось мне - я с детства жил
в шкатулке светло-букового дома.
И сжав в руке орешину-уду
да прихватив водицы и закуски,
я шёл к жёлто-зелёной речке Ду,
чтоб изловить уклейку по-французски...
Промахнись в меня на повороте...
Дорога в Малый Стамбул
Полнолуние. Двадцать ноль-ноль.
Августовское солнце осело.
Поезд мчит, и как будто пароль
цыкнул в клык проводник-Азазелло. -
Азиатский попятился зной,
сорок дней изнурявший Украйну,
и в вагонные окна иной,
завихрённый, хмельной, вороной,
хлынул воздух в режиме онлайна.
Что я думал? Да то же, что все. -
Много ль жизни осталось, к примеру...
Потухали в лесной полосе
угли суток, раздоров химеры.
Время истины - странность пути,
отстранённость в реликте-полёте,
притяженье огней впереди,
но и всё ж: "Кто ты там? - Погоди,
промахнись в меня на повороте..."
"Всё, что нас не убило, - изрёк
собеседник - добавит нам силы",
чтобы жёлтого дома упрёк
взял с собой в молодую могилу
неприкаянный сверхчеловек,
титанических опер ценитель...
Но, камбэком тесня саунд-трек,
крепнет эхо, растёт оберег,
длится отзвук его, долгожитель.
Ибо он от "танцующих звёзд"
в гуще хаоса мог оттолкнуться
и, скорее всего, в полный рост
вхожим был в неопознанность блюдца.
Потому в моём беге на юг, -
к вавилонству, к дикарству истока, -
Заратустры непойманный друг
правит мне кровоток, ладит звук
аритмии, приспешницы мокко...
Загрызну ледовитой, ломающей зубы, рудою...
Льдина
Я вынашивал долго в гортани июльское слово.
Но приспал имена адресатов и отчества все я.
Докучает мне зимняя нота, поётся хреново:
фарисеи, рассеян, окрайна, Украйна, Расея...
О, зима проклятущая! Самое время загнуться,
время для наложения рук и подлёдного лова.
Рыболовные снасти и связи последние рвутся,
и ломается лёд при полнейшем отсутствии клёва.
Напиши мне две строчки, соратник, рыбак однорукий!
Жалко левой руки? А живут ведь без сердца - жирея...
Вознесло меня время в магистры угрюмой науки -
всё-то зимние ливни черчу на тетрадном листе я.
Присудил мне Господь - на Руси и в июле родиться.
Любит слава славян - да, чем дальше, всё больше кривая...
Богородица-матушка, мятная Мавка-сестрица,
лишь смиренностью вашей жестокость с лица умываю.
Напиши мне, тверёзый товарищ, на пьяную льдину,
унесённую чёрной неблагонадёжной водою.
Из дюралевой фляги глотнуть за тебя не примину,
загрызну ледовитой, ломающей зубы, рудою.
* * *
Ты - всё ещё отрок, войти не умеющий в фальшь,
и в ямке грудины по-прежнему ноет тревога.
Бездарна отрывистость окрика "Фас!" или "Марш!"
Блаженна протяжная, лучше по снегу, дорога...
Стал голос твой твёрже, а почерк острее, когда
ты понял вполне, что бежать от себя невозможно.
Иглой ледяною снабдили тебя города
для поиска звёзд - внутривенно, а также подкожно.
Каким ни спешил бы путём - возвратишься к себе.
В конце виража - обретенье осевшего дома.
А соль на щеке или привкус тепла на губе
нисколько не смажут сугробной черты окоёма.
Каким ни скользи гололёдом - придёшь до Суда
туда, где тебя отдадут твоему лишь закону,
где тени сквозят, как плоды крепостного труда,
где белую кроличью шапку кровавит звезда -
живая, как птица, припавшая к снежному лону...
И Бог, и дьявол, спрятавшись в деталях...
1. Иордан
Языческих примет нахваливать не буду,
но кем-то полдень мой столь щедро освещён,
что "здравствуй" молвил мне брат Господа Иуда,
запив глотком воды тождественность имён.
Ведь тот, Искариот, скрипел за кадром тусклым,
за рыбьим пузырём, оконною слюдой...
Но трудно родники рекли иссохшим руслам,
что не устанут быть единою водой.
Что будет полон струй источник Иордана
средь спёкшихся песков и жарко-рыжих глин...
Там окунул чело в купель я покаянно
и не хотел отнять от той воды седин.
И рыба подплыла, в уста поцеловала.
Тончайшим серебром сверкнули крышки жабр.
И влажное лицо я поднял - всё молчало,
лишь в мокрые глаза дышали мирт и лавр.
2. Геннисарет
И Бог, и дьявол, спрятавшись в деталях,
траву и воздух делят пополам.
И будет так, что голубая сталь их
воздаст любому слову по делам.
А потому молчи, чурайся фальши.
Всё меньше смысла в умноженье слов.
Живи, умри. - А он плеснётся дальше,
серебряный, от галилеян, лов.
Вода, тенёта, лодок древесина -
всё подлинно и взвешено сполна.
И мускулисты бронзовые спины
ловцов. И силу кормит глубина.
Добро и зло, намешаны в чернила,
бумажный лист испишут пополам...
Пройдёшь Геннисарет и дельту Нила
и, если не иссякнет в сердце сила,
вдоль русла ляжешь, высветлен и прям.
О Александр и Осип, - наше лоно...
Перелёт
Из aeropuerto Барселоны
на воздух выйдя, в пальмовую синь,
почуял я, насколько благосклонна
ко мне глубинной осени теплынь.
Поскольку два часа назад Ганновер
всклокочен был и ветренно-дождлив,
и не сулил мне выигрышный номер
балтийский холод и небес надрыв...
Но два часа архангельских парений
над дьявольской скалистою страной,
клыков альпийских ледовитый гений,
алмазный мир - внизу, но не земной!
Как нереально из дюраля птица
плыла над смертоносной красотой!
Летучий крестик будет серебриться -
скрипичный ключ в строке 26-ой.
А, впрочем, нет - в 27-ой, конечно...
В тот день, двадцать седьмого ноября,
на землю конкистад и кожи нежной
ступил я, южный крен календаря
испанского охотно принимая
и чуя, что альпийский перелёт -
лишь первый знак, лишь метка призовая
к тому, что в эти дни произойдёт
со мной у кромки моря иберийской,
средь пёстрых куполов и жёлтых стен...
Призывными очами одалиски
в упор глядело время перемен.
Индиго взора синьориты Лопес
светилось, как над пропастью во ржи.
И некий, к "Романсеро" склонный, опус
уже витал в туманности души.
И отворялось всё полней дыханье
не в новую страну, а в новый мир,
что был готов принять мои признанья
и дать в ответ пароль "Гвадалквивир"...
Из aeropuerto Барселоны -
опять лететь. На взлёте всякий раз
я молчалив. Но за листвой лимона
античные Валенсии колонны
белели. И сказал я окрылённо:
"О Александр и Осип, - наше лоно!
Мы долетим. - Да видит третий глаз..."
Чтобы вычитать начисто стих...
* * *
Лишь чуток удержаться в живых,
чтобы вычитать начисто стих
и мальчонку поставить на ноги,
чтоб из верных канону икон
предвечерний ничей небосклон
крёстным батькою выбрать в итоге.
Ибо всё ж Богородица-мать
не велит без креста умирать
на бурлацкой надсаженной вые.
Видно, был я не прав, говоря,
что блаженней крестившихся зря, -
яко пристальны глухонемые...
Потому что писатель Андрей,
от пшеничного зелья добрей,
чем былинный заступник Добрыня,
мне в ответ благонравно изрёк,
оттеняя печалью упрёк:
"Это, братец, поверь мне, гордыня..."
Каникулы, январь 61-го
В старом Ваганькове дремлет Никола,
Сергий-отец во Кропивниках спит.
Снегом ночная усыпана школа,
бдит у дубовой двери инвалид.
Ты бы пустил меня поночевать бы,
строгий полутораногий боец!
Кружит Московщина вьюжные свадьбы,
зябнет в Кропивниках Сергий-отец.
Жив ли тот город, усыпанный снегом,
береговой острогранный гранит?
Группа подростков - в мышином и пегом -
адрес ночлега найти норовит.
Брезжит январь нереального года
свежею бронзой декретных монет.
Два мертвеца, не уйдя из народа,
пьют сквозь хрусталь электрический свет.
Штык подмерзает, Блаженный Василий, -
краснокирпичная пыль на зубах, -
к небу вознёс, вне законов и стилей,
сорок шеломов, тюрбанов, папах.
Живы ль пловцы допотопного часа? -
Пар на Волхонке, купальни огни
там, где собор первородного Спаса
сломан во дни чечевичной стряпни...
Где-то здесь, рядом, ночлежная школа -
двор, весь в сугробах, на вахте старик.
Снова играет каникул виола
снежное что-то: Сибелиус, Григ?
Или же просто московские ночи
дуют в метельный и бодрый рожок,
гонят по вене гормоны, пророча
завтра — стальное, как дизель-движок?
Был ли тот мальчик? Что с девочкой будет?... -
По истечении множества лет
те, кого утром будильник разбудит,
очи промыв, не припомнят ответ...
Только лишь те, из чертёжного класса,
кто по дороге в сугробе замёрз,
там, на Волхонке, в музейную кассу
сызнова станут — сержанты запаса,
волчьих пальтишек повытертый ворс...
Живу, как всё непрочное, наощупь...
* * *
Живу, как всё непрочное, наощупь,
предзимним расширением зрачка.
Лещиной бы - вселиться, вжиться в рощу б,
без лишних слов "прости" или "пока"...
Уйти - и кто жалел бы о пропаже?
Лишь ты, единокровное дитя...
Вот так и каюсь, и грешу сейчас же,
то сусликом, то зябликом свистя.
Июльский день всё шлёт мне телеграмму.
Но Брейгель выслал в путь своих слепцов,
и вождь без глаз уже нащупал яму
для нерождённых и для их отцов...
Но, если б взять с собою посох Босха,
глядишь, ранимый край добрёл бы с ним -
до первоснежья, до слезинки воска...
До Святок, серафим Иероним!
У портрета
Я не люблю в пейзаже человека
и каюсь пред Создателем моим
в том, что его трудов дитя-калека
глаза мне ест, как погорельцу дым.
Мне родственнее кроткая природа,
прохладное молчание листвы -
без жадного дыханья сумасброда,
без суетных стенаний и молвы.
Но мне, кто грешен сам, совсем негоже
раздаривать попрёки-имена...
Вот старый холст - на тёмной его коже
так свеж знакомый облик у окна!
Когда мне с веницийского портрета
вдруг брызнет синь совсем дочерних глаз,
во мне досады на земное нету -
я склонен верить длящемуся свету,
я помню - мы живём не в первый раз!
* * *
Пламенистый параллелограмм...
В.Набоков
Здесь облик Баха тучен в тёмной раме,
а там - деревья снежны за окном.
И в пламенистом параллелограмме
сквозь иней стёкол весть влетает в дом.
О том, что в белых ветках - пенье взмаха,
что ноты вертикалей так чисты!
Нет в музыке прижизненного страха,
а есть морозный воздух высоты.
Мы не похожи на свои портреты,
едва ль похожи на своих детей.
А ромб огнистый, лёгкий сколок света,
есть некое предчувствие вестей:
о небе Иоганна Себастьяна,
о вздохе неразгаданной души,
о том, что жизнь цветна, а смерть обманна,
что до и после - всё лучисто-странно
и в кирхе Баха звонки витражи...
План вызрел в солнечных осях...
На пути в Тавриду
1.
В смоленском поезде чумазом,
ползущем через август к югу,
вращались медленно по кругу
все выдохи плацкарты разом,
сгущаясь в тягостный букет.
Фантомом-спутником, в ответ
над душегубкой воспаряя,
я видел ясно третьим глазом
с высотно-птичьего полёта,
как поезд мой вдоль нитки рельсов
покатою дугою сферы
по глобусу на юг стекал…-
Состав железной головою
шумерского локомотива
бодал, таранил темноту,
огнистые набычив фары.
Колёсные вращались пары,
чеканя стыки на мосту.
Под звон стаканов – мемуары
в купе соседнем шли к концу…
Дороге, словно подлецу
или каракулям невежды,
все склейки, нитки, швы – к лицу!
Сквозняк пути – пунктир надежды.
Так, аритмией клятый-мятый,
от харьковской, пятидесятой,
до сорок пятой параллели
я отмерял семь сотен вёрст...
Распахи окон в ночь летели,
по ветру бились занавески.
Вставало небо в полный рост,
и, будто бы нездешне-дерзкий,
но издавна знакомый, мост,
чуть изгибаясь, Шлях Чумацкий
легко над полночью парил –
в благоволенье высших сил…
2.
А как я ранний час любил
прибытия по расписанью –
с привычным сдвигом опозданья –
на Симферопольский вокзал!
Кто сто тетрадей исписал,
тот ради кровного признанья
опять возьмёт, пожалуй, слово...
Искрит вокзальная полова,
отпускников пчелиный рой
гудит уже и в полшестого.
Рассветом, свежим, как барвинок,
и чёрствой денежной игрой
разбужен привокзальный рынок.
И, золотясь парчой косынок,
блюдут Зухра и Алия
червонный козырь помидора.
Увы, скудна мошна моя!
А всё ж в тональности мажора
скажу, что стрелка льнёт к шести
на здешней инкерманской башне,
и, жаждой мучимый вчерашней,
спешит на рюмку наскрести
бродяга пыльного покроя –
вид, неизменный с мезозоя.
Пора! – На грудь сто грамм свои
в харчевне сонной Зульфии
вздымает особь. – Вновь героя
награда родины нашла!
3.
Но стая птиц, звонка-мала,
зигзаги чёрного стекла,
флотилия стрижей рассветных
«Была – смеётся – не была!» -
в полновоздушном царстве бедных.
Вне всех районных, всепланетных
и прочих шарлатанских смет,
прими творительный привет,
как за семь бед один ответ!
Возьми подарок-неотдарок! –
Ведь здесь, под сводами камней
белейших флорентийских арок –
теплей, чем выпуклость камей,
лепнина птичьих гнёзд. Птенцы, -
над скверной бандюка и Флинта, -
на подступах к высотам крепнут,
хранимы зоркостью инстинкта
слепой родительской любви…
Лови рассветный дар, лови –
свой, словно вера на крови!
Вдыхай волнистых лон флюиды,
что с кромок Понта и Тавриды
примчал к ноздрям легчайший бриз.
Откройся портом Партенита,
где сокровенен трюма приз,
и призменная синь, как прежде,
метнёт улыбку сверху вниз...
Первосвященством побережья,
и в этот раз спасётся мир!
Бьюсь об заклад – опять инжир,
чернильный, жёлтый и лиловый,
поспел в береговых камнях...
И о семи желанных днях
план вызрел в солнечных осях.
Уйдёт троллейбус в полседьмого
туда, где август держит слово,
где в лоне утра золотого
коханка-жизнь проснётся снова -
возлюбленная на сносях
на ясно-синих воздусях!
Солнце на лето, зима на мороз...
22 декабря
Солнце на лето, зима на мороз.
Но несомненно, что солнце - на лето!
Стихотворение давнее это
не записал я ни разу всерьёз.
Может быть, всё-таки стоит поднять
с пёрышком, - или над клавишей, - руку?
Не для того, что витийства науку
веку скептическому преподать,
но лишь затем, чтобы легче спалось
ночью метельной за драною дверью,
чтоб из ребячьего сна-суеверья
ну, хоть бы что-то к сединам сбылось...
Солнце на лето, на стужу зима.
Отче, продли нас до вешнего плеска!
Под штукатуркой Рублёвская фреска -
яблоко чувства в рогожке ума...
После грозы
Ливень тысячью маленьких лиц
отсверкал, вдохновеньем пронизан.
На асфальте под мокрым карнизом -
скорлупа голубиных яиц.
Значит, выпрямят вскоре крыло
те птенцы, что проклюнулись к грозам.
Треугольным каштановым розам
после ливня - до дрожи светло.
Погляди же на высверк росин
в бело-розовых свечках каштана!
От озона, зори, от нирваны -
твоё зоркое имя Зоряна...
Так покинем приют-магазин,
отворяя стеклянную дверь,
ибо гром с водопадом отходчив!
Поспешим из укрытья молочной,
в тот июнь, где так ярко теперь,
где твои после ливня уста
озаряются юной улыбкой,
откликаясь на солнечно-зыбкий
переплеск грозового листа...
Игрища
Увы, окутал дым учителей,
подсыпал соли в их усы и баки.
Но звонки зовы сверстников-друзей
сквозь все шумы, ристалища и драки.
Сидячие притворства позабыв,
исполненные протокольных бдений,
и ныне чую гончих ног порыв,
в укусах йода сбитые колени.
О, частый пульс футбольного мяча,
о, игрища, сродни высокой драме!
Вопящий "мимо!" Коля Каланча,
облитый неподдельными слезами...
О, ног-смычков мажорная возня,
и точностью, и остротою паса
гармонии учившая меня
задолго до октав Торкватто Тассо!
Там был в цене вольнолюбивый нрав,
а малодушье - явно не в почёте.
А, кто правее был, кто меньше прав,
почти бесспорно отражалось в счёте.
Усталые наставники мои!
Ваш синус регулярно повторяя,
душой я там, где - вольные бои,
в вечнозелёном безнадзорном мае!
Но свету Рождества - не потеряться ...
31 декабря 2010 г.
Какой ещё удачи мне искать
в Гурзуфе, под дождём предновогодним?
Смешал я плавно вермут и мускат
с бродяжьим эго, с шагом всепогодным,
с пропащим ливнем края декабря
две тысячи предательского года,
в котором нашатырь нетопыря, -
сей аммиак сената и синода, -
опять в кругу трёхсот квадратных дней
томил чутьё и разум не пределе...
Сквозь зимний крен дождя - ещё слышней
растерянность души в промокшем теле.
Но в окнах свет дрожит - посёлок жив,
и я, в безлюдной лавке "Вина Крыма"
две ёмкости с креплёным прикупив,
продолжу путь, - себя и прочих мимо, -
к лишённой смысла перемене дат,
что мнимости суммирует и множит...
О пёс, во тьме мелькнувший, мокрый брат!
Похоже, я вином согрет и рад,
что год, - чужой, как этот вечер, - прожит...
* * *
Но свету Рождества - не потеряться
в содомах, среди каменных химер.
Больному миру легче просыпаться
в присутствии волшебнейшей из вер -
во дни, где хлеб и хлев роднит Спаситель,
где лепит вечность лепетом Дитя,
где вещим звуком полнится обитель -
крылатым хором с острия гвоздя...
Пройти по первейшему снегу...
* * *
Сизифов зимний день втащу под крышу,
всё той же вечной лестницей взойдя. -
Но не ропщу, ведь я за дверью слышу
твой голос, ясноглазое дитя!
Войду - и мне в прихожей улыбнутся
два сброшенных, два красных сапожка.
И милосердно губ моих коснутся -
судьбы дыханье и твоя рука...
* * *
Пройти по первейшему снегу,
по полночи наискосок!
И что за нужда человеку -
тянуть вслед за этим свой срок?
Ведь искренней, звучней, белее,
чем прописи снежной карат,
не скажут ни "Четьи минеи",
ни "Суммой" прославленный брат.
Ты слушаешь музыку неба,
но слышать мешают шумы -
лихие добытчики хлеба,
умельцы, глухие умы...
Но если уж снег выпадает
средь полночи и средь судьбы,
то ангелов очи рыдают
от счастья и светятся лбы!
О только б никто не услышал
ни их, ни тебя, - им в ответ, -
и только б наружу не вышел
хрустящий приснившийся свет!
Пройти по целебному снегу,
по пустоши, по целине.
И зрея к большому побегу,
сбежать от себя - хоть во сне...
Пересадка в Хофе
Медвежий заснеженный угол,
Баварская Тмутаракань.
Гранёный - сквозь прозелень - купол,
понтифика медная дань -
чуть слышному веянью Духа
в ничуть не хвастливых краях...
Сочельник - огней заваруха,
нерусской гульбы полувзмах.
Тевтон по надежде и вере
пирует. Что Рейн, а что Майн -
везде карусельные звери
и паром цветущий глювайн.
Везде - окольцованность долгом,
завет-аксиома о том,
что счастье пути будет долгим
над велосипедным седлом!
И я в пересадочном Хофе,
где поезд вот-вот подадут,
под ёлкою выхлебав кофе,
негромко подумаю: "Гут!" -
про этот старательный угол,
что вынянчил в твёрдом труде:
искрящейся патины купол
и Святок малиновый уголь,
трескучий - навстречу Звезде...
Колыбельная
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике - вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках - и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает - про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз - людоед, самодур.
По сараям - чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам - сёла. Промежду сугробов - кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!
В оба глядел - а изранился смыслом расколотым...
Первое января
Тесные джинсы расшиты узорчатым золотом,
Элвисом колются, архиерейской парчою.
В оба глядел - а изранился смыслом расколотым,
не осветил все углы и сусеки свечою.
Год отпевая, бузят непристойные праздники.
Стужа чернеет, паучья вдовица, без снега.
В стае щенячьей дышал я теплом, одноклассники,
но холодила мне яблоки глаз неизбежность побега
каждое утро - водой из-под крана латунного,
родственно-грубым, на грамм справедливым, упрёком,
неким предчувствием отклика струнного, руннного,
каждое утро - под пристальным Пастырским оком...
Юные лица и камни в отметинах времени
больше всего и любил я. По-прежнему помню,
как разрешаются почвы средь мая от бремени,
трепет ветвей отдавая стожильному корню.
Словно с нуля, к яркопёрой гулянке на тополе
двинутся дни - штрих-пунктиры, пробелы терпенья...
Ночь отшумела - петарды за окнами хлопали,
вспышки бросая на стену сосновою тенью.
Страусы-Леви искрят балаганною ниткою.
Улица с кожей гусиной - извилистей змея.
Не угонюсь за трамваем, за паствою прыткою.
Нечем как будто и крыть. А и сдаться не смею.
* * *
В пять часов - ни души, ни бродячей собаки
в темноте тридцать первого декабря.
Ясно-зимний Гурзуф чуть звенит во мраке,
золотые глазища за так даря.
В каждой лавке кусок - кусает однако,
шкуру с позднего путника всласть дерут.
Лишь зрачок огня во вселенстве мрака -
и цветок на грудь, и значок за труд.
В зимнем воздухе угольный выдох дыма. -
Так полвека назад из белёной печи,
от забот твоих, милая, неопалимо
обещали румянцем цвести калачи.
Сквозь пространство и запах приходит, и привкус -
полнотой возвращенья утрат щемит.
Ясно-зимний Гурзуф - самоцвет на вынос,
самопал, воссиявший от искры быт...
Белый, Чёрный, Огненный...
* * *
Умного Ульянова гопники-племянники,
Троцкого кузнечики - догрызли мураву.
К торбе Щорса прянули - зачерствели пряники,
поползла протяжная кровь по рукаву.
Ой ты, песня долгая, без конца и краешка!
Кожанка шевровая, браунинг-наган...
Ворон колыбельную кряхчет "баю-баюшки",
в голове кобенится Коба-таракан.
Чавкают засосами топи Расдвапутина.
На Украйне властвуют урки, гой еси.
Чуешь ли, по адресу кореша Остудина,
Матушка Казанская? - "Чад своих спаси!"
Гнилью напрочь порчена Русь обетованная,
все обеты сдавшая любо в комитет...
Чечевичной пустошью кони первозванные,
Белый, Чёрный, Огненный, скачут, след во след.
Ибо время вызрело - встать над гривой всаднику
с поднятым до облака нинзяцу-мечом!
И крест-накрест выкрестить до набойки-задника
всех, кто ни при совести, то есть, ни при чём...
В вакуум не спрятаться - он кипит, сгущается.
Пуще лжесвидетельской лавочки "хип-хоп",
патриарх из органов брешет и не кается:
в третьем поколении - окаянный лоб...
Некая тайна упрямилась в ней...
Анна Тёмная
Царская кухня, фамильный пирог,
"графских развалин" блаженные сливки -
первое, что я припомнить бы мог
для свежесрезанной к тексту прививки,
для прорастанья в просветах меж строк
вербных - над Пасхой, над Летою веток...
Губы забыли сонетов венок,
что завещал мне лирический предок.
И лишь язык помнит эпоса смак,
вкус совершенства - варенья из вишни,
временем скудным подаренный знак,
что на житейском пиру я не лишний.
Бабка моя, яркоглаза, черна, -
то ли турчанка, то ль дочь Ханаана, -
из Гуляйполя, землячкой Махна,
родом была, величаема Анна.
Некая тайна упрямилась в ней,
не пожалев ей, оливковолицей,
нрава взрывного и властных кровей -
в память о матери-самоубийце...
Оба мы с нею - не шёлк, лишь в конце
века её навсегда подружили.
Был городок на Кремнёвом Торце,
ставил дворы на серебряной жиле...
Город большой не хотел ни меня,
ни зарифмованных мною подарков. -
Сепсис, погибель гнилого огня
к двадцатилетью накаркал мне Харьков.
Чудом Отца я сквозь жар упросил,
в койку мизинцем вцепившись в больнице.
Отче, и ныне всей зыбкостью сил
в твёрдой Твоей отражаюсь зенице.
Там, на краю, сквозь Антонов тот чад,
некая лёгкость являлась мне странно:
из всей семьи, изо всех её чад,
слёз не жалела лишь Тёмная Анна.
Кто ещё плакал когда обо мне -
раньше, потом? Не смогу, не припомню.
Ибо в своей многолюдной стране
я не сыщу тебе, горлица, ровню.
Пламень слёзы на больничный порог
ты навсегда и за всех уронила.
Я без тебя одолеть бы не смог
всеотчужденья тягучие силы.
Мутную ревность сутулой земли
к неболюбивым несгорбленным чадам.
Анна, опять твои гости пришли,
нахнет стряпня человеческим ладом...
Пахнет сосновой доскою исход.
Щёки горят от сухого обмана -
с Божьей слезой уплывает вперёд
Тёмная, истинно тёплая Анна...
Луч Радонежский, отсвет Мирликийский...
* * *
Памяти Н.В.
Волчище, друже с русыми усами,
с фамильными овражными глазами!
Скрипичный ключ носил ты в кулаке,
дабы движенье нот проистекало
из логова, из времени провала,
из цикла нулевого на песке.
Певун, игрун с гитарою, любимец
спортсменок смуглых - на два дня счастливиц -
ты мог звучать как нищий и как принц.
Кто смел бы думать, шахматист успешный,
что так необязательно-поспешно
турнир твой обратится в гибель-блиц?
Соратник ли, каникульный приятель?
Лишь время, неподкупный дознаватель,
все пункты взыщет, подпись и печать.
Но я - не Хронос. Проще и теплее
моих рукопожатий эпопея,
и не устал я до сих пор прощать...
Зевок в дебюте, в эндшпиле ошибка.
Портвейн "Агдам" и сигареты "Шипка"
не станут извиняться за подвох.
А русый волк поёт о талисмане
хранительном и о сирень-тумане,
поёт о камне на кресте дорог...
И мне всё виден жаркий корт таврийский,
луч Радонежский, отсвет Мирликийский, -
лет двадцать-двадцать пять тому назад.
Ни ты, ни я предать уже не в силах-
на пристанях, на росстанях, в могилах -
ни песню-юность, ни Кучук-Ламбат...
Маяк на Утёсе
Кучук-ламбатский каменный Хаос -
столпотворенье глыб тысячелетних.
Затейник и игрун не из последних -
резвившийся над берегом колосс...
Венчает циклопическую прыть
Утёс, поросший травами и хвоей.
Но око его, буйное-шальное,
ресницами ветвей не заслонить.
В гранитном смуглом лбу оно горит -
то теплится реликтовой лазурью,
то, блажью переполнясь, бычьей, турьей,
угрозы мечет за далёкий Крит,
о давних вспоминая временах,
о вечно-синих струях-Дарданеллах,
о янычарах, кровожадно-смелых,
с глазами, как вино "Кара-Чанах".
О жарко-пыльных ханских городах,
о шишаке-тюрбане, с минарета
стенавшем правоверные заветы.
О дымчатой мечети Чатыр-Даг...
И вночь скорбит о терпком прожитом
циклопье фосфорическое око.
Луна приходит с тюркского востока,
но Крым уже просторно и широко
покрыт казачьим звёздчатым шатром...
Но о худшем я лучшее помню...
* * *
И поддельный мускат отдаёт неподдельным портвейном.
Относительно всё, как доказано точно Эйнштейном.
Пригласите поэта в солярий, а не на погост.
Отнесите цветок к нержавеющей памятной стеле,
если воры ночные металл ободрать не успели.
Труден выбор пути, а подъём относительно прост.
Не оставьте творца на асфальте продрогшего века –
относительно тёплого, сбитого с ног человека.
Мрачно, Отче, дичанье Твоих переростков-детей…
И упрятав художника в зимний гараж до похмелья,
карандашным огрызком пишу в дневнике всю неделю:
«Время – без покаянья, пространство – без добрых вестей…»
Проводите, без зависти, в летний театр музыканта,
в оркестровую яму. И ленточку чёрного банта
повяжите на шею в пропорции крыл мотылька.
А когда зарыдают об общей утрате «Паяцы» -
абсолютен их слух. Первородство не смеет склоняться
пред огрызками нот перекупщика и байстрюка...
Занесите мой резус в картонное личное дело.
Относительно точно в слова облекается тело.
Например, фигурирует точность «до наоборот».
Давят зимы Сибирью на плохо заросшее темя,
прирастает цифирью до боли знакомое племя.
Но о худшем я лучшее помню: «И это пройдёт…»
* * *
Стихи начинаю строить с крыши -
первая строчка к небу ближе,
последняя - к земле...
Строю истово,
много лет
маленький храм из сосен,
ясный, как осень.
Назову избой и пагодой,
поселю там тихо,
чуть дыша,
голубую живую ягоду,
похожую на земной шар.
И цитату цикады, и лиса Улисса завет...
* * *
О.М.
Говори, говори о плечах европеянок нежных,
гнутоклювый и чувственный, слабый и вечноживой!
А замолкнешь - лишь ветер и взвоет в пределах бесснежных,
пережёванных, сплюнутых золотозубой Москвой.
А смолчишь - только падальщик и прохрипит над равниной,
костяной распахнув, с кумачовой нутрянкою, зев.
Азиатские скулы холмов перемазаны глиной,
и по мокрым щекам прорастает озимый посев...
Не молчи - да пробьётся высокий обман говоренья
через вязкую кривду осенних и зимних дождей!
Городская квартира больна теснотой и мигренью,
а за окнами - неразличимость случайных людей.
Не смиряясь, бубни, персмешник надсады и горя,-
и цитату цикады, и лиса Улисса завет!
Отчего в этом чуждом для жёстких ушей разговоре
неизбежность сквозит, как под дверь проливается свет?
Есть отвага предчувствий. И ею пульсирует вена,
в её ритме возможно вразрез пересечь ледоход.
Причастись - и над чёрной водой пролетишь непременно.
Как напомнил ещё один Осип: "Решимость ведёт..."
Не зевай, не моргай, на лету не свисти...
Сумерки Лилля
Шалый ветер из Гента занёс меня в Лилль.
Ещё утром, во Фландрии, угольщик Тиль
Уленшпигель, - зерцала и филина брат, -
не жалел мне энергии, эм-цэ-квадрат,
подавая осенний эспрессо к столу,
обжигая листву в золотую золу...
Говорить по-немецки с фламандцами - гут!
Понимают и кофе охотно несут. -
Жаль мне Гент покидать, но однако же, в Лилль
въехал к вечеру я, в крепкокаменный вилль,
ибо резвый сквозняк продувной меня нёс,
ветер странствий влачил, скороход и матрос,
то по рельсам ездок, то по тучам летун,
неустанный - что в зной, что в мороз-колотун...
Впрочем, вечер сентябрьский был ясен и тих,
не суля ни дождя, ни осадков иных.
Зажигались на Ратушной площади бра,
и пилонами высилась Лилль-Опера.
И с гранитного цоколя бронзовый страж
озирал из-под длани - заката мираж.
Но внезапно, но вдруг - молодой ещё свет
обратился в тревожный, в густой фиолет...
И Атлантики воздух так враз потемнел,
что на миг я себя ощутил не у дел:
что за бес-сомелье заманил меня в Лилль?
Чьи три тысячи лье, соответственно миль,
соответственно вёрст, - на метле, по петле, -
прочертил я, чтоб вдруг, в сине-чёрном стекле,
оклематься, очнуться - один на один
с зазеркальною тягой утробных глубин?
И едва не завыл во мне пёс Баскервиль:
"Не ослаб ли душой ты в походе на Лилль?
Не забыл ли священных примет по пути:
не зевай, не моргай, на лету не свисти?"
Но, всю грудь осенив широченным крестом,
чью-то тень я спугнул, чей-то призрак-фантом...
И пошёл ночевать на арабский чердак -
да с покупкой "Бордо", а не как-нибудь так!
Ибо вправду - чем кровь винограда темней,
тем чужбина к тебе подступает родней,
подливает и врёт всё теплее: "Месье,
будет утром - тре бьен, будет всё - монпасье!"
Пахнет морем и яблоком Ева...
Гаспра
Старокняжеские алебастры
тронул розовым светом восток –
земляничное дерево Гаспры
мне в ладонь уронило листок.
Меж ветвей почивает прохлада.
Ранний воздух на вкус – Парадиз.
И полны благозвучья и лада –
имена: Симеиз, Кореиз…
Золотая уколет примета –
только краем ресниц позови.
Дорог дар красноплодного лета –
растворенье июля в крови.
Дорог дар переменчивых странствий –
в райских кущах сверкнула змея.
Как ты светишься в смуглом убранстве,
загорелая Ева моя!
Повтори же, смеясь, своё имя.
и, спустившись по склону к волне,
в поцелуе умрём молодыми,
чтобы в старом воскреснуть вине!
Пахнет морем и яблоком Ева.
Зноен грех наш до дрожи колен –
перепутано право и лево,
и шумит земляничное древо
подле княжьих облупленных стен…
* * *
Чёрные куры сидят на ветвях алычи,
дымчатый кот задремал на ступенях хибары.
Явно искренье молекул османской парчи
в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.
Вот он, посёлок приморский, куда столько лет
я приезжаю опять по невнятной привычке,
где между прошлым и будущим паузы нет,
как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.
Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.
Банщицей здешней веранда сдана мне - товар,
столь ходовой в сей жильём небогатой огруге.
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,
демос слепил два десятка халуп при турбазе:
вольного воздуха водка и бриза мускат
в каждом зачатии-вдохе и в выдохе-фразе!
Воля Господня, свобода святого вранья, -
наперекор греховодной обыденной правде,-
дней на пяток умыкните с поминок меня
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...
Море возлюбленной пахнет.
И хмель не берёт
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.
Велик печалью, сроком мал...
Памяти А.Передреева
Лил зимний дождь что было сил
за окнами на голь деревьев.
Чуть трезвый Толя Передреев
в тот вечер стих мой оценил.
В тот раз дружок Рубцова пил
с другим, малодостойным, другом
и горько плакал, будто стругом
подбитым в омут уходил.
Земля, где гибнут мужики
от гордости, хоть и по пьяни,
то в Вологде, а то в Рязани
редчайшие родит цветки.
По-детски искривляя рот,
твердил он, со слезой и болью,
что сердце сорвано в застолье,
что сам он вскорости умрёт...
Так подлинно он предрекал
свою погибель в плаче этом!
Он очень русским был поэтом -
велик печалью, сроком мал.
Он умер дома и во сне.
От сердца. От родимой водки.
Прости же, милый, пир короткий.
Опохмелись последней соткой.
И оживи, на миг, во мне...
* * *
А вот и матушка-зима!
Сдаётся, злая её рожа
на правду более похожа,
чем злата-лета кутерьма.
И то сказать: какой резон
тянуть до ноября с теплынью?
Проснулись - минус пять, и стынью
сквозит со всех шести сторон.
Се - натуральный русский дух,
железный спиритус морозов.
И Карамазов-Каракозов
Кара-Мурзе - первейший друг.
С ордынским посвистом зима
спешит на войлочной лошадке,
и сыплет манной снег на грядки,
и дымом фыркают дома.
А между тем, мороз-отец,
в косматом трёпаном треухе,
глотнув забористой сивухи,
шукает в кадке огурец.
Когда ж и выпить, как не в час
первоапостольного снега?
И альфа-бета, и омега,
и конрапункт, и ватерпас -
желанье варварским вином
согреть отходчивую душу...
Хлебну, традиций не нарушу.
Но вновь о смутном прожитом
я думаю, при первом снеге
на зиму глядя сквозь стекло.-
Немеет узника стило,
и напрочь за ночь замело
всю ересь плана о побеге...
И весь тот день, свидетельство о чуде...
* * *
В. Ершову
Не чурайся, мудрея, летучих стихов, Володимир!
И пера-самописки из заматеревшей руки
не роняй. Ибо взлётный наш тополь не вымер,
не усох на корню - суховеям-годам вопреки.
То к Суле я прильну, то к Донцу наклонюсь, чтоб напиться,
то опять подсеку краснопёрку крючком на уду.
Вяжет время узор - словно ходики, цокают спицы,
в бесфамильность потока вплетая гребцов череду.
Моложавая лодка плывёт по реке, голубея,
молодильные яблоки падают наземь в саду.
В те края, где дворняги добры, где кормил голубей я,
снова я, - непременно, - плечистый мой друже, приду.
В каждом вдохе стиха оживает и светится юность.
И давно бы я проклял бесстыжий напёрсточный рай,
если б не возвращенья в ладье на прибрежную супесь -
в день-цикорий, в июльский кипрей, в молочай, иван-чай...
И давай-ка, вдвоём приналяжем на вёсла из дуба,
Меотиду лаская, Азов, Казантип, Танаис.
Да останутся честными риски бродяжьего румба -
то налево, то вправо, но ввысь, мой соратник, но ввысь!
* * *
Вплетайся, лыко, в праздничную ткань!
Не пропадать ведь жизни понапрасну...
Манит волной, дарИт Тмутаракань
напутствие рыбачьему соблазну.
Хрустя ракушкой жаркой, на Азов
прийти и с леской стать на край бетона.
И в отроческий незабвенный лов
вернуться вновь, запальчиво-влюблённо.
Туда, туда, где увалень-бычок,
лобастый, как Сократ, сакральный предок,
хватает жадной пастью твой крючок,
наживку нежно-розовых креветок.
Туда, где, краснокож, как ирокез,
спешишь с куканом грузною походкой,
где спёк тебя на злате полдня бес,
а мать гремит чугунной сковородкой
и в постном масле жарит свежину -
на тесной кухне в съёмной халабуде...
О, крошку плавника бы, хоть одну -
да снова на язык! Нет, не усну -
и соль волны, и мёд стряпни вдохну,
и весь тот день, свидетельство о чуде!
* * *
Наплывает зелёной волною Азовское море
на измолотый панцирь ракушки, на тёплый песок.
Меотида - коханка Борея античных историй.
Казантип - галактической веры резной образок.
Глубоко, всею грудью, вдыхают пространство и время
вольнолюбие ветра и смысла искомую близь.
И, подобно логической сцепке идей в теореме,
лепестки из базальта в симметрию мыса слились.
Никого, никого, ни единой души, слава Богу,
не увидишь, минуя все бухты, дугу за дугой.
В самый раз - протрубить бы тут белому единорогу,
искру высечь из камня точёной рысистой ногой.
В самый раз - осознать: это капище тех откровений,
чьи обрывки и отзвуки демос на гумус сменял...
Лишь отпетый философ приходит из зоны скудений
к возведению в некую степень и света, и тени,
ибо ждёт пассажира - семи измерений вокзал.
Ни измен, ни смерти нету...
Херувимские хореи
1.
Помнишь, бабушка, в июне
в тёмных сумерках светлы
белолицые петуньи,
известковые стволы?
Помнишь? – Звоны чайных ложек.
В дверь веранды дышит сад…
Тонкий, колкий, словно ножик, -
и влюблённый! – внука взгляд
Там судьбе моей светила
нежность чуть усталых глаз.
Там огромным лето было,
и равнялся солнцу час.
Там плескались в светотени
за штакетником цветы.
В явь мою и в сновиденья,
добрый друг, входила ты.
Никогда лихого срока
не признаю… Ты живи
в том июне, у истока
бескорыстнейшей любви.
Там, в саду,
над старой грушей,
как два облака, парят
наши любящие души –
восемь лет и шестьдесят…
2.
Снова снится лето детства,
дедов, на две сотки, сад,
райских зарослей соседство,
Божьих тварей цветоряд:
пёс весёлый, ангел шалый –
девочка, чей сонный кот
львиной пастью пышет ало
в сладострастии зевот…
Каплет вызревший крыжовник
с колко-цепкого куста.
Я ещё – ничуть не кровник
строчкам поперёк листа.
Лишь тростинкой Назорея
нижут в пропись надо мной
херувимские хореи –
сад земной и лад иной.
Там, лишь там, - и дунул в уши
чудодейственный язык,
что целебным ядом в душу,
в ядра атомов, проник!
Снова снится детства лето:
бабушка, за нею мать,
корольки в коронах света…
Ни измен, ни смерти нету. –
Не мешают вспоминать.
Бельгийский триптих
1.
Что мне Брюссель? И что я сам Брюсселю?
Его и вовсе не видать отселе.
Там без меня льняные кружева
плетутся и кудрявится капуста.
А на Руси всю зиму - стыло, пусто.
Да так, что не спасают и слова.
Гляжу в окно со странною любовью.
Разбойной старью, а тем паче новью,
любовь сия испытана вполне.
Но сколько бы учёные мудрилы
не тратили бумагу и чернила,
а истина едва ль блеснёт в окне...
Вот маленькая правда - город Ахен.
Там вежливо немецкая мамахен
за двадцать евро мне продаст билет
до самого, извольте, до Брюсселя,
где март теплее нашего апреля
и где я не был двадцать с лишним лет.
Над Фландрией, над крышами Брабанта
плеснётся птичьих лепетов бельканто.
Бурлит Гран Пляс и продаёт цветы.
И примул колера, хоть простоваты,
но Рубенса окликнут, словно брата,
и к Брейгелю напросятся в сваты.
Атлантикою веет в лона улиц,
и каменные шкурки пёстрых устриц
шершавятся узором на лотке.
Но ведь не стать, как тот брюссельский мальчик,
одетый только в бронзу отливальщик,
беспечным и с душою налегке.
Так что ж Брюссель? Изящная шкатулка,
счастливая, по краткости, прогулка.
Влюблённость же - вредна мне, и давно.
Полубокал вина в полупритоне,
вокзал, опять вокзал. И на перроне -
мысль трезвая, что мне своей иконе
в своём углу креститься суждено...
2. Брюгге
Здешний рай – из воды Летейской
и Адамова кирпича,
словно вычерчен ход ладейный
вдоль всего рычага-плеча.
Вертикальность координаты
отразилась плашмя в воде,
причаcтясь к аскезе богатой
и к родной дорогой руде –
к ранне-утренней выпечке глины,
чей закал – звонкотелый хлеб…
Для бродяжьих душ – именины:
прислониться хотя бы где б…
Но под зеленью бронз Ван Эйка,
где канал упирался в страат,
я, влюбляясь в бемоль римейка,
сам себе стал нежданно рад!
Мне всё пел из-под мака-тюрбана
бей с Балкан, оттоманский грек,
что все струны проток без обмана
в сумме точно журчат: человек!
Если ж там, где правды уснули,
в отчих кривдах, за торгаша
не дадут рикошетом ни пули,
ни полслова, ни решки гроша,
значит, подлинно каялся Брюгге,
чтоб из чести не вычесть чек,
чтоб над торгом отстроить дуги –
вдохновенно, как Ян Ван Эйк!
С иноземцем в красном тюрбане
я бродил, и сквозь осень-свет,
сквозь пейзажей морских дыханье
бил прицельно времён арбалет.
Гляну в воду – жемчужен Брюгге!
И разгладив салфетки клок,
я на фоне кофейной разлуки
напишу о любви пять строк:
«Даже ежели Льеж ревнивый
прожужжит кружевнице «Брюж»,
всё равно, мой гарант горделивый,
град-лабазник с душевной поживой,
удержу твой узорный гуж!»
3.Льежский остров
Кто кожею во Льеже ощутит
холмов полноваллонское волненье,
тот смелости посмеет-посвятит
стихотворенье.
Он замысел Мааса и посул,
движенье-подвиг водного напора
и угли ражих барж, их чёрный гул,
сморгнёт не скоро.
Он будет поутру опять готов
к предательствам и ревностям-раэдорам,
осознавая преданность мостов
быкам-опорам.
Когда открытым текстом держишь путь,
не счесть подвохов на большой дороге.
И подавляют точной ноты суть
шумы тревоги.
Гляди ж в прицел, в метафоре замри,
чтоб остров посреди Мааса, в Льеже,
дышал бы, словно остров-сон внутри,-
осенне-свежий.
Вдоль набережной листьев желтизна
по шашечкам ведёт к мосту Альберта
двух странников, чья дымная страна -
бурьян-омерта.
Что, если вправду гул плохих кровей -
свежее здесь, на приарденнском бреге?
Что, если цепких циклов здоровей
лучей разбеги?
На Рю де Парк хохол, бурят, валлон,
знаток координат, аккордов мельник
коту откроет двери на балкон,
дабы в осенний воздух мявкнул он:
"Вновь понедельник..."
Синичье слово
1.Первоснежье
Синиц налетела стая,
а следом снежный заряд,
обрывки листвы листая,
спешит отпеть листопад.
Не все у меня, знать, дома:
мне мил этих птиц атас -
их лётных нырков изломы,
и бисер лукавых глаз.
В порханье пернатых гномов,
в примете предзимья - знак
хандры корней полиномов
во взорах ничьих собак.
Певец нерифмованных лекций
и лабораторных работ,
я мыслю, что Секст Проперций
на Патмос не позовёт,
но те полсловца, что Клюев
припас в лубяном туеске,
протенькают в тонком клюве,
блеснут в заводном глазке,
когда соучастник стужи,
небритый гиперборей,
хрустя целлофаном лужи,
защёлкнет, на никель, туже
ошейник ручных зверей.
2. Северный ветер
Я почти с умилением, что ни октябрь, замечаю,
как точны и надёжны часы-перезвоны синиц.
Так добротны все дыры заварочной ложки для чая –
мельхиоровой штучки-ракушки для знающих лиц,
для натур домовитых, художников с даром уюта,
для Романовны, - детской отрады моей, - например…
Залютует мороз, зачадит тридесятая смута,
но для птиц и людей есть покровы завещанных вер.
И как только в конце октября север выдохнет стужу
на усыпанный ярко-паническим золотом клён,
полетят, засвистят они, - бодрою дурью наружу, -
северянки-синицы с ледовых онежских сторон,
с беломорских краёв, с соловецкого дикого камня,
с серединной, вовек не знававшей серёдки, Руси.
Как нужна в холода теплокровного дома рука мне!
Повинюсь я, взыскуя тепла, пред Отцом в небеси. -
В старом вопле «Отдай нам Варавву!» холопского люда,
в новом времени косноязычья державных ворюг –
повинюсь, ибо видел и жил, повинюсь… И не буду
возвращаться во сне на возлюбленный некогда юг.
Ты всё крутишь динамо, казённая курва-машина!
Не судьба, и на выдохе жизни, забыть о тебе.
На морозе горда красно-снежною гроздью рябина,
как гордится значком ворошиловец – Моцарт в стрельбе…
Остекленеют до Пасхи лягушки...
Порыв стужи
Ветер студёный шальной налетел,
наколотил яснобоких каштанов. -
Словно плоды марсианских баштанов,
светятся россыпи глянцевых тел.
Ветер внезапный, богемная блажь,
дерзкою стужею брызжет на листья,
треплет ветвей обречённые кисти,
ломится в форточку - на абордаж...
Кличет, бродяга, всю голь на гульбу -
и багреца, и цыганского злата.
Стынью, немением чакры во лбу
осень его, перед казнью, богата...
Травы охрупчит студёная тишь,
остекленеют до Пасхи лягушки.
Заиндевелых каштанов игрушки
стащит в нору острозубая мышь...
* * *
Пахнет гречкой, подгоревшей в коммуналке у соседей.
За подъездной драной дверью – двор, усыпанный листвой.
«Аз» - скажу пароль, а осень мне ответит «буки, веди»,
грудь и плечи расправляя, как румяный постовой.
Словарю пословиц Даля лисьей шапкою кивая,
баснописца поминая с тонконогой стрекозой,
листопад унюхал рифму. А когда она живая,
сам я чую возбужденье гончей или же борзой.
В чаще веток – лепетанье алфавита, плески гаммы
и синичий, - в клюв из клюва, - дробной ноты перелив.
В ярком умиранье формы есть языческая драма,
но Завет благовещает, что Носитель сути жив…
И на полусбое ритма, на простудном переходе,
на изломе самописца – рисовальщика дуги –
я сутулую фигуру в промелькнувшем пешеходе
поспешу узнать… И ближним без труда прощу долги.
Кто любим, тот не уходит, даже если отлетает. –
Листопадом окликает и наклоном головы…
Ясной осенью, должно быть, мальчик мой меня узнает
из-под челки белобрысой… Дымной осенью, увы…
Цветы лихолетья
Когда спозаранку в свой зимний башмак
влезал ты, сомнамбула-школьник,
не отрок ты был - с белым верхом батрак,
с коричневым низом невольник.
Казалось бы, умные книжки любил,
а школу бы - с музыкой, с песней спалил.
Вставая полвека на бой и на труд,
ты знал, что тебя обувают.
Зачем же цветы лихолетья цветут,
и светлость их не убывает?
Казалось, взойдут лишь осот и полынь,
но жив колокольчик и чуб его синь!
Ничейную доблесть, потёртый хомут
влача от июня к июню,
ты ждал, одуванчики вновь зацветут,
на солнце изжарят глазунью.
Казалось бы, так себе пища - плебей.
Но Битлы запели о ней "Естедей".
И ты бы запел, сочинил бы стихи,
но нет тебе мира и в полночь. -
Без башни низы и без неба верхи -
циничны, как "скорая помощь".
Трясёт перекрытия сверху торгаш,
и капает на пол не воск - макияж....
Но май на порушенном кладбище пьян -
у церкви, в сегодняшнем парке,
где бес загружает быков-катаржан
в стотысячные иномарки.
А тот, кто, юннатом, природу любил,
воздет, - экспонатом,- на кончиках вил...
Но снова - теплынь, но поляны - в цвету,
и веет надеждой их нежность,
хоть в притче про день, что с собой не в ладу,
звенит сквозняка неизбежность.
Хоть завтра опять - спозаранку вставать,
и нет, не разбудит, как в юности, мать...
И в долгую зиму смелей отворите окно..
* * *
Чем хуже, тем лучше. И доктор давно приписал
нехитрое снадобье - огненный спиритус веры.
Глотнёшь и пойдёшь ночевать на московский вокзал,
на Курский, должно быть, где рядом - бомжи, инженеры,
цыгане-ромалы, в наркозе бенгальских очей,
томятся на лавках - в чаду и в дремоте тяжёлой...
Задуманный Божьим, бредёшь, меж скамеек, ничей,
с крамолой за пазухой - ангельских лет маттиолой.
И всё ж, за родимою злобой фамильного дня,
за братом-цианом в объятьях сестрицы-цикуты -
найдите, последние из первородных, меня,
пока нас не смяли без слуха и голоса плуты!
Ромалы струну бередят, над тряпьём-багажом
тоскою о воле в предбрюшье души ударяя.
Пырнут за червонец, за рыжую шапку, ножом,
но голосом тёмным касаются просини рая.
А эта плечистая глухонемая страна
не выцедит доброго слова, не сладит ночлега.
Наварит сивухи, допьёт до мазутного дна
и выставит роту-засаду у дикого брега.
И, смеха заради, швырнёт ночевать на вокзал,
на драную лавку престольного града-вертепа.
"Чем хуже, тем лучше" - наследный геном приказал,
и кровопусканья, и переливания крови - нелепы...
Вот, разве что, выйдешь на улицу - девки поют!
Верней, что-то в воздухе веет с минувшего века,
когда по усадьбам хранили семейный уют
и медным орлом накрывали покойника веко.
Да, разве что, лекарь, последней надежды вино
пипеткой накапав, прокашляет: "Затемно встаньте
и в долгую зиму смелей отворите окно,
чтоб вымыл вам очи арктический spiritus sancti..."
Ранят сирень холода перекупщика-мая...
* * *
Сладкая жизнь разбомбила мне зубы под корень -
то поцелуи, то с юга креплёные вина...
Смолоду, помнится, ловок я был и проворен,
но горячился. Засим и спалил половину
черновиков и надёжных мостов через реки -
через Евфрат, через Нетечь и Трубеж, к примеру...
Благо, инстинкт восхождения во человеки
не поскупился скрепить изнутри мою веру.
Брал на прикус я озёрную мову в Украйне.
Ангеле мой! Отчего всё летим через ночь мы?
Странно мне дышится тут, где, - и здешний, и крайний, -
я Перворусью зачем-то зову эти почвы.
Брал я на зуб чернозём серединной России -
куры с орлами, Тамбова пчелиные тумбы.
С Пушкиным липецким липкую глину месили,
всё-то шутил Александр: "Ты бы взялся за ум бы..."
Так за бухгалтерский разум я и не схватился. -
Ни синекуры блатной, ни свечного завода
не приласкал. Лишь за гривенник гнутый долбился,
вахту держа, не сдавая секретного кода.
Ergo, в дому моём сильно расшатаны камни.
Скрипы прогнивших стропил, оцинковки казённой
спать не дают мне. И больно измяли бока мне
бесы бессонниц у стенки с фамильной иконой.
Плохо мы, родичи, брашна стяжали земные:
жадно, поспешно - глаза и язык испоганя.
Сколько б ни чтил я умом откровенья иные,
в сердце стучит - лишь предчувствие во Иоанне...
Гуще ничто твоё, Русь. Бездуховнее раса.
Ранят сирень холода перекупщика-мая.
Глажу овчарку чепрачно-стального окраса.
В гости не жду никого. Лишь тепла ожидаю...
Жил я в миру, но – при ангеле и ангелице...
* * *
Разве что чайных пакетов в метро прикуплю,
разве что пачку, с кокосовой крошкой, печенья
и по дороге не стану, как Пан во хмелю,
в каждой из нимф смаковать золотое сеченье.
И по пути воздержусь, яко страстный сатир,
в каждой наяде алкать потаённой серёдки.
Мальчиком, некогда, с ложки сглотнув рыбий жир,
ныне о постном и тощем пишу я намётки
в школьных тетрадях, расчерченных клеткой: стихи,
некие планы-прожекты на смутное завтра,
рыб, голубей пиктограммы, а также архи-
разную муть – из массовки случайного кадра…
Вот бы почтовый сизарь и присел на окно
в комнате той, где уже на часах полвторого,
в городе том, где зимой и в четыре темно,
где только к Пасхе и жди от светила полслова…
Вот и прильнул бы к фрамуге моей голубок,
крылья б сложил, - полевая служивая птица, -
на подоконнике, чей проржавел козырёк,
чтоб хоть военною тайной со мной поделиться.
Я бы охотно с предзимним бойцом помолчал –
об аспирине, о вязовых веток корице…
Или же лучше о том, как в начале начал,
невдалеке от шлагбаума, насыпи, шпал,
жил я в миру, но – при ангеле и ангелице!
Сквозь тот же солнечный овраг...
Встреча
Застывшим солнечным оврагом,
сквозь голый зябкий краснотал
октябрь, почти неслышным шагом,
свой день последний отмерял.
Светился день, сухой, пригожий,
летучей нитью повитой.
И пахло в воздухе рогожей
и чистой льдистою водой.
И вниз по склону буерака,
навстречу мне, тропой-змеёй
вдвоём с лохматою собакой,
школяр-малец спешил домой -
круша с отвагой восьмилетней
репья усохшего кусты...
В колючках, моды предпоследней,
сползали с воина порты...
И так вовсю, по-свойски, псина
смеялась влажным языком,
так ранец с глянцем дерматина
до звона в пульсе был знаком! -
Как будто бы не четверть века
по небу моему прошла,
а только покачнулась ветка,
и из-за вербного ствола
я сам спешу себе навстречу
сквозь тот же солнечный овраг -
всё тот же мальчуган беспечный
в добротных чучельных штанах...
* * *
Друг, ты не жалуешь собак,
а я, признаться, с ними дружен.
Так иногда бывает нужен
щенячьей нежности пустяк.
Взгляни, когда они косят
агатом пристального глаза,
взгляни - и угадаешь сразу,
насколько прав и виноват.
Да, я огромных псов люблю
и их щенков на лапах толстых,
в которых силы благородство
чистопородное ловлю.
И пусть двуногим не указ
собачья преданность и верность,
но чем-то мне близка безмерность
отваги их ребячьих глаз.
И я в упрёк не ставлю псам
клыков жемчужную бесстыжесть.
Без них, пожалуй бы, не выжить
зрачков нездешним образам.
Но всё же их завет, их долг -
из века бронзовых орудий,
откуда с нами вышел в люди
не пленный, нет, - влюблённый волк!
Полвека подсветивший цветоряд...
* * *
Цветной хрусталь из грановитой Праги
тяжёл в твоей громоздкой пятерне.
Морские звёзды блещут в глубине,
подобно боевым десницам саги,
и россыпь ночи дышит над тобой
сквозь чёрный воздух первого июля.
Судья и царь, на колченогом стуле,
смешал ты с первородною виной
чернила каберне, чумное зелье
торгашеских таврийских берегов...
Кто прожил жизнь, кто к вычету готов,
тот от вина давно не ждёт веселья.
Лишь память от полночного глотка
плеснётся, чтоб вдогон воспоминанью
повеяла подземная река
прицельной стынью близкого свиданья...
Глотнёшь и вспомнишь: Анна и Иван
под новый снег, под год шестидесятый,
шесть чаш богемских выделки богатой
достали, рассупонив чемодан.
За пятьдесят вослед мелькнувших лет
погибли золотой бокал, лиловый,
смарагд разбился... А огранки новой,
на уровне их совершенства, нет!
Шесть раз ты ездил в островерхий Град
на поиски. И дочь твоя Елена
разыскивала тот же, незабвенный,
полвека подсветивший цветоряд...
Опять июль настал, и твой балкон
парит в ночи Нагорного района.
Но зов аэропорта, гул перрона
тебя тревожат тягой с двух сторон,
понеже ты обязан сам себе,-
вне клятв и заверений на бумаге,-
пройти и Вавилон до самой Праги,
и долгий пеший путь: от "а" и "б"
до края окоёма, до омеги...
Но странно всё ж: отважный ли, хмельной,
ты льнёшь уже к оседлости родной,
к наследной нитке скатерти льняной -
ещё до дерзкой фразы о побеге...
Рыжая радость, Лилит и суккуб...
Джип-рэп
Дёргаясь, джип застревает в дорожной канаве
вкупе с рифлёными шинами, с кругом баранки.
Помнишь ли, милая, числа? Задачник Cканави
по математике? Нет? - Перечти спозаранку.
Это такое, скажу тебе, чтенье для снятия стресса!
Поинтереснее будет страшилок Хичкока.
Рыпаясь, рэп проникает и в прессу, и в мессу,
в дырки на лацканах, в список гостей файф-о-клока.
И - ноу проблем, что сходу не принял я рэпа.
В юности, помнится, кофе хлебал через силу,
соком томатным давился, зане, кроме хлеба,
мало чего мне с рожденья меню подносило.
Время суровое, знаешь ли, горец железный.
Всё это длилось, считай, до годов девяностых,
вальсом кружась и другою кадрилью полезной...
Глядь - в одночасье в иных мы очнулись коростах.
Надо, май фрэнд, с реализмом дичанья смириться.
И перемкнуть по-простому, на минимум, совесть.
Рэп ведь - почти что гекзаметр. И курица-птица
вправе летать. Вот такая о времени повесть.
Если я мрачно шучу, ты меня понимаешь.
Ибо иначе бы и не окликнул тебя я.
Рэп в колымаге железной затем и врубаешь,
чтобы продолжить Джамбула напев и Абая.
Всё это пелось уже. Только ритм изменился -
в сторону черни, читай, в направленье исходном.
Мистер Грязюкин рванул понаглее, чем Вилсон,
на внедорожнике кованом, в рваном исподнем.
Никель блестит и по ямам дорожным несётся.
Джип - аксиома о полном бессмертье брателло.
Помнишь задачник? Коль тень твоя не рассмеётся,
я интегралом тройным окаймлю твоё тело...
* * *
Рыжие лилии в зное цветут.
Срежешь - в стекле только день проживут.
Масти лилейной, юна и нежна,
ты для поспешного счастья вольна,
дар свой нежданный неся налегке -
дюжину чёрных смородин в руке:
благо, на Пушке, у входа в метро,
спелостью пахнет селянки ведро.
Знаю, данайцев губительный пас
брезжит в губах твоих, в ягодах глаз.
Дева Даная, из марева сна
веешь греховною правдой вина.
Диво язычества, влажный соблазн,
жар заклинания: "Раз, ещё раз..." -
День уплывёт золотистым дождём
мифа и ярко-смородинным ртом.
Рыжая радость, Лилит и суккуб,
выдохнешь номер мобильника с губ.
Выпьешь скорлупку эспрессо "Нестле"
и в зазеркальном исчезнешь стекле...
День счастья, золотистый на просвет...
* * *
День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь
недоброго осеннего разлива.
И синий взор метнул индейский вождь
сквозь листья клёна и косицы ивы.
И странно - вновь на сердце у меня
не поздних лет потери и разлуки,
но давних игр ребячьих беготня -
из ясеневых веток копья, луки...
И полон предвкушением побед,
молниеносных и неоспоримых,
день счастья, золотистый на просвет, -
без чисел отрицательных и мнимых.
Без имени, без даты, без примет,
без фабулы какой-либо особой,
он светит мне вовсю так много лет,
как будто он и я - бессмертны оба...
* * *
Медово-горький запах чернобривцев,
горячий цвет - навылет, напролом -
пронзает прозаических спесивцев
в те дни, когда уже стрекозий дом
стал дымом, и когда ревнитель правил,
Эзопа протеже, Иван Крылов
в стрекозьи пляски жала строк направил,
а муравью пяток похвальных слов, -
по существу, по трудовым заслугам, -
в хрестоматийной басне посвятил...
Осенне-терпкий запах ходит кругом
вокруг махровых бархатцев-светил.
Какие песни лепет дней приносит,
каких стрекоз выцеливает влёт! -
То рифму, моложавую сквозь проседь,
то, в чернобривцах, - пряность поздних сот...
Из окна на третьем этаже
Солнце, ноябрь.
Из натопленных горниц
в кроны раздетые глянув, чуть вниз,
встретишь на ветках лишь пепельность горлиц
да травяной колокольчик синиц.
Зябкое солнце осенних морозов.
Вязы светлей без опавших одежд -
в них и пронзительной ясности проза,
и неутраченность рифм и надежд.
Трепет молчанья, сменившего гомон,
крыльев студёного воздуха взмах.
С тонким колечком озябшее горло -
нежная горлица в голых ветвях...
Сквозь прореху времён уведёт...
* * *
Кем взойдёшь на узор Казантипа,
кем с магнитного камня сойдёшь?
Вирус рифмы - опаснее гриппа,
но сейчас эту хворь не тревожь.
Спрячь тетрадь и с утра собирайся
на космический каменный мыс,
в чьей лобастой мужской ипостаси
проступает из хаоса смысл.
Где в зелёном заливе Азова
время движется в лодке и вплавь,
вдохновись нарастанием зова
и запреты пугливым оставь! -
Стань летучим над астрою скальной,
чтоб все камни её лепестков
опознать сквозь спектральный, сокральный,
сквозь оптический воздух веков.
Там, внизу, три химерные чайки
труп баклана, расквашенный ком,
потрошат, иерархию шайки
соблюдая - разбойным глазком...
И змея-бычколовка извивом
уплывает в подводную тень,
и полуденным медным наливом
метит солнце предплечий шагрень.
Кем взлетишь над цветком Казантипа,
кем на рыжий лишайник сойдёшь?
В мегабайтовой памяти чипа -
много слов, откровений - на грош...
Но высотная правда безмолвья
полнит синь над ракушкой-песком,
и тоскуют о Ноевом зове
капли соли, молекулы крови -
в капилляре под зыбким виском...
* * *
Глазу больно, дыханию - знойно,
когда силишься жадным лучом
мозг природы раскрыть напристойно,
любопытствуя, что в нём по чём...
Да тебе ли сверстать её части -
взор полночный, улыбчивый рот?
Вот, лишь дрогнет ресницей всевластья -
как младенцу, охватит запястье.
сквозь прореху времён уведёт...
Добредёт, реален и чудесен...
На колёсах
1.
На сто тысяч пробега золотистой "восьмёрки", -
от варяга до грека, то в гору, то с горки, -
напишу с перламутровым отблеском оду,
славословие ходу в любую погоду.
Особливо же, ходу в погоду худую,
когда - ливень и стынь, когда хау не дую,
когда всяк пилигрим, словно псина, бездомен
и пронизан косым до миндалин-оскомин.
Хороши вы, полвека подошвенной жизни
на промокших асфальтах в продрогшей отчизне!
Но теперь, - как ни плюйся верблюд туарега, -
нажил я за два года сто тысяч пробега.
Выбрал русую кралю, сцепление выжал.
Обзавёлся медалью - во всадники вышел.
О, летунья-смуглянка, быстры твои крылья!
Не про сны спозаранку, про трезвую быль я
объясняюсь с тобой понуканьем штурвала:
миллиметр на секунду - выходит немало...
В этом есть нечто, явно от стихосложенья, -
прониканье несущего ритма в движенье,
когда, сбившись на слоге, не выправишь песни
и не выправишь мокрой дороги, хоть тресни.
Так вот, лада, предобрая самаритянка,
выживаем вдвоём, убегаем от танка.
То Ильи колесница грохочет над нами,
то вдогонку грозится пунцовое знамя...
Азиопы задворки. На газе конечность.
На попа перевёрнутая бесконечность.
2.
Хмырь-ремонтник с перебитым носом,
сиплый карлик, дышит ядовито.
Шилом по твоим прошла колёсам
куцая рука чумного быта.
Что за пьянь со зла проковыряла
за ночь две передние покрышки?
Пусто, стыло. Ну, и всё ж немало
теплится ещё добра в кубышке -
в полусфере утра-окоёма,
в бузиной заласканном овраге,
в чернобривце у ступеньки дома,
в беглой строчке на клочке бумаги...
Наплевать! Не в первый раз кололи
шилом. И кастетом убивали. -
То же время воет в отчем поле,
в неизменном волчьем ареале.
На рассвете карла - смаху, спьяну -
ляпнет латку на порез резины.
И по тем же ямам, по туману
и к Отцу ты вырулишь, и к Сыну...
Вслед и Дух, по слободам и весям,
до дверей твоих за полнедели
добредёт, реален и чудесен,
путь скостив по мнимой параллели.
Что нам стоит - остаться живыми?..
* * *
Зря ведь крови с грязью намесили
в этих плавно-песенных местах!
В чернозёмной вольнице России
певчий Эрос гнёзда вьёт в кустах.
Кроха Эрос, Цахеса рыжее, -
возжигатель бархатцев и чад.
Лишь мяукнет Мавка - и уже я
от щедрот черёмухи зачат.
Кормлен царским и холопьим телом,
равен счастью медоносный луг.
И сияет всепрощеньем белым
вознесённый в голубое дух...
На Воронеж или же на Липецк
повернут ли косогоры лбы -
всюду прорастающий счастливец
Сеятелем сеян на гробы,
чтоб над сломом зрения и слуха
поднялась сиреневая вязь,
чтоб дитю сулила повитуха
огнестойкость, водонебоязнь.
Здесь, где сшиты кровеносной нитью
рукописи срубленной ольхи,
здесь, вослед любовному соитью,-
крепче чада, солоней стихи...
* * *
Демон полдня движением страстным
отторгает скудение: "Брэк!"
Августовским оливковым маслом
протирает смарагд-оберег.
И стакан наполняя до края
неопознанным местным вином,
пьёт не в меру, не слыша, не зная
поучений - ни духом, ни сном.
Жарко-глиняный бражник зенита,
василиск, гуманоид, циклоп!
Голова твоя, Хронос, обрита
и широк вулканический лоб,
чтоб и клинопись, и пиктограммы
на упрямом вместились челе,
чтоб заветы отца Авраама
со стихом о змее и орле -
породнились с Волошинским гимном,
с ворожбой Мандельштамовых строф...
Демон зноя в язычестве дивном
воздымает излишества штоф,
чтоб опять сквозь стеклянные грани
приласкала в пространстве рука:
опасенья, снованья, гаданья
чада, зяблика и мотылька.
Цел летун-махаон! Не застрелен,
не изловлен хватательным ртом.
И лимонниц, и парусниц-фрейлин
сберегут воздуся на потом...
Что нам стоит - остаться живыми?
Надо просто с утра захотеть!
Демон Хронос - жестокое имя,
но нежна его ловчая сеть.
Я влюблён навсегда в мимолётных...
* * *
Я влюблён навсегда в мимолётных непойманных женщин.
Долгим летом мой сон дуновеньем их крыльев омыт.
И за это декабрь мне без доброго слова обещан -
и усталость, и стыд.
Я зову их по имени, даже из памяти выгнав.
Где ты, милая Гретхен орловских прогретых полян?
Кипарисовый мыс, лукоморья таврийского выгиб
русской речкою пьян.
Вот и мой косогор захмелел васильковою речью -
лето с летом рифмуя, опять прорастает зерно.
Жаль, что ты не сестра моему золотому увечью,
но звони всё равно!
От тебя ли взберусь на отвесные скальные камни,
к виноградным холмам убежишь ли ручьём от меня,
но до самой зимы твоей радужки синь отдана мне,
и звоню, не виня...
И в осеннем Крыму, и в разломах-щербинах фортеций
не забыть о тебе, ненадёжная нежная плоть!
Стынет лист за окном. У щеки бы твоей отогреться...
Прилетела синица - предзимней иглою колоть.
* * *
Гриб осенний со скрипом шарит
тесный выход из-под земли.
Стылый морок, хозяин-скаред
прячет в угол с добром кули.
Затолкавший жар-птицу света
в свой кулацкий кривой мешок,
он теперь не отдаст до лета
ослабевшему дню должок.
Веет пагубой прель околиц.
Ну, да разве ж нам привыкать?
Над окном - воркованье горлиц:
вот и правда, и благодать...
В позолотах глухих окраин
вызрел алый на ветках глод.""
И вдоль сумерек Ванька Каин,-
кабыздохом, сквозь лень, облаян,-
на охоту, крестясь, идёт.
( ""глод - боярышник )
* * *
Мёрзлое тело земли.
Дым погорелой отчизны.
Где же вы все, кто ушли?
Не разобрать укоризны...
Прячется стужа в стогу.
Кличет погост постояльца.
Яблоню в синем снегу
гложут голодные зайцы.
"Спасе, - твержу, - упаси
от срамоты всеупорной!" -
Белые плечи Руси
рванью поклёваны чёрной.
Тянется ум деревень
вдоль дурковатой дороги.
Окна наполнены всклень
стылой слезою тревоги.
Чьи там по снегу скрипят
сани с косматой лошадкой?
Чьи мы, - столетья подряд, -
гибнем и валко, и шатко?
Жёлтый взметнётся клочок
сорванной с санок соломы -
слабый на лето намёк,
словно порвавший силок
отблеск наследного дома...
В кривом окне на хрупкой мандолине ...
* * *
Ракло и тремпель - харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь заполночь царапаясь в жильё...
Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся -
к листве лимонной чёрного двора,
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.
И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город - из травы и стали,
босяцкая и ангельская стать...
* * *
Дикой яблони ветви бездомные
над погостом шумят на ветру,
повторяя ненастно-огромное:
"Мы умрём. Ты умрёшь. Я умру..."
Дымны вязов багрянные головы,
мокнут плечи осенних крестов.
Тело книги - из тяжкого олова,
и соломенны крылья листов...
И я чую, как буквы безмолвные
в час, когда холодеют леса,
оживляют воздушными волнами
золотых мертвецов голоса,
как сквозь лепеты здешнего племени
проступает огонь в образАх -
переплески пространства и времени,
неизбывное в смертных глазах...
* * *
Там, где Китеж в стеклярус оправлен,
за пространством, за оптикой рам,
делит дым с воробьём Чичибабин,
сыплет семя щеглу Мандельштам.
Где в окно деревянною буквой -
"Гутен морген!" - стучит Гутенберг,
там ты рос и босотой, и букой,
но гремучих кровей не отверг.
На шершавых задворках бессонниц
нахватавшись репьёв, аки пёс,
от щедрот хулиганских околиц
ты бодрящую дерзость унёс.
Оттого и кивал тебе старый,
что в массовке над чёрной водой,
как винчестером, выхвачен фарой,
до сих пор ты плывёшь молодой!
Из блокбастера вытурен напрочь,
из бестселлера выдут харчком,
сладишь звук – не кривой и не навзничь -
не фальшивым подпишешь крючком.
Умягчишь его именем женским,
детским дискантом кликнешь с собой
и Рождественским, Преображенским
синим дымом над рыжей трубой -
полетишь
над мазутной водою,
над острогом - Холодным бугром -
над сестрою, бедой-лебедою,
семижильной травою седою...
Снег с черёмухи, с тополя гром.
Вдоль запаха тянется жизнь...
* * *
Я влюблён навсегда в мимолётных непойманных женщин.
Долгим летом мой сон дуновеньем их крыльев омыт.
И за это декабрь мне без доброго слова обещан -
и усталость, и стыд.
Я зову их по имени, даже из памяти выгнав.
Где ты, милая Гретхен орловских прогретых полян?
Кипарисовый мыс, лукоморья таврийского выгиб
русской речкою пьян.
Вот и мой косогор захмелел васильковою речью -
лето с летом рифмуя, опять прорастает зерно.
Жаль, что ты не сестра моему золотому увечью,
но звони всё равно!
От тебя ли взберусь на отвесные скальные камни,
к виноградным холмам убежишь ли ручьём от меня,
но до самой зимы твоей радужки синь отдана мне,
и звоню, не виня...
И в осеннем Крыму, и в разломах забытых фортеций
не забыть о тебе, ненадёжная нежная плоть!
Стынет лист за окном. У щеки бы твоей отогреться...
Прилетела синица - предзимней иглою колоть.
* * *
Когда обнищавшая осень
в пустой забирается сад,
мы, дикие птицы, не просим
у стужи и ветра пощад.
Когда мелкозубые иглы
терзают веранды стекло,
мы, малые дети, притихли
в дому, где темно и тепло...
О чём ты молчишь, белобрысый,
единоутробный мой брат?
О том, что прохладой аниса
закрытые окна сквозят?
О том, что игрунья-природа
уже не воротится вспять,
и грустно опять на полгода
в мохнатую спячку впадать?
Ау, приунывший мальчонка,
за птицею вслед встрепенись! -
Вдоль нити анисовой тонкой,
вдоль запаха - тянется жизнь.
В ней нету надежд о пощаде
для детской бездомной мечты,
но ярки ещё в палисаде,
под оловом неба, цветы...
* * *
Выносив джинсы от голубизны
до белобрысого, ватного, цвета,
скоро уйдёт загорелое лето
сквозь разогретую пряность сосны.-
Отгулеванив на хрустком песке
и на речном округлённом теченье,
лето в иное уйдёт измеренье -
яблоко в сумке, душа налегке...
А за рубашкою спрячет тетрадь,
где не окончены в рифму заметки,
где меж листами - полынная ветка.
Чтоб, через год воротясь, дописать...
К чёрной праматери от золотого Адама...
Осенние осьмистишья
1.
Пахнуло льдом. В осенних листьях -
плодов казнимых голоса.
Хозяйка для кадушек чистых
крошит капусты телеса.
Сквозь тучи драгоценно-кратко
пробьётся свет на полчаса...
В медовом падалиц остатке -
заледеневшая оса.
2.
За осененье, Милосердец,
спасибо, и за осень в срок!
За то, что однодневный месяц,
повизгивает, как щенок,
в холодном небе - накануне
посеребренья ноября,
и амальгама луж не втуне
хрустит, литой каблук бодря!
3.
Листья уйдут, обнажая избыток пространства.
Воздух запахнет предсмертным намёком на водку.
С трассы увидишь всё там же, как знак постоянства,
олово озера и одинокую лодку -
не доезжая Воронежа, между холмами.
Может, и впрямь о Тоскане тоскуют пейзажи.
Листья уходят, вздыхая о дружбе домами,
о краснояблочной, взятой в рогожу, поклаже.
4.
Спасибо, лучший мой Учитель,
за озимь-ткань, за оксамит!
За то, что тупиковый житель,
люблю я междухолмий вид,
когда железную телегу
по мокрому шоссе гоню
и вижу зелень из-под снега -
сей корм крылатому коню.
5.
Что же плохого в дождливой погоде осенней,
если ты драпом обёрнут и ноги сухие?
Славно идти. И стихов шевелятся коренья
в почве первичной, во влаге вечерней стихии.
В мокром асфальте - огней расплывается злато.
Аурум с чёрным - целительно цельная гамма.
Так и шагаешь откуда-то. Даже куда-то. -
К чёрной праматери от золотого Адама.
С достоинством простым, без громких плачей...
* * *
И.
Дай мне тёплую руку, моя полонянка-супруга!
Заблукали бы мы в половецком снегу друг без друга.
От звонка до звонка
мудозвона-будильника - буднично жизнь протекает,
подтекает на стыках, ни мне, ни тебе потакает.
В общем, длится пока.
Дай мне компас и карту провинции алмазоносной,
потому что ни с шулерской шоблою, ни с Коза Нострой
не делить мне гектар.
Запихаю в походную куртку я мятую книжку,
поцелую в глаза и в упрямые брови мальчишку -
неразменный наш дар...
Спой мне рифму, раба и царица, жена и подруга!
Иль утихни, смекая, с какого я гиблого струга:
персианской красы
в ямах омутов-ямбов утоплено много ли, мало...
Не хватало ли хватки? Времён ли, пространств не хватало?
Телефон и часы,
телевизор квадратный с квадратною в нём головою
с подоконника сбросить бы - скудное, полуживое...
Да и в то же окно
отлететь бы в четыре крыла за тишайшей наградой
над железными крышами сборнобетонного града...
Может, так и дано.
Ну, а может, продлится свиданье с удачей мирскою,
чтобы с хлопчиком вместе погладить волну нам с тобою,
Аю-Даг, синеву.
Слух ещё бы сберечь нам, дрейфуя из века в столетье,
ведь, когда не услышат меня ни медсёстры, ни дети,
я тебя позову.
* * *
С достоинством простым, без громких плачей,
душа моя, мы срок свой проживём,
нам выпавший. Но грех - назвать удачей
тот прытко-беспородный хлам и лом,
что хлынул на империи задворки
и, знамо дело, в Генеральный штаб
её же, где все жалюзи и шторки
скрывают комы истинный масштаб.
Секретной картой бродит с когтем палец,
и маршальский мундштук грызут усы.
Залёг народ, заложник и страдалец
по насыпям невиданной красы.
Жаль, что проснётся - и пальнёт в кого-то
да водкою зальёт рутинный грех...
Темна сестра-душа твоя забота -
за Каина, за окаянство вех
болеть без звука. И терпеть без срока
косматый неприкаянный геном.
Держава снов, раскинувшись широко,
растит во чреве мифы о былом...
Но мил мне местный житель вольных правил,
хрустящий ямбом яблок эфиоп!
Какую песню, на века, оставил -
про ум Балды, про толоконный лоб!
"Седьмое небо князя Голицына"
* * *
Кафа, оливы, ракушечник, полдень.
Ртутная зелень, упорная желчь.
Горькой маслины аттический корень
зноем не высушить, не пережечь.
Кафа - олив серебрёные ветки,
лепка облупленных особняков.
В этом июле - знакомые редки
здесь, на кайме, киммерийских песков.
В августе этом, на выдохе лета,
вязче дожди и шершавей жара.
Стал уязвимей зрачок амулета,
колче и злее навылет игра.
Лишь на веранде в затишье негордом
под деревянным, в сучках, потолком
ласточки с красно-коричневым горлом
сладили клювами глиняный дом...
Часы
Разноцветных зверей и растенья
подарил нам июль для любви
и цикады нездешнее пенье
растворил в разогретой крови.
Слюдяные скрипичные трели
на макушке горячей сосны
марсианским песком шелестели
и сшивали лоскутные сны.
Хорошо.- Очень близко от моря.
Пахло хвоей и плотью жары.
В шелестящем волны переборе
таял голос троянской сестры.
Что за имя она повторяла,
отпуская с ладони цикад?
Радость солнечная не стихала
день, седьмой... Всю неделю подряд.
Оседая оранжевой пылью
в часовом обоюдном стекле,
блики атомов времени плыли,
осыпая цветы на столе...
Что за имя - Елена, Эллада? -
тенью бриза прошло над виском?
Длился полдень созвучья и лада.
На сосне рассыпалась цикада
летописным троянским песком.
"Седьмое небо князя Голицына" *
По булыжным ложбинам-каскадам
скачет ливень, строптивей мустанга.
Ободрюсь-ка я чёрным мускатом
в ожидании белого танго.
Над медвежьим хребтом Аю-Дага
виснут висмутом клочья тумана.
И зачем эта майская брага
так бессолнечна и бесталанна?
Сторожат перемену погоды,
ждут июньской цветной канители
и аттической пристани воды,
и латинский бастард цитадели.
Да и я, поднимаясь направо
к торгу-рынку, сыщу у народа, -
слаще славы, гульливой шалавы, -
десять зелий "Гурзуфвинзавода".
Солнцу, рифме, псалму на потребу,
тропарю и глаголице-вязи -
и монаси приемлют же "Небо
номер семь от Голицына-князя"!
* Марка крымского вина
Глядь, по-прежнему пьян милый храм ...
* * *
Огурцом малосольным меня угощал хлебосол.
Бог те в помощь, кормилец! Похоже, не так уж и зол
этот мир на ветру - семижильные плети травы,
этот двор на юру - трёх подсолнухов три головы.
Самопальным стихом привечал меня брат-рифмоплёт.
Не робей, сизый сокол, - да сбудется твой перелёт
через тучную плоть многодетной степной полосы
от речушки Воронеж до жёлтого моря Ян-Цзы!
Родниковой слезой меня друг гололобый поил,
новой жизни алхимик, прагматик, зануда-зоил.
Говорил откровенно: "Да брось наконец ты херню!
Не ко дню соль-бемоли твои и псалмы не ко дню..."
Ну и что мне ответить премудрой босой голове?
Жизнь одна у меня, а возможности, стало быть, две:
то ли вес обрести, устремясь за большой молотьбой,
то ли плыть по воздушному руслу на пару с Тобой, -
лишь с Тобой, камертона держатель и ритма отец,
мимо козлищ, родимо-рогатых, и рыхлых овец,
мимо рифм перекрёстных да урок с нательным крестом,
да смоковниц, родящих бок о бок с терновым кустом.
Одуванчик откроет зрачок-золотник поутру:
глядь, по-прежнему пьян милый храм на юру, на ветру.
Огурцом малосольным целит меня вновь книголюб,
не укором - елеем укропным касается губ...
На то и надежда, что сложатся минусы в плюс...
* * *
На то и надежда, что сложатся минусы в плюс,
пускай и грозит, что ни день, на зеро умноженье.
По-шулерски карты сдаются, да так, что и туз
не в силах уже осадить турбулентность сниженья.
Садится на пузо простреленный твой самолёт.
Хоть нет полосы, а зато есть бурьянное поле!
Очнёшься - и слышишь: сверчок ободренье поёт
тому, в ком не выжжена вера, не сплющена воля.
На то и надежда, что в бесчеловечной стране,
в державе, где нежитью смяты огни и Заветы,
есть люди без страха, в глазах у которых вполне
рождается свет - умноженье всеобщего света.
На брюхо садится подбитый твой аэроплан,
стрекозий биплан из кленовой слоёной фанеры. -
Трещит, но не рвётся, поскольку подоблачный план
скрепляет свой стих единением воли и веры.
Натруженный вор, напомаженный политикан,
бездарный актёр и смотрящий всего Армавира,
внезапно скончается от неопознанных ран
по ходу спектакля, у рампы прямого эфира...
А твой самолёт, деревянный архангельский глюк,
живей всех условно живых и реально богатых,
упрётся в суглинок, и сердца железного стук
отчётливо крепнет в картонных летательных латах...
Как бы горло ни драл низколобый ухватистый кочет...
* * *
Удержи в голове карту ста городов и провинций,
будь до смерти летучим, иным - в стременах и в седле!
Потому что не вспомнит война о своём пехотинце,
но оставит лишь всадника цокот в оконном стекле.
И оставит рисунок подков-отпечатков на глине, -
иноходца гнедого, с резною лодыжкой коня...
Пр овсу, ячменю, по межхолмию, по седловине
скачет, скачет июнь, колокольчатой дробью звеня.
Снова лето царит, косогор воздымая лиловый,
но под боком, за ближнею станцией, трётся зима -
деловая стервоза формации якобы новой,
адвокат авокадо, палёной конторы чума...
Не запнись на пороге - сомнут, на муку перетопчут.
Освежись бузиной из овражных размашистых ям.
Как бы горло ни драл низколобый ухватистый кочет -
а ни ноши с плеча, ни полслова с пера не отдам!
Это - мы и они. Нас не вымерло десять, двенадцать,
уцелело, от силы, тринадцать на фоне камней.
Так и было. Я помню: никто не рискнёт распинатьтся
все семьсот тысяч дней...
* * *
В заизвесткованной жилке
тикает-тукает кровь.
Рильке. Щедроты копилки,
времени-проседи новь.
Медленные меценаты
в самолюбивых усах.
Альпы. Печальные даты
в башенных круглых часах.
Пражскою бражкой хмелея,
выйдя в сферический путь,
вычертил вслед Галилею
да не судимую суть.
И, Амадею вдогонку,
выдохнул тот же завет:
утренний, словно ребёнку,
миру и городу - свет.
Так и дышать бы по-русски,
как по-тевтонски писал
чешский, швейцарский ли, прусский
баловень и маргинал.
Так и крепить бы по-свойски
эту вселенскую связь,
гибели подлой геройской
в поле меж строк не боясь...
Леди Мерилин бросовых дней...
В городе N
Инна Энская, сдобная булка,
королевская снедь переулка,
винограда эдемского плоть!
До озноба по коже хотелось
там, за партой, свою оробелость,
как судьбу свою, перебороть.
Так устроены в гости ступени,
чтоб успеть в аккурат в день Успенья...
Глянь в окно - дорогое прошло.
Хорошо, если всё ещё - лето,
ибо зимняя в кружке монета
есть уже абсолютное зло.
Долго сеялось - быстро смололось.
Слезла белой рубахи весёлость
с физкультурного тела страны.
Где ты, Инна, с корицею сдоба?
Не увижу, хоть вылуплюсь в оба
из-под патины и седины.
Кто же, первосвященная целка,
кто кохал тебя до перестрелки?
Обнимал до растраты казны?
Не моя эта песня, чужая.
Я ж две сини твои провожаю -
вдоль прозрачной речной быстрины...
И парит ястребок узкохвостый,
грызуна засекая, прохвоста,
сквозь июль - в нереальной дали
от уроков десятого класса,
и листвою трепещет у трассы
стройный тополь горбатой земли.
Там, в забывшем все даты пространстве,
и доныне светлы в самозванстве
мёд и млеко округлых колен.
Там, смеясь и не меряя срока,
синеока и помняща Блока,
дарит мне безнадёжность урока
Инна Энская в городе N.
Модератор
Эту девушку в розовом платье,
леди Мерилин бросовых дней,
повстречал ты на дублинском сайте,
и выходит по жизни некстати,
что забыть невозможно о ней.
Век назад не её ли ты видел,
погружаясь с линкором на дно?
Сто очков, двести вольт
вальтер выбил,
с той поры ползалива ты выпил,
полинял целлулоид кино...
Эта юность в вуалевом платье -
виртуального бриза тоска.
Мокрой веткой, родною, не стать ей -
подрастают подсечные братья,
вальтер-кольт,
Вандербильд у виска.
И лишь культовый кельт, сивый Мерлин,
умножает своё колдовство -
на пшеницу, на клятву: "Уверен!",
на созвучие "Эйре и эллин",
на цветка и удачи родство.
Атласным лисьим рукавом...
У озера
Витает хмель плодов падучих
меж яблонь в воздухе садов.
И тащит сеть линей дремучих
из сонных вызревших прудов.
Средь осоки, в прибрежной жиже,
рыбацкий чавкает сапог,
у самых ног в испуге дышит
зеркальный тяжеленный бок.
И, толстогубый, как Кутузов,
калённый солнцем, словно мавр,
мужик швыряет рыбин в кузов,
хватая их под щёки жабр.
А грузовик, по брови пыльный,
кляня колдобины дорог,
увозит на горбу обильный,
пропахший озером, оброк.
И едешь, стоя у кабины,
заросшей просекой лесной,
листву орешин и крушины
чуть задевая головой.
И, выехав из тени к свету,
на спелые холмы глядишь,
и чуешь: тёплый лепет лета
уже таит раздумья тишь...
И буерака зелень-просинь
ещё свежа, но за холмом,
вдали, уже взмахнула осень
атласным лисьим рукавом!
* * *
Сентябрь припасает варенье.
кизил багрянеет в тазах.
И горлица стихотворенья
в безоблачных неба глазах
белеет - на взмахе - знакомо
и снова влетает под кров.
Субботнею млеет истомой
теплынь нищеанских дворов.
Курлычет контральто романса
в открытое настежь окно.
А солнечный гривенник шанса
звенит о дворовое дно:
" Верни пятаки побирушке,
себе и вражине прости
охотничью страсть, погремушки
и перья синичьи в горсти!"
Пройдя сентября середину,
главы не сберёг Иоанн.
Но золото, синь, паутину
ещё не завесил туман.
Пируют на лавке ханыги.
А помнишь! - И ты приносил
на пир свой: то строчку из книги,
то каплю бальзама из Риги,
то красный султанский кизил!
Осенние игры
Клёкот дворовых команчей
в жёлтых листах дрожал.
Что ж ты в окне, мой мальчик,
скрипку к плечу прижал?
Тополь пылал у школы
за отворённым окном...
То ли грустит виола
под паутинным смычком?
То ли звучит, витая,
кроткий клавир листвы,
в нотах далёкой стаи
звукопись синевы?
То ли теплынью с улиц
музыка и судьба
длинных ресниц коснулись,
ясного детского лба?
Клич со двора всё выше -
дичь могикан остра.
Скажут глаза неслышно:
"Осень - моя сестра..."
Племя проскачет лихо
вдоль острия ножа.
Выдохнут губы тихо:
"Скрипка - моя душа..."
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года...
* * *
Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
Привокзальное радио снова "Славянку" играет,
чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
Снова сутки свиданья с портовой фартовою Кафой
отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
Каплет в рюмку мою "Пино-гри" виноградников графа -
становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.
Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, -
эти минус три четверти века... Со снимка глядят
дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, -
так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
Не осталось уже никого с августовского фото,
где на лицах цыганских лучились весельем зрачки...
Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года -
карусели приморской дрожат золотые жучки.
Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
Александра - вослед Македонцу, Арапу вослед.
Я ведь сам - иноходец Ивана и сын Константина,
коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
но которые живы и набраны чётким петитом
в каждой строчке моей, в каждой рифме - один на один...
Полнолуние - над Феодосией. Свет - над реликтом
звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.
Посвящение в сон, как купанье коня...
* * *
Посвящение в сон, как купанье коня, состоялось.
Посвященье в осанну и сан не успеет прийти.
И врага претерплю, и неверного друга усталость,
но магнитный сквозняк, но большого предчувствия малость -
сберегу ли в пути?
Не смотри мне в глаза - и молчанью не очень я верю.
А тем более - знаю и чувствую цену словам.
Хорошо было там, на просторе Майн-Ридовых прерий!
Одинокому всаднику и одинокому зверю
хорошо было там.
И ещё только раз так же вольно дышалось - у моря,
среди нищих белёных хибар и дощатых халуп,
где полночный прибой, сам себе нескончаемо вторя,
о Завете и Торе, о мысе Верблюд и Фаворе
пел, то нежен, то груб.
Бородой ламинарий касаясь ракушечной крошки
и гранитных, базальтовых яйцеголовых камней,
оживляй изумруды священноегипетской кошки,
волхователь-прибой! Ибо к завтраку в утренней плошке
молоко - всё бедней...
Посвящение в сон настоялось на воспоминанье:
одряхлел Авраам, но крепчает при нём Исаак.
Хорошо было там, где был свеж подорожник на ране.
Имя времени - путь. А поспешности и опозданья -
отболевший пустяк.
В зное
Пятница нынче. Число - двадцать третье.
Плавится солнце и каплет с небес.
Знойного сна византийские сети
тысячелетию сплёл базилевс.
Там, в васильковых очках василиска,
властно и выпукло отражено
то, что замедленно, смутно, неблизко,
то, что прошло, но уйти не должно.
Там неспроста, в преломленье, в расплаве,
Понт, бирюзовый набычив зрачок,
явью блеснёт о трагической славе,
к альфе приблизив омеги значок.
И неспроста в горьковатом потоке,
в белом зените июльского дня
родственный некто, громадный, жестокий,
глинянноликий, сапфировоокий,
голосом треснувшим спросит меня...
Где узел русой тяжести рассыпан...
Лето по старому календарю
Где лёгкость шеи с лёгкостью ключицы
сливается замедленно и плавно,
в предплечье и в предкрылии родится
твоё дыханье, тайною представ мне.
Где узел русой тяжести рассыпан,
и осень на плечах горит и плачет, -
весь дом, как воздух, невесом и зыбок,
и свет нездешних сумерек прозрачен.
Закатное окно теплу раскрыто,
и лето в календарь ушло старинный,
где две недели молится из скита
о наших душах, слитых воедино.
Осенних чар и летних повстречанье -
две первые сентябрьские недели.
Проста ночная музыка венчанья -
вздыхают звёзды, клапаны свирели.
Романс
Всего лишь натюрморт - из луковки инжира
и книжицы стихов в тисненье золотом:
на столике кафе, посередине мира, -
чета простых вещей. Спасибо и на том!
Спасибо за узор прижмуренного солнца,
за полчаса пешком по склону сентября,
за то, что из окна гитары и червонцы
звенят и ворожат: "Сарэ, сарэ патря..."
Как будто - длится день, когда ты тоже пела
романс "Сарэ патря", и колоколец твой
вплетался в магнетизм сияющего тела...
Был ангел смугло-юн, был Амадей живой.
Лиловой смоквы плод подброшу на ладони,
а книжку дочитать не каждому дано.
По воздуху плывёт, в осеннем камертоне,
кленовый самогон, правдивое вино...
В лазури яблочного Спаса...
Конец августа
Вот и астры дед принёс с базара -
белые, лиловые цветы.
Вот и время редкостного дара -
раненной под сердце красоты.
Вот и отблеск раннего ущерба,
верный знак, что август обречён.
Затаённо стынущего нерва
еле-еле уловимый звон.
Стали мы на лето смертней за ночь,
летний воздух вытек из горсти...
Тихий деда мой, Иван Иваныч,
не грусти, дружок мой, не грусти!
И не мни в руках лозу корзинки...
Разве ж новость - этот скорый суд?
Завтра снова сходим, деда, к рынку -
там сверкают склянки, миски, крынки,
там июльский шпажник продают!
* * *
Когда всё звонче яблок мясо,
всё ближе летних дней исход,
в лазури яблочного Спаса
заметен бликов хоровод.
Подобно звукам Амадея
они в гармонии слиты.
Великодушна их идея
одушевленья пустоты.
Священнодействие возможно
смиренномудрию вослед.
Легко, легко, лишь чуть тревожно
дробится августовский свет -
как будто крохотная йота,
прозрачнокрылая пчела,
искала в воздухе кого-то,
не дозвалась и не нашла,
как будто мытари дидлайна
придут не завтра, а потом,
и Амадей, дружок ротвайна,
согрел бокал с живым вином...
* * *
Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке,
в оболочке твоей продолжает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста неизмяты
наяву и во снах - в молочае, в чабре и во ржи!
Вот и в яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою -
так прощением пахнут деревья, трава и родник.
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов и вернее имён - тишина...
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
что дорога видна - серебро, голубень, белизна...
По всем законам кармы, - пишет блоггер...
* * *
По всем законам кармы, - пишет блоггер, -
весь этот город должен сгинуть на хер,
под землю провалиться иль взлететь
с проклятьями в прогорклый воздух чёрный,
чтоб Стивен Хокинг, скрюченный учёный,
успел бы на ночь линзы протереть.
Ты сам здесь пил - вовсю глотал лекарства
от тягостной хворобы государства -
от бдений о свинце материков.
В тот раз метро "Охотный ряд" взорвали,
но ты, застряв в минутном интервале,
прижился средь живых призывников...
И там был знак, где мавр таранил башни,
где дым взбухал, - коллайдерный, гаражный, -
и все живые выедал глаза,
где за секунду плазмой стали люди,
где к притчам о фаст-фуде, - не о чуде, -
давным давно привыкли образа...
По логике понятий, - мыслит автор, -
весь этот мир достоин рухнуть в Тартар.
За Первомаем вслед Армагеддон
на площадь поведёт кавалеристов,
и вспыхнет лик Архангела, неистов,
а имя войску будет - легион!
Но вот и твёрдый знак - мыслитель Стивен!
Телесно вдрызг разбит, но духом дивен,
не глины ком, не Голем - человек! -
он праведных ко мне ведёт упрямо -
Платонова Андрея, Мандельштама,
в чьих судьбах - весь наш беспощадный век.
Когда б не вы, юродивые, двое,
не существо детёныша родное,
мне лучше б тормоз отпустить в метро
и пылью бы опасть в "Ряду Охотном".
Но вот, молюсь - о хрупком, беспилотном.
Упрямлюсь - и не ставлю на зеро...
Непозабытые, непозабывшие...
Рожденье
Дом стариков под ребристою крышей -
издали верностью теплятся мне
непозабытые, непозабывшие,
очи живые в открытом окне...
Знаю, что снова увижу на склоне
здесь, только здесь, начинавшихся дней
эту аллею грачиных колоний,
строй патриарший седых тополей.
Вымытый въезд из булыжного камня,
взятый зелёным гнездовьем в полон.
Стены и заросли родины давней,
полные гулких, зовущих имён.
Не умолкали деревья и птицы.
Гнёзда цвели среди клейкой листвы,
не уставали минуты светиться
под перезвон первозданной молвы.
С жаркой веранды плетёные кресла
из белокорых текучих лозин
в сад выносили - к читальне небесной -
под красноплодные ветки бузин.
Не было прошлого в мире без тени,
кроны-громады баюкали высь...
Жизнь раскрывалась - и чувство рожденья
непостижимее было, чем жизнь!
* * *
Лето, лето, живая планида моя,
населённая спелой-преспелой горячей травою!
Я уже записал в золотые друзья муравья,
и, о риске забыв, увлечен голубой стрекозою.
А игрун, несуразно-изящный кузнечик-урод!
Смехота, но почти что уронишь слезу умиленья,
как, без слуха, без голоса, ладно по струнам снуёт
этот вывих певучий, скрипучее стихотворенье!
Так вот в мире большом всякий малый по-своему прав,
без боязни ветрам отдавая дыхания звуки,
бескорыстно вплетая слова в песнопения трав,
ни обиды не ведая, ни самозванства-докуки...
Так бы вечно дышать под просторами отчих небес,
где цветные луга необманным лепечут приветом,
да ещё за холмом веет речью древлянскою лес -
родниковой водой и крушинным листом разогретым...
Молчанский монастырь в молчанье...
В Путивле
В Путивле тихом ночевали. -
в траве осенней пасторали
искрился иней поутру.
Над монастырскими холмами
как бы израненное знамя
меж златотканными клоками
швы заживляло на юру.
Молчанский монастырь в молчанье
о Лжедимитрия венчанье
упорно не гасил свечу. -
Столица чудского монаха,
грозил Путивль, не зная страха,
царю, чья солона рубаха, -
московскому бородачу.
Не здешняя ль толика яда,
за ножик Углича награда,
Борисово сожжёт нутро?
Все северские голодранцы,
все южной вольницы посланцы
крест лобызают Самозванцу
и зырят в бок Москвы хитро...
В Путивле ночевали, в школе. -
Вне резкости самоконтроля,
куда яснее, чем в упор,
увидешь частностей сцепленья
в причинно-следственные звенья,
узришь корней пересеченья
с изломами кротовых нор.
И всё ж, столица смут и лиха,
как заспанно звенит, как тихо
твой умывальник во дворе!
Смыл напрочь Сейм четыре века.
К базару вверх ползёт телега,
в сопровожденье имярека,
и ржавый велик по горе
толкает твой, в фуфайке, житель.
Молчит Молчанская обитель,
зарос глухой травой откос...
Но буйной почвы всплески, складки,
холмы - тектоника вприсядку!
Но драных крыш цветные латки,
но бдящий скучные монатки
весёлый желтоглазый пёс!
Атлантидой под воду уходит июль...
Плато
Есть крепость Каламита в Инкермане
на пьедестале известковых скал.
Когда-то я в Завете и Коране
об этой вещей пустоши читал.
Внизу ютится скомканно, убого
Климентовский могильный монастырь
Гремит железный поезд - мимо Бога,
а едкий выдох кельи - нашатырь.
Но наверху, средь башен и развалин,
средь белых глыб, усыпавших плато,
стоит июль, безмолвно гениален
и Божьим словом полон на все сто.
И мириады веретён-улиток,
усеяв каждый стебель травяной,
прядут своё, свивая некий свиток,
неисчислимы, как перед войной.
Так близко небо! Камни под ногами,
разбитые надгробья и кресты -
в оплёте трав. И мощными кругами
очерчен купол синей высоты.
Весь день - ни человека, ни пичуги.
И лишь в каменоломне - ор орды
бродяжьей: хохот хама, визг подруги -
погибель накликающие звуки
по-над смарагдом почвенной воды...
Цикада
Зверь-цикада, химерное тело,
я однажды увидел днём,
как природа кощунственно-смело
упражнялась в уродстве твоём.
Но, когда загустеет вечер,
поднимается в синий свод
голос твой,
и тревожный, и вечный, -
неумолчных, бессонных нот.
Что-то трудное вымолвить надо,
на пределе дыханья - суметь...
Полуночная боль цикады -
песнь того,
кто не может петь.
Графская пристань
Абрикосовый полдень над бухтой-губой.
Крылья чайки - излом бумеранга.
Мириадами капель взлетает прибой,
и отрывистый лай каперанга
отправляет эсминец в крестовый поход
от ступеней, от пристани Графской.
Белый полис по волнам индиго плывёт
и античной, и матерной сказкой.
Адмиральского солнца болит голова,
алой сливой усыпан некрополь.
И журчат сквозь кингстон ключевые слова:
Инкерман, Херсонес, Севастополь.
Золотая легенда, простреленный миф,
мёртвых пальцев живой отпечаток!
Птица Феникс кокарды, двуглавый твой гриф, -
византийский твой, - выпал в осадок.
Но на белом бушлате Эллады кайма,
в беге юнги начало ab ovo -
это вечности почерк,
отвага ума -
быть ребёнком, быть первенцем Слова!
Атлантидой под воду уходит июль,
алычой зарастает Акрополь.
Но в распахе кингстонов, но в посвисте пуль:
"Балаклава - звенит - Севастополь..."
От моветона автобус - до Армагеддона...
* * *
Пятничный вечер. Светило клонится
долу. И двое мыслителей мятых -
здешние, по Достоевскому, лица -
ищут, где выпить при малых затратах.
Август. - И город, под стать Хиросиме,
зноем отравлен и чадом бензина.
Двое полбанки берут в магазине
и уплывают вдоль глади витрины.
На августовском пути в Нагасаки, -
после шестого, но перед девятым, -
каждый, не выбывший в Ялту и Саки,
будет жарой расщеплён, словно атом.
Цвета портвейна, закатное око,
будто гастарбайтер, зырит на запад.
Ноздри проулков вдыхают с востока
шкур и копыт ностальгический запах...
* * *
Стаею галки у грязного рынка пасутся,
перья да кости - родимое чахлое племя.
Здесь бы заснув, да за тысячу с лишком проснуться
всех единиц, кои мерят пространство и время.
Сворой-шалманом шныряют нечистые птицы -
дрянь у Сумбаза клюют, гомонят у Благбаза.
Им бы - да прямо в глаза - властолюбцу присниться:
сколько бы люда избегло погибели-сглаза!
Что-то, меж явью и сном, в целлулоиде лета,
в мареве зноя густеет и порчу пророчит.
Некий зиянье-вопрос, что всегда без ответа
будет, пусть даже Господь услыхать нас захочет.
От моветона автобус - до Армагеддона.
Мусорно дно казнокрадова града-колодца.
Только вот мать обнимает младенца влюблённо...
Пахнет резиною воздух... И музыкой льётся.
Из переписки с самоедом Кадей...
* * *
А.Ф.
Добрый Палыч, ласточка-Алупка
лепится к подножью крымской кручи,
треснет известковая скорлупка,
и пробьётся птенчик, корм канюча.
Друг Аркадий, не совру красиво,
а скажу, как для анкеты, просто:
груз тащил, и вот - в кармане ксива,
а во всех других - сквозняк норд-оста.
Целых - ноль, десятых - хер в итоге...
Воз увяз, а в долг просить не буду.
Лучше буду с дырами при Боге,
чем приму от оборотня ссуду!
Отряхнёмся да рванём в Тавриду.
Не смущайся, брат, зови повторно.
Там и голый вассер - не в обиду,
на кайме индиговой, предгорной.
Борода твоя богата солью
и в стихах кумекает немного.
Хорошо, что и волну, и волю
здешний день рифмует - всю дорогу.
Хорошо цветут в проулках склона
холст и масло отпрысков Куинджи.
Купол неба и суглинка лоно
здесь - к согласью-Радонежью ближе!
Vale, Палыч! Коль воронья стая
со спины не каркнет: "Час который?",
с лёгким звоном, тары не считая,
воплотим все пункты договора!
* * *
Когда-то
пил я красное вино,
и красна девка жизни моложаво
пила со мной охотно заодно
на фоне шахт заржавленной державы.
Империи раскольница-весна
железом по стеклу отскрежетала.
И стало враз понятней - жизнь одна,
как каланча у Южного вокзала.
И стало ясно: бобику - хана
средь шлакоблоков и дорожных знаков,
когда волколюбивая страна
с цепи спустила свору вурдалаков.
Ограбили тебя, его, меня
и наших чад до нитки обобрали.
На фоне торга слякотного дня -
теплей пыхтит эпоха варки стали...
Как минимум, там молод на все сто
поэт Аркадий в кепке из ратина,
и Эд Лимон в бостоновом пальто
выходит из пустого магазина.
И сам я, птичьих пушек канонир,
в рубахе, рассупоненной на вые,
ещё не в курсе, что застал сей мир
опять в его минуты роковые...
Смарагдовая ящерка взбежит...
Над шахтами
Донцом рассечённый полуденный Кряж!
Я знаю твои родовые преданья -
у края провала цветок на прощанье
и жгучий огонь поминающих чаш...
Но вот уже шрамы овражной земли
июнь затянул молодою травою,
и над уцелевшей моей головою
терновника ветки опять зацвели.
Над скопом хибар, где хворают отцы,
где матери рвут сыромятную жилу
трущобное солнце детей оживило,
и прытко на грядке взошли огурцы.
И бабки под окнами - легче мышат...
Похоже - ешё нас со света не сжили
безбожные фабрики кривды и пыли,
державные логова угольных шахт.
И солнце над скверной - вот замысла суть,
которому нету земного названья.
И это живее, чем слабость признанья,
что каждый уставший успеет уснуть...
* * *
Я солнце страстью ящериц люблю,
я чую опьяненье беспричинно,
когда июльский зной мне дышит в спину -
шершаво, словно в парус кораблю.
Как славно вить слепого ливня нить,
соцветья лип сбивая на крапиву.
Душа, душа... - Насквозь солнцелюбива,
и жить не устаёт, и рвётся жить.
А завтра... - Там другой июль кружит,
пьяня иные губы без причины.
О, пусть на жаркий камень, знак кончины,
гибка, быстра, не ведая кручины,
смарагдовая ящерка взбежит!
И, чем короче встреча, тем верней...
* * *
Опять чугунный монстр в чугунной кепке,
торча торчком, венчает пьедестал. -
Феодосийский низенький вокзал
с колоннами минималистской лепки,
как прежде, жмётся к ветке рельс и шпал,
и привокзальный запах аммиака,
живучий, как бродячая собака,
покусывает щебень и металл.
Немытый поезд, харьковский рыдван
в четыре сорок подгребает к Понту.
Ещё чуть-чуть - и солнце к горизонту
поднимется, реализуя план,
начертанный Коперником и Бруно, -
усилиям Создателя вослед.
Сулит ли метафизика планет,
с учётом фаз Урана и Нептуна,
глоток удачи тем немногим дням,
что вырваны из вязкости батрацтва
для Кафы, для ритмического братства -
уже с обрывком жала пополам?..
В четыре сорок поезд смутных дней
со скрипом тормозит у кромки моря,
которое рифмуется с "лав стори" -
и в русле лет, похоже, лишь хмельней...
Похоже - длится позапрошлый год,
на склонах Карантина ночь средь башен.
Скудельный кайф твой, Кафа, жив и влажен,
и есть в тебе подземный тайный ход.
И, чем короче встреча, тем верней,
тем ясноглазей и моложе рифма.
Над аммиаком, Кафа, - свежесть мифа!
О ком я? О тебе. Но - и о ней...
Молоко - коктебельские волны в июле...
* * *
Ритой, женшиной мягкой, мне дарена скидка
на грузинском, на кинзмариули, вине.
Коктебельского рынка энергоподпитка
на весь отпуск недельный обещана мне.
На куражтесь над нищим бюджетом, горгульи,
не пасите мой тощий карман, торгаши!
Маргарита-ханум влагой кинзмариули
наполняет, по сходной цене, от души
двухлитровую, из-под "Тархуна", бутылку.
И напрасно к прилавку с форелью зовёт
белозубой улыбкою, влажной и пылкой,
Лейла-гюль, роза-джан дастарханских щедрот...
Над дарами бахчи вьются юркие осы,
штрассе Ленина тянется в щебет Отуз.
Да сглотнут всё своё мафиозные боссы,
мне же - червой-тузом половинка-арбуз
подмигнёт, и как раз на червонец затянет
алой ягоды, с мелочью семечек, плоть. -
Сам копейки считай, ибо Вечностью занят
и другими порядками чисел Господь...
Рита, женщина бизнеса, кинзмариули,
в Новом Свете добыв, привезёт на базар.
Молоко - коктебельские волны в июле,
и Волошин - плечист, словно старый корсар.
Зелёная слива становится белой...
* * *
Зелёная слива становится белой.
Как сочен июль, полновесен и дюж!
Как щедро поспешное лето поспело
верхушкою смуглых улыбчивых груш!
Колдует над печкою бабушка Марфа,
в подсолнечном масле шипят кабачки.
Роняет цветы к подоконнику мальва,
и рдеют над ставней акаций стручки.
И солнце над известняковой оградой,
над выцвевшим суриком крыши встаёт,
а мальчик, играя под ветками сада,
о чём-то своём еле слышно поёт...
И вторит листва потаённому пенью
о том, что другим не узнать никогда, -
как дышит, лепечет живой светотенью
в садовой рассохшейся бочке вода...
* * *
Молчит трава, склонённая в предгрозье
к отяжелевшей выпуклой земле.
Трепещет леший, пуча очи козьи
в крушинной паутинной полумгле.
Идёт гроза, сбивая в стадо тучи,
гнетёт к земле перестоялый зной.
Притихла мышь в горячей и пахучей,
в густомолочной чаще травяной.
Кузнечика смычковые колени
соломенною сухостью зудят..
Грядёт гроза, стихия омовенья,
сбивая жара переспелый яд.
И воздух душен, густ, исполнен хмеля,
наперчен искрой серо-голубой.
Спешит гроза, как щучья печь Емели,
шумит-гремит, бредёт сама собой...
И сивый леший вздул тугие ноздри. -
Призывный запах мавок и купен
утроен опьянением предгрозья.
И не унять детине дрожь колен!
Дождаться мраморного танца...
* * *
Итак, добираться мне до Феодосии -
лишь ночь, лишь чуток золотистого дня.
Там кровная мысль о двоюродном Осипе
так бодро под рёбра бодает меня!
Там облик египетский брезжит и слышится
непойманный цокот худых башмаков.
Развеяна гневная Максова ижица,
и свеж голубеющий плюш ишаков.
Привольно вдыхается нищее диво
земли загорелой, зелёной воды.
Овечьих холмов травяные наплывы
вдоль моря текут, вдоль солёной слюды.
Лоскутная известняковая Каффа!
Как щедро – всего-то полсуток пути,
чтоб в складках пиратского красного шарфа
листок со взъерошенной рифмой найти!
С щепоткою тмина, с корицею в мокко,
с угаданным клювом средь гущи на дне,
с такой молодою – не знающей срока -
пузырчатой радостью в жёлтом вине,
с рыбацкою лодкой, что, еле белея,
спешит, обгоняя кефаль и макрель, -
в край ладана, смирны, тоски и елея,
туда, где Эллада, Ливан, Галилея -
озёра и смоквы Заветных земель...
Херсонес
Единороги над волною,
маслиновый корабль в порту.
Из чернолака пью вино я. -
Ты скажешь, было не со мною,
но я оттуда не уйду.
Искусство быстро с места сняться
во все ценимо времена.
Но есть упрямей дар - остаться,
дождаться мраморного танца
у Атлантического дна.
О нет, не спрашивать о слове,
лишь, соучаствуя, молчать. -
В зелёной извести, в полове,
волна подбросит к изголовью
Босфора медную печать.
Там профиль Августа чеканен,
там аверс лозами увит,
и голос кесаревых таин,
всех их промоин и прогалин,
мне до утра принадлежит...
И для размолвок с тишиною
мне все отрезаны пути.
Там вволю свежести и зноя,
там всё, последнее, со мною -
и мне оттуда не уйти!
Свидания
То летучая мышь пролетит, то сорвётся комета.
Окоём полуночный - их полновоздушный надел.
Углокрылый кожан к биссектрисе нездешнего света
на свиданье поспел.
И в объятья ветвей средиземного бриза наплывы
проникают, шепча мавританских страстей языком:
"Тронь мне губы вином, виноградно-неверное диво,
на припеве морском!"
То профыркает ёж, то любовники вскрикнут в забвенье.
Густотравье Тавриды - слияний бессонный ночлег.
Поцелуи ручья и цикады скудельное пенье -
брага и оберег.
Ни за что, никогда не угаснет певучее дело
колыхания вод, обрыванья июльских плодов
Проплывая сквозь ночь, молодеет до звонкости тело -
доплывает на зов!
Где голубой чертополох Тавриды...
* * *
Где голубой чертополох Тавриды
баюкает уснувшего шмеля,
взрезают полночь августа болиды,
большое небо надвое деля.
Где оксамит османского халата
на берег сброшен гурией-горой,
пространства Демокрита и Сократа
задумчивым наследием чреваты
и судьбоносной мечены игрой.
Честней и чистоплотней царской водки
целящий все бесплодия простор.
Дни - алчны. Но величье ночи - кроткий
наследует! Лишь он - не шут, не вор,
не тать-законник, говорю, не жалкий,
измаранный наживой временщик...
На фреске в Падуе кусают небо палки
и факелы. И желтозубый лик
целующего до смерти - приближен
к спасённому Сыновьему лицу...
Пылает Крыма ночь, чей ужин пышен,
чей дух достоин тождества Отцу!
Восток и Запад сущности схлестнули
на жертвенных Понтийских берегах.
Опять звезда сгорела. Устою ли?
На осыпи, на девяти кругах?
Лазоревые чёрт-цветы Тавриды
баюкают всю ночь шмелиный сон.
Здесь, вопреки линейности Эвклида,
здесь - и давно, задолго до Изиды -
птицеголовый плод её спасён...
* * *
Кентавр, пернатые триремы,
лазурь, аттический пейзаж.
дождя и солнца теоремы,
клавиры виноградных чаш.
В предолимпийское столетье
мир свежевымыто хорош,
и Пифагорово наследье
плывёт в Коперников чертёж.
И тянутся ему навстречу
сегодняшние облака,
где облик перистый помечен
жемчужной прядью у виска.
Та утренняя проба духа,
заря кифары и пера -
живительна для глаз и слуха,
для чуткострунного нутра.
То предрассветное столетье
для зрячего - недалеко.
Макрель, вскипая, пенит сети,
густеет козье молоко.
И брынза сочная пастушья
ячменный радует ломоть... -
И беглый миг великодушья,
живой грозой плеснув над сушью,
навеки освежает плоть!
Вместе с ледащей дворнягой Дунаем...
Собачьи сказки
1. Ночная просека
Если бы лунный надкушенный грош
не укатился за озеро крыжня,
если бы Старой Медведицы ковш
не зацепился за сосны неслышно,
если б над просекой крылья совы
не заметались в разбойничьем мраке,
жутко касаясь пером головы
рядом со мною бегущей собаки,
если б не это бродяжество в ночь
вместе с ледащей дворнягой Дунаем,
если б не тени разлапистых порч,
что на рассвете едва ль замечаем...
Чур меня!
Я и не знал бы о том,
как ясноглазы огни-домочадцы,
как хорошо - в человеческий дом
из темноты наконец постучаться...
2. Старый пёс
Зазывы утиного кряка
слышны далеко над водой,
и ящериц ловит собака,
прибрежной шурша лебедой.
Завидую - как беспечален
стареющий трёпаный пёс!
И даром, что хвост измочален,
и розовый шрам не зарос.
И даром, что умную морду
корёжит, у губ, седина,
что костью хребтовою твёрдой
уже не хрустит старина.
И даром - репейное поле,
собачья бездомная быль
насыплют на ссадину соли,
на зубы - скрипучую пыль...
Не сыт, а зато не стреножен!
Куском да пинком не пленён.
И, злыдням назло, - всё не гож он
на корм для лохматых ворон!
Вот гнутые месяца рожки
всплывут из полночной воды -
и вздрогнет дворняга сторожко
под боком у колкой скирды...
3. Перед циклоном
В знойные пагубные вечера,
лая, на вой переходит собака,
и в глубине предциклонного мрака
полнится тьма вороного крыла.
Тянет селитрою, прелым зверьём,
уксусно-угольным чадом шашлычным,
мышью летучей, при слове обычном
жутко шмыгнувшею за окоём.
Пахнет жестокостью смутных времён,
средневековой ущербностью мира,
юностью в кухне облезлой квартиры,
жизнью, ценою в трамвайный талон...
Веет ещё Веды ведают чем
от обречённости пёсьего воя -
бешеной молнией шаровою,
самосожженьем астральных систем...
Но над тревогой угарных примет
речка повеет линями и тиной. -
Ровною влажностью пенициллина,
мудростью-плесенью прожитых лет.
И подмигнёт над зубчатой сосной
голубизной дальнозоркой Венера:
"Чай, пронесёт! - Не слетятся химеры
на кобелиный испорченный вой..."
Какое благо - босиком...
* * *
В чертополохе шмель и махаон
с цветков лиловых пьют июля брагу.
Горячий воздух бел со всех сторон
и плавно вхож в таврическую сагу.
К холму Гурзуфа ты, в который раз,
к разбой-траве, малиново-колючей,
принёс распах художнических глаз,
любовной встречи полноцветный случай,
чтоб все пять дней вместить в просвет меж строк,
в просвет живых ворсин медовоцвета...
Вновь парусник спиральный хоботок
вонзает до упора в мякоть лета.
А твой зрачок опять скользит вперёд,
в пространства, - по верхам лилово-сивым.
И камертон аорте задаёт
не статика, но суть - но суток ход
к полновоздушным вечности извивам...
* * *
Какое благо - босиком
бродить две долгие недели
и стать, без умысла, без цели,
без паспорта, лесовиком.
Брести чащобою травы
в белесых выгоревших шортах,
встречая лишь стрекозий шорох
да лепет лиственной молвы.
И что за радость - цвет-чабрец
в бутылку ставить у подушки,
червонный чай хлебать из кружки,
лоснясь, аки дикой купец...
О поднебесных толковать
необязательных предметах, -
о Зодиаке, о приметах, -
и в чайник мяты подсыпать.
И вспоминать, что в эту ночь
Земля летит сквозь рой Персея,
что август, метеоры сея,
строкой бы хлёсткой мог помочь.
И все созвездья так близки,
когда выходишь из-под крыши!
И тянет - приподняться выше,
хотя б уж только на носки...
Лишь звуком, а не притчей...
* * *
Ещё любил я первое июля,
Когда после дождя опять светло,
И солнце золотит в столовой стулья
И брызжет на гранёное стекло.
Как дышит рухлядь в этом доме старом –
Открытки, ноты, бастионы книг!
Всё шло к тому, чтоб тайно и задаром
Я некий мир из воздуха воздвиг.
А что ж ещё в бездомном певчем звуке?
Грудинных струй волнистая игра...
И ни на рубль скептической науки,
Ни на копейку прочного добра.
Слова о лете — обречённей лета.
Глотни вина, поозоруй чуток —
И ласкою предсмертного привета
Закончи рукописный завиток.
Иди же, ночь! Как ладен твой обычай,
Дружок-сверчок, игруля из игруль!
Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей,
И снова ждать рассветный лепет птичий:
"Июль-июнь, июль-июнь, июль..."
Сроки
Я справочники лакомо листаю -
фисташка и болотный кипарис
шесть тысяч лет ветвятся-зеленеют.
Наш путь земной, пожалуй, покороче...
Когда ж устану попусту роптать,
когда смирюсь, поставьте надо мною
девичью тонкокорую фисташку
и сумрачный плечистый кипарис...
Хочу я в двух, мне кровных, ипостасях,
в двух кронах, бессловесно говорливых,
дожить виток шести тысячелетий,
из-под ветвей ловя голодным взором
лимонницу,
кутящую шесть дней...
Пушкин, Библия, Данте в тисненье...
* * *
Пушкин, Библия, Данте в тисненье,
Шекспир, Достоевский -
вот весь скарб, что возила с собою
Ахматова Анна.
Как по-бабьи бы ни причитала,
по-царски, по-детски -
в целом молвлено о шестикрылии
духа и сана.
Отразятся в стекле,
уходя по английскому чину:
Гумилёв, Мандельштам и опять
Гумилёв – каторжанин:
И родня по-над Горенко сгорбится -
горе, кручина,
как склонялся над звонким арапом
охрипший Державин.
К ним из списков расстрельных,
кто ряда не выдал живого:
"Пушкин, Библия, Данте:" и далее -
там же, по тексту,
вдоль того же пунктира
блаженное тянется слово -
гробовой поцелуй Магдалины,
Господней невесты:
Речь идёт о бессмертии света.
Ведь непокаянно
зверем-цезарем взыскан
кровящий доныне динарий.
Пушкин, Данте,
всея бездорожия русского Анна,
Гумилёв убиенный и Лев,
рудников пассьонарий...
* * *
Видится Бунин, сухой и прямой. -
Странника трость благородного дерева,
та, что орешником тонким хотела бы
хоть на весну возвратиться домой...
21 июля ... года
Хорош ли праздник мой,
малиновый иль серый...
Арс. Тарковский
Хорош ли праздник мой, иль скуден и поспешен,
но помню я - наш общий Зодиак
дарил нам шедро горсть тугих черешен,
смородинный июль дарил за так.
Я помню - море было виноцветно
задолго до того, как плыл Ясон.
Глубиннее, чем бронзово и медно,
окрашен непрерывный ток времён.
И сок пространства в реках и деревьях,
дробясь, ветвился, но не иссякал.
И в вырезе ракушечников древних
не выветрился с амброю фиал.
Хорош ли праздник мой - мне лучшего не надо.
Лишь в том пребуду, что раздать успел.
Зной на ключице, а у лба - прохлада.
На жаркой скрипке буйствует цикада,
и воздух густо-спел, и полдень бел...
Вернулся я - а тополи срубили...
Гекзаметр
В стуке вагонных железок узнал я гекзаметр -
то ли сивилл прорицанье, то ль весть от Гомера.
Сдал бы зачёт я - античного круга диаметр,
но аритмия мешает, нехватка пленэра.
Пой, о богиня, про гнев басурманского часа -
гона первичной гульбы и хвальбы капитала.
Крошку краюшки бы, синей бы склянки от сглаза -
мало мне надо, чтоб птица над клеткой взлетала.
В стуке железных колёс мой случайный попутчик
вдруг оказался известным в миру баритоном.
Надо мне чаще равняться на певчих, на лучших,
надо тональность с надёжным сверять камертоном.
Рокот возвышенный, велеречивый гекзаметр!
Где мои детские сны - цветомузыка Божья?
Добрый народ не звонит мне, и зуммер мой замер.
Нравом ли, рифмою, нотной тетрадью не гож я?
И всё равно бормочу, ибо что-то другое
вряд ли могу - потому и лечу, обмирая.
Рокот гоняю - от Порту до града Нагоя
в небе Евразии - то бишь, от края до края...
Ну, а внизу, по пути, на верхушке Олимпа,
двое стоят и меня окликают зачем-то.
А над заросшей Луганью июльская липа
снова цветёт и струит медосбора крещендо...
* * *
Вернулся я - а тополи срубили...
Как горек тополиный мёртвый рот!
Один лишь брат, свидетель сна и были,
остался жив, корявый, у ворот.
Один - но во плоти два века живо.
Вот так вдали, сестра моей души,
две тыщи гефсиманских лет олива
молчит в саду в седеющей тиши.
На культях комля - переплески света.
А в тусклой мельхиоровой листве -
тень запаха, предчувствие Завета
о скорбном неухоженном родстве.
Вернулся я - с вершины Елеонской
мне виден бег строптивого Донца.
овечий топот дробный,
крупный, - конский, -
ещё слышны. Но не догнать гонца.
Порубленное, прорастая криво,
лишь смутно помнит белостенный дом,
где - окна в сад, где лица незлобливы,
где живы голубь, тополь и олива
в июле синем, в полдне золотом.
И в каждом дне - родник на дне...
* * *
Cмерть неминуема? - Так что ж?
Жизнь -
неизбежней, неизбежней!
В ней всякий миг живей, чем прежний.
И каждый возраст в ней хорош.
Так странно, так понятно мне -
душа с годами всё моложе.
И зорче взор её, и строже.
И в каждом дне - родник на дне!
* * *
Глазу больно и воздуху знойно
от затей - неуклюжим ключом
мозг Природы раскрыть непристойно,
любопытствуя, что в нём почём...
Да тебе ли сверстать её части -
взор полночный, улыбчивый рот?
Вот, лишь дрогнет ресницей всевластья -
как младенцу, охватит запястье,
сквозь прореху времён уведёт...
Часы
Разноцветных зверей и растенья
подарил нам июль для любви
и цикады нездешнее пенье
растворил в разогретой крови.
Слюдяные скрипичные трели
на макушке горячей сосны
марсианским песком шелестели
и сшивали лоскутные сны.
Хорошо.- Очень близко от моря.
Пахло хвоей и плотью жары.
В шелестящем волны переборе
таял голос троянской сестры.
Что за имя она повторяла,
отпуская с ладони цикад?
Радость радужная наростала
день, седьмой... Всю неделю подряд.
Оседая оранжевой пылью
в часовом обоюдном стекле,
блики атомов времени плыли,
осыпая цветы на столе...
Что за имя - Елена, Эллада? -
тенью бриза прошло над виском?
Длился полдень созвучья и лада.
На сосне рассыпалась цикада
летописным троянским песком.
Азартная ловля, свирепая ловля...
Лиман
Здесь влажному ветру склоняются плавно
дремучие плавни, дремотные плавни,
и чубом бунчужным, лиловей, чем ирис,
играет певучий казачий папирус.
Здесь тайные ямы азовских лиманов
живят низколобых сомов-уркаганов,
и стонут обжорливой свадьбой сазаньей
прогретые отмели знойной Кубани.
Азартная ловля, свирепая ловля -
младенческий век, тростниковая кровля,
истёртые вёсла, смолёная лодка,
курень камышовый, дымящийся кротко
на том берегу, где ракушечьи души
спрессованы в хрупкую жёлтую сушу...
Здесь - сладкие связки просоленной рыбы
и снасти рыбацкие, колом и дыбом,
здесь сам чешуёй обрастаешь за месяц
вдали от забытых петляющих лестниц.
Шуршало паучье премудрое племя,
что в клейком пространстве зациклилось время,
но над циферблатом лимана парили
прицельного коршуна чуткие крылья...
* * *
Е.
Окунается окунь в чернила заката-лимана,
окунается с радостным плеском, срываясь с крючка!
От турбазы доносится песнь про гульбу атамана,
песня тоже пьяна – хоть проверь, хоть поверь с кондачка.
Вот вернусь в халабуду – и сам отхлебну из бутылки,
ибо крови моей отсосало стакан комарье!
Засолю окуньков и развешу на леске, на жилке,
чтобы зря не пропало рыбацкое счастье мое.
Ну, и темень же здесь, на вечернем азовском заливе!
Называется «Лотос» турбаза. Атос и Портос
из растрепанной книжки глядят, и в едином порыве
комариная свора решает свой шкурный вопрос.
А с утра хорошо! По песку разогретого лета
с шестилетнею дочкой идем босиком на канал.
Караси-кругляши в золотые чешуи одеты.
Ну, тащи его, милая! Вот он в траве засверкал…
На улице Пушкинской
1.Хронология
Над улицей Пушкинской три с половиной десятка
несгинувших лет продолжают свеченье, витая.
И с "Белым" фугас веселей, чем эфирная ватка,
дурманит мозги и толкает к закуске "Минтая".
Вдоль улицы Пушкина прожито жизни две трети,
увы, небезгрешных, но всё-таки неповторимых.
И дети друзей повзрослели, и новые дети
смекают навскидку о числах - реальных и мнимых.
С яичного купола и с кирпичей синагоги
она начинается, с бицепсов "Южгипрошахта".
А далее скорбно молчат лютеранские боги
над щебнем Хруща богохульного. С бухты-барахты
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,
склепал на руинах обком - со всей дурью советской,
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек.
Но дальше, но больше - весь бодрый "бродвей" опуская,
все лавки, витрины и все заведенья с "Мартини",
все шпалы на выброс, все рельсы "пятёрки"-трамвая,
ведёт моя улица к неоскуденью светлыни.
Всех ульев и лестниц метро - во спасение мало.
Седмицам и троицам брезжит просвет, но не тыщам -
здесь храм Усеченья Главы Иоанна Купалы
парит белизною над старым снесённым кладбищем -
крестильный мой храм. Как срослись имена в аннограмме!
Погосты, 2-ой и 13-ый, - сцепки и звенья.
В семейной ограде отцу и печальнице-маме
и к Пасхе цветы оставляю, и к датам рожденья.
Но здесь же легли, словно в Пушкинской строчке остались:
мудрец Потебня, Багалий, Пугачов, Чичибабин.
И, будто бы миром на сердце сменяя усталость,
смолкает над дальней могилою дьякон-Шаляпин...
На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки -
не ямбом-хореем, так яблоком и хороводом!
Спешат молодые и радостные человеки
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.
И пусть бы потом, в андерграунде, в метровокзале,
иль, может, на самой высотной небесной опушке,
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:
"Увидимся снова, как прежде, - в кофейне на Пушке..."
2. Университет
На улице Пушкинской - водоворотом торговля,
лотки да ларьки, кутерьма огурца-помидора.
И это похоже на некую рыбную ловлю,
где каждый берёт, что клюёт, без каприза-разбора.
На улице Пушкина, улице бывшей Немецкой,
студентки, плывущие с лекций, в упор волооки,
и отсветом зыбким от утренней казни стрелецкой
чернеют их волосы и розовеют их щёки.
Над гулом артерии вечно ломают чего-то -
асфальты с одышкой и рельсы с оттяжкой меняют,
зане и отсюда любимая Русью работа
за волком вослед ни в леса, ни в поля не сбегает.
Но улица-вена полдюжиной жилок-проулков
ведёт к alma mater, к источнику млека науки,
чтоб имя "инфиз" с "политехом" аукнулось гулко,
как с кодом пароль, как с фамилией отчества звуки.
Вдоль мыслящей улицы множит Стеклов Ляпунова
изяществом функции и лепотой интеграла,
и формула, будто бы бабочки белое слово,
вдетает в прохладу проёмов учёного зала.
Сквозь выпуклость линз Левенгука, Рвачёва, Ландау
наводит магистр-юниор новый фокус на тексты,
чтоб в строгом каноне услышать приветствие "Вау!"
от пойманной в точке любви
амплитуды-невесты.
Из пражской глины вылепленный Голем...
Чешский триптих
1. Прага
Из пражской глины вылепленный Голем
гордится шестипалою звездой.
Горчит апрель миндалем, алкоголем,
винительной синильной кислотой.
Едва глотну - и вновь июль нагрянул,
влетают пчёлы в Королевский Град.
Я снова здесь, и вновь из пражских гранул
разноплемённый прорастает сад.
В лепнине, под затеями убранства
укрыл едва ль не каждый здешний дом
следы смешенья плавного славянства
с германским твёрдо-правильным углом.
И Рильке акварельная кручина,
и Кафки полуночный самосуд,
и слог первопричины, зов Марины,
меня по тесным улицам ведут.
Но зажимая треснувшую голень,
откуда сера каплет на песок,
за мной вослед хромает грузный Голем,
и заскорузлым каркая паролем,
обломком глины целит мне в висок.
2. Ночь в Брно
Древесный кофе, кислое вино
моравка подаёт. Но город Брно,
однако же, - куда как величавей,
чем эти склянки с привкусом печали,
сказать вернее - с привкусом тщеты
ухода от лукавой простоты,
подмешанной и к неподдельной вере
в грядушее, и к скепсису в химере
готического храма. Впрочем, прочь,
словесный уксус! Влюбчивая ночь
впускает в город воздух свеже-чёрный,
дабы смелей-порочней дом игорный
светился заклинаньем "Казино".
Пускай уж неказистое вино
рожают лозы на окрестных почвах...
Но пиво - вот ноктюрн! - до боли в почках.
И хмель великолепен на шестах
в воздушных залах о дрынах двухстах
или трёхстах. Вот ночь на трон Моравы
на медь и черепицу старой славы
струит прохладу. В гуле казино
"Каре, шеваль!" на 20 ставит Брно -
и за пеньковый кофе отвечает,
а значит, лёгким звоном привечает
ночного игрока... Но, разум мой,
когда ты жив, гони меня домой -
от пагубы нажив, от ложной цели,
к ночлегу в университетской келье.
Тем более, что завтра поутру
я слёзы расставания утру -
и над осенней готикой столицы,
над пашнями полей Аустерлица,
где паутина ранняя искрится,
лови крылом норд-ост, моя страница!
Возлюбленная, спутница, сестрица...
3. Стеклянная музыка
Весной, когда на Карловом мосту
взыграют что-то венское бокалы,
я вновь поверю нотному листу,
и мне клавира мятого - не мало,
чтоб целое столетье оживить,
чтоб мартовское хмурое мгновенье
во всех его правах воосстановить
по признаку светящегося пенья.
Воздушен над рекою Пражский Град,
парение камней его речисто.
Есть камертон. И вслед ему звучат
под пальцами края бокалов чисто.
Весна едва в зачатье. Но стекло
богемское, - богемного разлива, -
заранее приветствует тепло
и неизбежность зреющего дива.
Раскошен город Карловых камней,
славянство, избежавшее Чингиза!
Со здешних круч история видней.
Струится Влтава, и дробится в ней
стеклянный отзвук венского каприза.
Мимо мыса Айя входят лодки в уста Балаклавы...
К Балаклаве
Мимо мыса Айя входят лодки в уста Балаклавы.
Сверхсекретное капище тучами заволокло.
Бухта ярко-зелёная, колера крепкой отравы, -
глубже колотой раны. И рыжего взгорья чело
генуэзской украшено крепостью. Камни Чембало,
башни консулов, высятся на неприступной скале.
Как бы их ни трясло - до какого бы грозного балла,
как бы стрелка ни дёргалась на посрамлённой шкале -
всё равно остаётся избыток культурного слоя
здесь, на самой поверхности философических глин,
всё равно каждый век своего вызывает героя
на откос вертикальный для спора один на один.
Мимо мыса Айя в Балаклавскую бухту вплываю -
хлещет ливень посудину, бычится, крепнет волна.
И под качки весёлость качаю в мажоре права я:
"Поддавай, ветродуй! Подпевай, такелажа струна!"
Эту подлинность ветра люблю пуще сестринской водки -
этот, рвущий полотнища, встречный напор воздусей,
грозовой аперкот, неожиданный, братский, короткий,
накренившийся борт - "Альбатрос" ли, "Улисс", "Одиссей"...
Мимо мыса Айя доплыву до скалы укреплённой,
чья твердыня Чембало лелеет глубин изумруд,
чей воинственный консул cпасён волоокою донной,
чьей любви беспризорники-квитки средь зноя цветут.
Вот и я - не ядром адмирала Нахимова ранен,
не британской свинцовою пулею Крымской пальбы...
Балаклавы уста аж до смерти испил англичанин,
заблудилась слеза в можжевельнике верхней губы.
Что-то есть присноокое в здешних опасных красотах,
в отпечатках стрельбы на груди доломитов Айя...
Как во всей этой жизни, во всех её скалах и гротах. -
Иль не прав я, Иосиф? Иль прав я, Мария моя?
Опять искрится дар от "Киеввинзавода"...
* * *
О, розовый мускат под закусь помидора!
Лепечет брат-июнь в конкретной лепоте.
Увы, аптекарь мой, твой корень мандрагоры
не выморил меня... На клетчатом листе -
опять искрится дар от "Киеввинзавода".
Каких уж там щедрот плеснула мне бутыль,
не знаю, но готов от апогея года
и лично от себя воскликнуть, что фитиль
ямбический горит, не гаснет, что с хореем
охотно корешит он за одним столом,
что весям, городам, полкам и батареям -
не будет мало рифм! - Ни завтра, ни потом.
А на душе моей царит просторный праздник:
летят по ней стрижи, восторженно свистя, -
мой мальчик Мирослав, затейник и проказник,
трагичное в своей гармонии дитя,
уже приехал в Крым, в Гурзуф. И по мобиле
услышал с юга я поэзии слова:
"Клубнику продают, черешню. В полной силе,
в цветах, - "иудин куст". И море - 22!"
Помня о Волошине
Скользят по воздуху века
над бухтой Максимилиана,
и перистые облака
зеркальны рыбам океана.
Как чисто видно сверху вниз,
как выпукла хрустальность мира!
На паутинке Крым повис
медовой луковкой инжира.
В горах татарская арба
по рыжему трясётся камню.
Повязка плотницкого лба
белеет и уже близка мне
настолько, что всё чаще я
воображением сквозь зиму
спешу в те вещие края -
Кара Дениза, караима -
где рад я разделить опять
максимализм Максимильяна.
Нас у холма должны распять -
но только бы не слишком рано!
Нас не преминут повязать
соучредители Содома,
чтоб по понятьям дать понять,
кто здесь хозяин пса и дома...
Барыжный берег стал подлей,
чем был при Генуе, при скифе...
Зачем же мы к холсту елей -
кармин и охру на олифе -
несём? Затем ли, что, пока
мы всходим по ступеням разом, -
два тяжеленных моряка, -
вновь перистые облака
легки, как детская рука,
как первородным утром Разум?..
Не убий меня, мил-человек...
Из биографии
Вдоволь спето неверных слов,
вволю выпито жгучей дряни,
на майдане пяти углов
меж фасадами стёрлись грани.
Полдень лета звенел от жал -
сатанели от зноя осы,
и пшеничный запах влетал
в ноздри улиц с груди покоса.
Длился месяц стрижиных крыл,
окликал лепестками ало.
Ни за что я июль любил,
прикусив на ладони жало, -
лишь за случай добра и зла,
за тот час, когда в смерч-полове
мама с криком меня родила
в австрияцком и польском Львове.
Конь был маршальский бел и дюж,
сокол сталинский - зол и молод,
и ещё миллионом душ
под завязку ужрался голод. -
И в погибельном 47-ом,
подле Сяна спасясь от Дона,
огласил я псалмом роддом
в день Пречистой Казанской иконы.
Там пылало лето из лет,
над ЮрОй раскаляя кровлю,
где пробился я в зной на свет,
закипевшей измазан кровью...
Клят волчиной, облаян лисой,
в захолустье бесхлебья-лета
вскормлен был я чужой козой
возле града Елизаветы,
чтобы склон, где Булыжный Брод
жижу пьёт на похмел из Лугани,
освежил бы навек мне рот
дикой ягодой иносказанья,
чтобы нёс я в губах имена
городов и родимых кладбищ
по весне, что жива-хмельна
над щебёнкой церквей и капищ...
Пятьдесят обмелело рек,
пять морей в океан сбежало.
Не убий меня, мил-человек, -
из-под кожи выдерну жало,
и врачуют мне дух и длань:
спелый луг материнства-млека,
ветки Льва, Лизаветы, Лугань -
вся душистая Тмутаракань,
не увядшая за полвека...
Треугольник Киммерии
Крымского яблока плоть на разлом духовита,
плодоношения тайна невидима и велика.
Не замутняя пронзительной сини зенита,
длятся вдоль берега перистые облака.
Вот он внизу - раскалённый июлями Сурож,
пленнник и страж генуэзских своих крепостей.
В маковой феске, турецкую трубку раскуришь,
выждав у моря коричнево-смуглых гостей -
выждав маслинных, кофейных купцов да лимонных,
торсов моряцких, наколок чернила и соль...
Встретишь корабль в фиолетовых мидиях донных,
пёстрого ары хрипуче-надсадный пароль.
В Старом Крыму прошлогодняя снедь магазина
дышит черствей, чем Гирея ременный аркан,
и лишь над глиной сухой, над могилою Грина
всё поливает свой розовый куст Зурбаган.
Мягче холмы Феодосии-Кафы - Стамболи
брызнул на купол лазурью. Барышник-торгаш
всласть покурил, да шайтаны штыком прикололи:
чин-чинарём, то биш - баш, понимаешь, на баш.
Эхо слоится - от Кафы до Старого Крыма,
до крутобровой Согдайи, владычицы скал.
Сколько бы щепки бортов ни несли тебя мимо,
ты во спасение к этим излукам припал.
Вынь из-за пазухи тёпло-заветную птицу -
два полумесяца перистые у стрижа.
Дышит простор, киммерийский закат золотится,
и всё нежней, всё призывней троится межа.
В сумерках шатки огни нереального порта:
рой светляков - штрих-пунктирный, но подлинный план.
Старая карта до ссадин на сгибах истёрта:
синяя Генуя, ало-зелёная Порта
и криворукого корня цветок, Зурбаган...
Окна раскрыты, чтоб мог ты пожить средь ветвей...
* * *
Бабочки, призраки птиц или Бэтмэнов тени
множась-мелькая, мятутся в весенней ночи.
Смолкла орава лягушек, оглохнув от пенья...
Полною грудью вдыхая пространство - молчи!
Крепнет всезвучие паузы этой счастливой.
Окна раскрыты, чтоб мог ты пожить средь ветвей,
в облаке, вспененном белоцветущею сливой,
в нежном фаворе барочных и млечных кровей.
Рамы распахнуты в ночь - и душа улетает,
словно смеясь, репетируя райский отлёт.
Майские ветки во тьме белизну осыпают.
Верною псиною тычется время в живот.
Носом прохладным овчарка, чепрачная Лада,
жмётся к тебе и вселенской любовью сопит.
Полнится суть многозначных фантомов. - Не надо
звуком случайным тревожить точнейших орбит.
* * *
Острый бронхит, черепное тупое давленье,
насморк по будням, а в праздники - счастье мигрени.
Сколько же хворей земных на одно лишь творенье
Божье! Какое, однако, обилие тени!
Зависти вирус и ревность с архаровым рогом...
Я бы и отдал две трети, да вряд ли сумею
вставить хоть цифру в баланс мой меж миром и Богом -
дар перемножить на кровь и отнять ахинею.
Каждому - броды свои, своя шапка да санки,
детства потерянный рай и лохмотья старенья.
Время - рубаха до смерти, подённо с изнанки
тело царапают швы нестыковки и тренья.
Мне же - стезя по слезе. Никому не желаю
этих, в в бреду, глухарей, февраля-алкоголя.
Милое чадо строки от себя отдирая,
в поле дитя отпускаю, на хищную волю...
В шагренях мая до утра не сплю...
* * *
Сирень, пионы. Стихотворец-май.
Намаешься с его хмельной повадкой.
То солнцу, то слезам небес внимай
над в клетку разлинеенной тетрадкой.
Не в шутку, а всерьёз сложилось так -
до слёз светло над рифмой маломальской.
Вот так же честно плакал Пастернак
над женственной распутицей февральской.
Борис ли Леонидыч насвистал,
ожёг ли рот я "горькою от Борьки"? -
Но снова в мой полночный мадригал
цветеньем веток ломятся задворки.
На то и ночь - как песня "Караван",
чтоб во дворе, акацией укрытом,
я смог бы спеться, через океан,
с потомком Баха, Бахуса - с Бахытом,
которому я не соврал: "Люблю!",
а он: "Аналогично!" - сдал мне сдачу...
В шагренях мая до утра не сплю,
не подстелю соломки скрипалю,
лишь лёгкости смычка в ответ - заплачу...
* * *
Вырастают деревья и форму пространства меняют,
и уже не узнать обветшавшие за год дома.
И поспешные грозы весёлую грусть проливают
на кирпичные ульи, на каменные терема.
Зеленеют, блистают, густеют блаженные купы.
Как люблю я ветвей простодушную щедрую плоть!
Да пребудет мне в радость тарелка пустейшего супа,
лишь бы снова дарил эти майские грозы Господь!
Только б снова омыл эти липы сверкающий ливень.
Вот стихает гроза - словно страсть, опадает вода...
И оттаял под сердцем зимы мастодонтовый бивень,
и почуял я вновь, как по жилам струится звезда.
Жаль, что короток май и не вечны венчальные грозы!
Тает белое время каштановых губ и очей.
И летят лепестки - белизна с алым крапом угрозы -
шелухой опадают - ненужною, серой, ничьей...
Но вдоль радуги - выгиб небес, справедливая сила,
что по зоркости глаз и по имени нас нарекла,
что у слабости нашей согласия не попросила
и бессмертье души нам дала - не со зла, не со зла...
Восемьсот лепестковых воздушных невест...
Из "Песен реки Ян-Цзы"
5. Китайская грамота
Полновесный июль, абрикосовый зной,
невесомая дрожь светотени -
но горчит эта щедрость подспудной виной
и тревогой невнятных смятений.
Поучительна книга династии Цин -
восемьсот тонколицых наложниц
вырезает из нежных шелков мандарин
птицеклювым движением ножниц.
Розовея, смутясь, они стаей вспорхнут
и украсят цветением ветки,
но повсюду развесил узорчатый плут
паутинные ловчие сетки.
О, как прежде я спелое лето любил,
грозовое, румяное лето!
Но становится пеплом погашенный пыл,
и никто не в ответе за это...
И не знаю, как быть - улететь ли в Китай
на огромную Жёлтую реку,
где бамбук или рис шелестят "Баю-бай"
потерявшему сон человеку?
Где не сразу ведут на заточенный шест -
век живут мелкотравчатым торгом...
Восемьсот лепестковых воздушных невест
будут ждать и обрящут с восторгом
императора ночь. И, шестнадцати лет,
будет предана лекарю дева,
ибо мудрошипящий придворный совет
должен выдавить чадо из чрева...
Ну, а тех, кто родился, на этой земле
не минует касание лета.
И созреет, взойдя на суглинистом зле,
щедрый плод в исполненье обета.
И для каждого - свейся кольцом ли, взлетай -
много трепета, воздуха мало.
И почти всё равно - уплывать ли в Китай
или в омут родного зерцала...
6.
Но что есть Будда? - Дерево в саду,
коль посмотреть буддийскими глазами...
В провал зимы, в безвременье уйду,
но прояснится - и под небесами,
под новым солнцепадом оживу.
И хмель травы, и детства халабуду
вдохну, рукой поглажу наяву.
И снова то же имя назову... -
Так и монах шафранный будит Будду.
Там лона глин обречены рожать...
Буквы
Когда мне землекопы в лоб твердят,
что я - всего лишь бык, а не Юпитер,
я отвожу непримиримо взгляд
и мну в ладони соль и зёрна литер.
И слышу шорох, волхованье букв,
Египет слышу, пиктограммы детство,
и клинописных глин звенящий лук -
тугих волов и львиных лап наследство.
Шуршит папирус. Нильские поля
телят лелеют, чтоб скоблить пергамент
для музыки, для чудодейства, для
звериных войн и птичьих моногамий.
О, слишком много в ней заключено,
в коровке божьей, в буквице священной!
Дымится слова красное вино,
целя надеждой и горча изменой.
Когда меня алхимией корят
историк, археолог и географ,
я вижу золотых династий ряд,
где в синих косах тайный иероглиф -
тяжёл и полновесен, как нефрит...
Где мандарина ротик вероломный
улыбкой кислой пришлого дарит,
скрывая расы разум многотомный.
О, слишком много в ней предрешено -
в повадке теплокровной взлётной речи!
Лишь певчей птице долететь дано
до почвы плодоносных Междуречий.
Там лона глин обречены рожать!
Там слово, словно лён и воздух льётся,
и там последний черноротый тать
с тарантуловой нитки вниз сорвётся...
И у белой хоругви поют, как в раю...
Из "Галицких песен"
1. Через полвека
Пересчитать все львовские соборы,
в лазури искупать все купола.
Здесь львиных грив вельможные уборы
июль ещё не выжег добела.
Семь раз по семь отстрекотали годы -
я не был здесь почти полсотни лет,
и позабылась полуявь прихода,
лишь смутно брезжит повивальный свет.
Лишь брызжет тот же, прежний, зной июля
на патину шатров и куполов,
и камни, что средь зелени вздремнули
во сне лепечут мой месяцеслов.
И узнаю я в нраве глыб старинных
свой навык - в неподатливости жить
и страсть свою - в земных увязнув глинах,
но не отрекшись, с небом говорить.
И, кажется, я - свой в сём Вавилоне,
что многоцветен и многоедин. -
В монашеском дерюжном балахоне
мы нежим Книгу, град мой, господин!
Корнякта шпиль, Святителей часовня,
и на откосе храмовой горы, -
Господней лепоте июля ровня, -
хоромы копьеносного Юры...
О, словно в отчий дом, войти в соборы!
Через полвека в повивальный град
вернуться, чтоб услышать не укоры,
но стрекотанья стрелок и цикад. -
Они вот-вот поведают мне что-то,
о чём я сам не вспомню никогда...
О, львиный полдень! Вещая дремота.
Из-под корней журчащая вода...
2.Утро Преображениия, Стрый.
Стебник, Гай на холме, а за ними и Стрый.-
Наконец-то и вызрела, старый-старЫй,
в городке твоём, стрийско-австрийском насквозь,
лозоходца лоза, Спаса-праздника гроздь.
Крупноплодный, дворы осветил виноград.
Что ни ягода в грозди - сестрица да брат.
Поцелуем багряное греет вино,
время ереси в терпкость глотка сгущено.
И губам "изабеллы" по вкусу сродни
забродившего августа-солода дни.
А когда на заре, в восемь тридцать утра,
мне развяжет язык винопитье-игра,
я признаюсь ещё раз себе самому,
что и сам я вот-вот провожу по уму
всё своё, что пронёс за душою, с собой,
через милость сестёр и собратьев разбой...
Но пока что, воздушней, чем с грядки укроп,
греко-римский псалом освежает мне лоб.
Свята мята вплетается в мову мою,
и у белой хоругви поют, как в раю.
В разноцветных фруктовых корзинках народ
к августовскому храму надежды несёт.
Пламенеет Тарас, стынет навзничь Андрий,
и в изюмины глаз Спасу молится Стрый...
Из "Песен реки Ян-Цзы"
1.
За маем вослед золотится июнь,
и ласточки вновь небеса оживили.
О лёгкие, быстрые, острые крылья,
о чёрточки туши династии Цунь!
Неужто и впрямь мандарина гонцы
пространства пронзили? -
Едва ли, едва ли...
А просто сто рисовых дней зимовали
в оранжевых глинах у жёлтой Ян-Цзы.
2.
Там Сяо из нефрита яйца,
в скорлупках золота, несут.
Зверьками ловкими их пальцы
впиваются в священный труд -
бумагу варят, квасят порох
и красят в яркие цвета
копеечных игрушек ворох,
зане святая простота
велит им петь хвалу драконам
и заживо здирать шевро
с тех, кто движеньем беззаконным,
неосторожно-утомлённым,
в тушь не сполна вмакнул перо...
И, натянув на барабаны
виновных кожаный покров,
молиться вслух огню шафрана,
латая дробным ритмом раны
чешуйчатых своих богов.
3. Похишенный рецепт
Тигриные когти и буйвола сердце -
вот зелье, и старцу и воину впрок.
Скрипит одряхлевшей обители дверца,
чьи петли стократ пережили свой срок...
Тигриные зубы да буйвола печень -
обрывки тибетских похищенных тайн...
Расстрига, бродяга, живуче увечен,
вспахал костылём Бухару и Китай.
Кремнисты пути деревяшки беспутной -
семь лет под лохмотьями шалой судьбы
до отчей обители пасынок блудный
пергамент хранил - сургачи да гербы.
Тигриные лапы и буйвола потрох -
сушить, истолочь, настоять на меду.
Рецепт молодильный - гремучий, как порох,
вливающий в жилы багрянец-руду...
Премудрые крысы шуршат среди хлама,
и призрак скрипит дровяною ногой.
И, чу! - Колокольчик тибетского храма
щебечет с акцентом равнинные гаммы
звенит под кирпичной келейной дугой...
4.
Мануфактура "Дружба" из Китая:
ярлык - багров, бела шестёрка литер.
Как чинно я обновку примеряю,
протискивая лоб в шанхайский свитер!
Мне внятны тех палеозоев даты,
но красок нету у тогдашних шмоток
и формы нет. Клочки бесцветной ваты,
наброски граждан, абрисы сексоток,
сквозняк несёт на Площадь, где огромный
портрет тирана врёт, как лучше стала
и веселее жизнь долины ровной...
И парой глаз из серого металла,
зрачков гадючьих, гонит он в дорогу
свой люд, в одежде неизменно-серой.
А если нечто снизу брезжит Богу -
лишь алый всплеск тряпицы пионера.
Я всё-таки там жив! И мак на шее
узлом неровным к празднику повязан.
И ни былым, ни будущим клише я
крамольной верой в колер не обязан.
Я цвет ищу, чтоб сделать сказку былью.
И веря вертикалям нашим взлётным,
лиловый негр нам подаёт мантилью,
и жёлтый Мао свитер "Дружба" шлёт нам
Вдоль олеандров кистецветных...
В контрсвете
И виноцветная сирень,
и белая - в кипенье пены -
сквозь серый выплеснутся день,
когда, скликая перемены,
ударит в свой звонок апрель,
подбадривая юным звоном
всю нищих склонов акварель,
все искры в синем и зелёном.
Глаза Гурзуфа в лоб дерзят -
в упор наглеют по-матросски.
Но рад вплести я всё подряд
в попутные свои наброски,
как будто жаль мне обронить
под саклей улицы юрзуфской
парчи подпорченную нить,
уже вплетённую в мой русский,
на ритм положенный, язык...
Не зря вросли в заметки эти -
и ножевой предсмертный крик,
ночной Хичкок, проулков сети,
и у Коровинских палат,
вдоль олеандров кистецветных,
вазонов Джугашвили ряд -
как некий символ злозаветных,
но нераскаянных времён...
Вдвойне за зуб, втройне за око
вернёт своё трущобный склон,
чьи халабуды кособоко
коробятся, трещат по швам,
но держатся когтистой лапой
за скрип корней, за срам и хлам,
за снимок с низколобым папой...
Глаза потомков недобры.
Взлетят их ветки, лиловея,
но нравы почвенной игры -
день ото дня пребудут злее.
А "Кэннон" щёлкает. - Бреду
посёлком городского типа
и всю любовь-белиберду,
беду, цветную лабуду
ловлю пластинкой фоточипа...
Покрашена апрельская скамейка...
Тринадцатое апреля
Покрашена апрельская скамейка.
И улица подметена - отчасти.
И вновь искрит догадка, жалит змейка,
что синема весны - синоним счастья!
Тринадцатое теплится апреля.
Над чёртовою дюжиной взлетая,
смуглеет зяблик каплей акварели,
и зелень дышит, в кокон завитая...
Пасхальная неделя миновала,
но в воздухе витает запах сдобы.
Всё больше света, и всё так же мало
в миру просветов. Смысл высоколобый
свидетельствует, что в игольном ухе
не мы с тобой застрянем, дорогая....
Вдоль свежей краски, жизнь, вдоль медовухи,
спешу к тебе, сестре и повитухе,
из рисок зебры белый стих слагая...
* * *
Не впишусь в извив дороги ужьей,
хоть мне кол на темени теши!
Веку же - не в масть великодушье
вкривь и вкось расхристанной души.
Да и Божий Сын совсем не в жилу
времени двуклеточных барыг.
Если что мне лоб и освежило,
это ливня юнольвиный рык.
Троицы июньской громыханье
над молочноспелой муравой.
Вслед грозе есть лёгкость покаянья
в воздухе, и есть над головой
столп незамутнённого озона,
вертикаль, влекущая туда,
где зачаты мы во время оно,
может быть, для боли, пусть для стона...
Но не для кромешного стыда!
Гурзуф в апреле
Как свежий кус рахат-лукума,
благоухал апрельский Крым.
И свата, шурина и кума
Поил мускатом даровым.
Апрельский воздух винно-влажен,
бродильный сок ветвей – игрист
и льдом артезианских скважин
прохладно-чист, как декабрист…
Из всех скворечников прибрежных
мне ближе и милей – Гурзуф.
На камень средь черешен снежных
сажусь, как на гаремный пуф.
Здесь справа – Чеховская бухта,
морское зелье в чаше скал.
А слева – странник Пушкин (ух ты!)
в оливах девицу алкал…
И здесь, за рубль башку катрана
купив у шалых рыбарей,
всей кожей чую – вольный, пряный,
гульливый дух семи морей.
И на скрещеньи стрелок-взоров
шепчу приморскому гнезду:
«Твой бесшабашный пёстрый норов,
узоры птичьх разговоров –
с бродяжкой-рифмою в ладу!»
Нечаянно выдохнув рифму – румяное слово...
* * *
Е.
Выходит по жизни – нас трое, всего только трое
со схожестью радужек, с общею искрою взора.
Спеши мое чадо! А я, в эти дни без героя,
по-прежнему жду наших родственных струн перебора.
Выходит по картам крапленым, по гуще кофейной,
что веткам ствола и сойтись, и расстаться – непросто.
Эфирное время мурлычет плебейскою феней,
и детские ссадины множатся хворями роста.
Сбывайся, инфанта, - но плавней, прошу, но взрослее!
О, быстрых шагов полудетски-неловкие сломы…
Апрель уже вызрел, и облако, в сини белея,
повисло над крышей облупленно-серого дома.
И солнце дробится в стекле, и собака Мефисто
снует по асфальту двора горячо-бестолково…
Нас трое – и мальчик трехлетний хохочет лучисто,
нечаянно выдохнув рифму – румяное слово.
* * *
М.
Позволь любить тебя, пока ты мал,
Я знаю, позже будет нам труднее
избегнуть эгоизмов ахинеи…
Я знаю это, потому что знал.
Дай лишь неловкость ангела хранить,
быть рядом – упований мне не надо.
А схожесть твоего с тем, давним, взгляда –
еще одна попытка, может быть,
на будущее глянуть без печали,
но ровно, не глупея от надежд…
О, трогательность маленьких одежд,
О, радость – быть с тобою, быть в начале!
* * *
Не отдай меня дьяволу, Боже!
Ну, а если, а если отдашь,
сделай так, чтоб казалось похоже,
будто баш ты меняешь на баш.
Так вздохни, чтоб идущий за мною
был, сильней ли меня иль слабей,
но – не раб внутривенному зною,
но не сторож гордыне своей.
Чтобы он, мое кровное чадо,
янгол яблони, льна Амадей,
не платил за меня, за Пилата,
за других ослабевших людей.
Не отдай меня бесу, Родитель!
Не тепла, но зело глубока
на юру земляная обитель –
там, где еле лепечет река.
Наконец-то я стал молчаливой
беспорочной Твоею водой
и корявой, Твоею же, ивой…
И упавшей – ничьею! – звездой.
Воздушные коридоры
Во все дыры, во все щели
лезет холод, а за ним -
пустота от Торричелли
и отчизны сладкий дым -
с горьким привкусом, понятно,
и с налогом на восход,
на закат, на кофе пятна
и на шпрот в народный рот.
На Матросской Тишиною,
над Холодною Горой,
над зубастою Стеною
космонавт летит, герой, -
как фанера над Парижем,
славным городом понтов,
где дожди к лицу и крышам,
и гортензиям зонтов,
где и я гостил когда-то,
у араба сняв подвал.
За три дня ночлежной хаты
слёзы месячной зарплаты
Монпарнасу отдавал.
Над Лукьяновской тюрягой
да над Куряжем святым,
ледяной подхвачен тягой,
правлю я крыло в Надым.
Вниз влекут портвейн "Алушта",
с жёлтым бланком управдом,
но лечу я, потому что
вызрел воздух под крылом.
Вызрел, синий и холодный,
чуть подбитый сединой,
ледовитым духом сходный
с первородною виной.
Над Крестами, над Бутыркой,
над Лефортовской тюрьмой, -
рукавами врастопырку,
зрячий, но глухонемой,-
я лечу. Почти не слышен
клёкот горла моего,
да и я, полвека с лишним,
сам не чую никого,
кроме Пушкина с Дантесом,
Мандельштама с Усачом
да народа, с мелким бесом
спорящего - что по чём...
Правлю курс, и днесь, и присно,
на Игарку, на Сургут.
а внизу всё та же тризна -
выпьют, три мешка наврут,
булькнут да уважат в рыло
побратима своего...
Что-то в нас от Бога было,
не осталось ничего.
Рявкнет Русь - для стихоплёта
не отсудит ни шиша,
лишь над прозой гула-взлёта
смутно ждёт её душа -
чтоб над доброю Москвою,
сердобольной Колымой
да над звонами конвоя
долететь к себе самой...
Тянет стынью. В те же щели
лезут те же времена.
Печь дрожит, храпит Емеля,
а с открытки Боттичелли
пак-фиолем, еле-еле,
веет бледная весна...
* * *
Бездомный ветер кривобокий
ограды наземь повалил,
стрекочут сойки и сороки
над запустением могил.
В неровном проблеске апреля
чернеют палые листы,
засыпав прошлогодней прелью
полуистлевшие кресты.
С крылами в синь,
с хвостищем в зелень,
размашистый сорочий князь,
отведав талых капель зелье,
трещит, колышет веток вязь.
И радугой перо искрится,
и глупый крик гортанно смел.
Средь голых веток морщат лица
химеры хмурые омел.
И нечто им в ответ двоится
в завалах прелой тишины...
Но как кладбищенские птицы
на диво ярки и сильны!
Не обесточит источника над головой...
* * *
Видна ль Тебе моя борьба?
Я не стираю пот со лба,
лишь молча, прикусив язык,
рыхлю апрельский Твой цветник.
От крана приношу воды
к корням пионовой гряды.
Согретой почвы анашу
вдыхаю и вовсю гляжу,
как сызнова пиона куст
бутонами розовоуст.
Видна ль Тебе моя борьба -
восторг склонённого горба,
разгулье мышц после тюрьмы
гиперболической зимы,
где месяцев не шесть, так семь
пароль был "хлад", а отзыв "темь"?
И вот, в руке Твой чернозём
размяв, я думаю о том,
что он - темней, я - чуть светлей,
но мы уже одних кровей.
Позволь же длить мне этот ход
челночный - то опять вперёд,
к железом пахнущей воде,
то вновь - к пионовой гряде.
Позволь ещё! Я так привык,
что здесь - и Твой, и мой цветник.
* * *
Синее с красным смешаешь - горит фиолет,
светит и ультрамарином, и инфратонами!
Смерти в лиловом лугу, в колокольцевом, - нет,
нету в сиреневых ветках вражды между нами.
Стоит ли нечто с железным лицом утверждать,
если всё спето живою перловицей спектра?
Жаль лишь - отец не вдохнёт, не почувствует мать
новых цветных переливов апрельского ветра.
Жаль, что простились и жили не в полной любви.
Радугой радостной нам бы смелей умываться...
Ну, а теперь к сожаленьям своим не зови
ни альтер эго, писателя, ни папарацци.
С тем и останься: доколе зрачок твой - живой,
мир, что ведёт параллели всё более криво,
не обесточит источника над головой,
белого не обесцветит налива, наива...
Вколдована в город седой...
Из стихов о Валенсии
2.Ремарки
На площади Лопе де Вега,
где сам он вовек не бывал,
ветвей апельсиновых нега
сплетает из листьев овал
над сном валенсийской брусчатки,
над летописаньем камней,
чьих памятных дат отпечатки
с годами лишь только ясней.
В квартале, где чуть кособоко
стоит Катилины собор,
в кофейне "Волшебное око"
застольный звучит разговор.
И множат в нём "эр" неустанно
напором, похожим на сель,
Висенте и юная Анна
с подругой своей Исабель.
И так полнозвучна беседа
на фоне испанских зеркал -
с участием Серхи де Седа
филологов маленький бал -
что воздуха тёмного зала
и синего тинто, - на дне
чернильницы или бокала, -
хватает для отклика мне.
Журчит ли "Овечий источник",
влезает ли псина на стог,
но я, оживляя подстрочник,
запальчиво, будто игрок,
участвую в переизданье
де Веги рифмованых книг,
которые на расстоянье
почтительном видеть привык.
И классику драматургии
как памятник слова ценя,
я всё же верстаю другие
ремарки - свидетельства дня,
где светит "Волшебное око"
сквозь тысячелетний квартал
где некто, с бокалом, с востока, -
напорист, как норд и нарвал,
где вееры пальм и султаны
шуршат над солёной водой
и зеленоглазая Анна
вколдована в город седой...
Где длится в кофейне беседа
о столь многозвучных томах,
что кожею вспомнит де Седа -
над ночью-тесниной Толедо
безмолвия-свежести взмах...
3. Набросок с натуры
Это некий параллельный мир -
терракота, звук-Гвадалквивир.
Чёрный бык и красное вино -
Валенсийской жизни казино.
Догорел на площади костёр,
где почти ослеп Фомы собор,
где - на взлёте - шайка голубей
тенью крыл - майолик голубей.
Где ловил барыш и мавр, и грек,
а сегодня инка-имярек
продаёт, с тоскою пополам,
тёплый снег от перуанских лам.
Торквемада, взора смоль и яд,
вознеся гарроты постулат,
не осилил первозданный грех,
с ароматом рая женский смех... -
Вот, и юн у храмовых ворот,
вот и свеж, в листве, лимона плод,
и, по пояс в бронзе, палладин
зеленеет известью морщин.
А где время длится в параллель
теплоте оранжевых земель,
средь коряг оливковых дерев,
век за веком млеет сонный лев.
Мрамор стар и оспою изрыт,
но упорен зверь, как воин Сид.
И на царском жёлто-сером лбу
нацарапал гвоздь "Али Абу"...
Как много в небе турманов-записок...
Три наброска
* * *
Виолончель, игрунья Василиса!
Как много горлиц, женственных причин,
чтоб вздрогнуть на лету, возвеселиться
в предчувствии апрельских именин!
Как много в небе турманов-записок!
Всё на свету - в почтовом коде глаз.
И жанр кофейной лавочки не низок
на камертоне, на искренье фаз.
Трагичным струнам преданные пальцы
утомлены зимовкою смычка.
Но у весны в уме - камбэк скитальца
и марсианство здешнего сверчка.
И так пропитан запахом аниса
аврелий, властелин и веселин,
что прямо здесь, джин-тоник-Василиса,
прими джек-пот кофейни на почин!
Твой василёк, оттенком чуть в цикорий
и мягких губ расстрельная статья...
Переболевший глупостью и корью
опять захвачен рифмой "ты и я".
Смахни верлибры на пол и считалки,
но наш урок сольфеджио спаси,
учителка грехов, очей весталка,
барвинка синь с полян на небеси!
* * *
Парашютистка, резальщица вен,
строптивица, ребёнок длинноногий,
средь никому не нужных перемен
всё отчуждённей наши две дороги.
Пойду, сниму со стенки твой портрет,
сдам, в золоте-багете, антиквару...
Я так шучу. Поскольку больше нет
тех дней-цветков наотмашь, маков с жару.
Парашютистка выцветших небес,
дитя не лучшей, может быть, эпохи,
не целебат кружит, но Целебес
в воронке лепестковой специй крохи.
Румянец твой пылает, как вещдок,
и карие глаза чуть близоруки.
А над запястьем бьётся мотылёк,
чей жёлтый шёлк торопит срок разлуки.
Я сам его к руке твоей позвал –
расцеловать следы стекла и бунта…
Прокурен дымом угольщик-вокзал,
он позабыл о том, что мельком знал,
но всё чадит и греет чай, как будто...
* * *
Турецких лилий огненные рюмки
на стеблях засыпают утомлённых.
А стебли ног твоих, за флёром юбки,
в своих священных дозревают лонах.
Июньский вечер, негр какаокожий,
плывёт, танцуя, сквозь порочный полис.
Любимый город, на Содом похожий,
допив свой "Бейлис", лапает твой оникс.
Ты - та, что всем посулам не даётся,
но может вдруг, на баттерфляе страсти,
достать до дна пропащего колодца,
чтоб было, чем промыть глаза в ненастье...
На кой же чёрт опять насквозь красивы -
на гибель рифмачу и рок-н-роллу -
и жертвенного горла переливы,
и губ твоих кораллы-баркаролы?!
Наш русый ангел всех печальней...
* * *
Страстная пятница, выносят плащяницу.
Вечерняя молитва чуть слышна.
Над церковью Полярная зеница
легко и высоко вознесена.
И в том, что мой алтарь - опять вне храма,
гордыни нету, Господи, о нет!
Под строгим небом я молюсь упрямо,
где явней голос Твой и неподкупней свет.
Здесь, в сумраке снесённого кладбища,
толкают влагу вязов корневища
к ветвям из-под оплаканной земли.
Апрельский воздух - веянье печали.
Но что-то глубже грусти - там, в начале,
в помеченной распятием дали.
* * *
Раздвоенность у нас в крови –
наш русый ангел всех печальней.
Он благостен лишь сутью дальней,
но тягостен для визави.
Снедает мягкотелость нас.
И леность мысли неизбывна.
Нам чужда и почти противна
энергия разумных фраз…
И по расхристанной степи
уводит взор - к земному краю.
Я очень трудно засыпаю,
но ты, душа, уж лучше спи! –
Какого бы ещё рожна
ты вновь, сестра, ни возжелала,
самоубийственному жалу
ты, как язычеству, верна.
Так гибнет ни за что пчела,
ладонь случайную ужаля…
Туманно. Хочется тепла.
Там, где-то, вся в дыму миндаля,
весна у моря зацвела…
* * *
Апрельский воздух клёны овевает,
и сыплются зелёные цветы.
И у порога Божьей Пасхи тают
постыдные завалы нищеты.
Очнулась паства, подметая город,
и высветились облики церквей.
А на футбольном поле ярый форвард
у переносья свёл бугры бровей.
И некто мне опять по телефону
цитирует из книжицы слова.
Поверю ли слабеющему звону,
преданью, что поэзия жива?
Что б ни было, но трудному апрелю,
со стужами, с болезнями детей, -
конец. И по воздушной тяге хмеля
пойму, что с тёплым ветром еле-еле
кленовый цвет ссыпается с ветвей.
А синий март до одури хорош...
Из "Песен о вОроне"
1.
Стервятники, разбойная родня:
сивей - Пугач, а тот, черней, - Распутин.
Два ворона на мартовском распутье
сидят и ждут - меня ли, не меня?
А синий март до одури хорош,
до рези ярок молодостью смелой.
Привет, Григорь Ефимыч, криво дело!
По ком скрипишь, перержавелый нож?
Какой бы склянкой сини мне черпнуть,
чтоб холодно и солнечно напиться
из воздуха? Звенит река-сестрица,
вздымая берегов-крахмалов грудь.
А день прозрачен, высветлен насквозь,
искрит, на сломе наста лиловеет.
От моря снова влагой воли веет,
и грудь щемит бессмертия авось...
Вот путь мой - солнца щедрая мазня!
А в точном чертеже - не больше сути.
"ДорОга - дорогА" - клекочут судьи,
два ворона на жиже-перепутье,
на снежном киселе, моя родня!
2.
Старый ворон с космами под клювом.
Комли груш - в лишайниках зелёных.
Жизнь пыхтит, в подсосах и поддувах,
с дырами-прогрызами в законах.
Сгорблен бородач-вещун на груше.
Хлещет дождь над бездорожьем в ямах,
словно плачет о тепле и суши
в ветровых, насквозь промокших ямбах.
Лишь на том и выстою три раза,
что для срама жизни непригоден,
что от двоедушья и от сглаза
с музыкой сбегу по непогоде.
Мокрый карк на придорожных ветках
столь правдив, что чую: это кровно -
дрожь и зябкий морок в человеках...
Ты ли, мама, в тяжести на веках,
ты ли в ливне каторжном виновна?
* * *
Сглазили мои глаза,
выжили меня из жизни.
Три валета, два туза
усмехнутся мне на тризне.
Друг на полчаса придёт
помянуть упрямца Божья...-
Проворчит ли кислый рот,
что на дело был не гож я?
Что безделицею рифм
был я хвор неизлечимо
и возвысил звука миф
самозванно и бесчинно?
Но биограф будет тих,
ибо вслух не молвишь внятно
всех имён существ живых
с тех бумаг, где кофе пятна.
Он-то знает, брат чернил,
что совсем не блёстки буквиц -
тёплых птиц я находил
на камнях студёных улиц,
что с любовью в дом вносил
с холода бездомных тварей
что щебечет, полон сил,
мой посмертный бестиарий...
Не чернила - кровь жива
метит каждый лист архива.
Вот и все мои права.
Славься, праздник Покрова,
здравствуй, усмиренья диво!
И ты, цветок на сквозняке, - одна...
Поезд из Вероны
На землю Австрии я в Инсбруке ступил,
морозной ночью в Мюнхен из Вероны
из предпоследних добираясь сил
железною дорогою. Бессонно
крутил колёса аэроболид -
на европейском уровне, без шума.
Я, помнится, изрядно был прибит
усталостью. Опять, почти угрюмо,
владело то же ощущенье мной,
что и на многих прошлых перегонах:
как бы укор саднящий об исконных
утратах меж небесной и земной
константами - между людьми и Богом...
И там, и здесь я много задолжал
задолго до того, как в жизнь вбежал
за ржавым обручем в Луганске босоногом...
Тирольская студёная погода
виски сжимала, леденила лоб.
Я знал, что должен сам себе по гроб -
достоинства, свободы, кислорода...
Вот и теперь: рысистой беготни,
полдня в Вероне не было мне мало.
Но чистоты идеи не хватало! -
Мне впору было б, словно кьянти, дни
здесь смаковать глотками: девять, десять,
уже пятнадцать, только двадцать пять...
Куда быстрей Адидже мне бежать?
Что вправе камни римлян перевесить -
сей мрамор, больше двадцати веков
белеющий над бурным мелководьем?
Так нет же! В низком стиле шашни водим
с условностями дутых индюков
по ту и эту сторону границы. -
Лимиты виз и денег. Скучный долг,
велящий чин по чину воротиться
в ту степь, где воет гимны зимний волк...
И не когда-нибудь - по плану, точно
к субботнику под Пёсьею звездой,
вернись! Дабы, попом или Балдой,
не кануть в топь, так в прорубь вмёрзнуть прочно...
Опять беззвучно тронулся болид,
оставив Инсбрук полночи и стыни.
И ощутил вдогон я, что отныне
во мне Верона ласково болит -
щемит в грудине краткая любовь:
резных балконов и колодцев плиты,
три капли кьянти в жилах неофита
и белых статуй ледяная кровь...
И ты, цветок на сквозняке, - одна,
с единственным, своим, изгибом лона!
Минуя лёд тирольского перрона,
я подлинно хлебнул опять вина,
озвучив вновь, на все лады, Верона,
вне времени, влюблённо-беззаконно,
твоих ключей альпийских имена!
Аналогия
Флаг голубой и шафрановый крест -
это моя голубица Верона!
Сизоворонка, белянка-ворона,
веритас-птица, царица невест!
Что бы и пел я, когда бы не ты? -
Ты, что у Альп, у сквозной горловины
приоткрываешь сады-Апеннины,
сея фиалковой крови цветы!
Прапор днепрянский, соломеный крест -
сердцем под догматом Вашим рождаясь,
солнцем-лазурью с утра заряжаюсь:
верному - вера,
дитёнку - the best!
Кем бы и был я без родины той,
что - ясноглаза и плавноязыка -
синь-ключевой запивает музЫкой
хлебного ломтя припёк золотой?
Их, без лишних слов, беседа...
Виноградная беседка
Виноградная беседка,
вслед глотку - теплей беседа.
Спелой яблоне-соседке
улыбнётся дон де Седа.
Тонкой девушке черешне,
подошедшей в белом робко,
приоткроет дон неспешно
с марципанами коробку.
Отворит ей кабальеро
бронзой штопора бутылку.
Яркий воздух, примавера -
виршик, канувший в копилку.
Май был музыкой, а осень
стала прозой зрелой силы.
Виноградных гроздей просинь
охру листьев оттенила.
Держит за руку де Седа
то ли сына, то ли внука.
Их, без лишних слов, беседа -
сокровенная наука.
Время, резвая скотина,
скачет рысью и без лени.
То ли внука, то ли сына
нянчит мачо на колене.
И поёт: "Мы едем, едем",
хоть давно идальго знает -
то, что Бог дарует детям,
Он у взрослых отнимает.
Всё, что Он оставить в силах -
крохи памяти о рае,
где средь охры в гроздьях синих
можно жить, ещё не зная
холодов, и, не старея,
пачкать губы соком с ветки.
Всех бесед с вином мудрее -
виноградная беседка,
ибо там, на лавке, книжка
с той же азбукой лежала,
когда дон был сам мальчишкой -
тем, которого не стало,
но который обернулся
мальчиком вторым и третьим...
Туго узел затянулся
дней и лет. Мы едем, едем...
Виноградная беседка -
вязь узора без укора.
Брезжит райской синью сетка,
узких лоз живая метка
от Небесного Синьора...
* * *
Я просто мальчик в давнем синем дне,
но некий хмель крепчает в слабых венах.
И тянутся во сне от лун ко мне
предчувствия о многих переменах.
И яблоко в ладони - всё круглей,
всё тяжелее и правдоподобней.
А вольный дух июльских тополей -
ноздрям так лаком, внятен кости лобной!
И пальцы в шрамах - быстрая рука
при ярком свете дня неосторожна.
А ночь - близка, нежна. И у виска
всё шепчет, шепчет: "Жизнь твоя возможна..."
Ты долго пишешь книгу без названья...
* * *
Когда бы даже раскололась книга,
жизнь не скрепиться просто не могла.
Высокий стиль и низкая интрига -
земные, милуй Господи, дела.
Мир очень стар, и всё о нём сказали,
но с юной дрожью тянется рука
к цветному мелу, к пёрышку из стали,
к строению из мокрого песка.
О, время лепки крепости у моря!
Та память о мальчишеской руке
всё брезжит нотой, взятой априори,
и звуком - в глубине и вдалеке...
Ты долго пишешь книгу без названья
и в лучшем сне своём летишь без слов.
И проба речи, и исход в молчанье -
неотвратимость отклика на Зов.
* * *
Глаза земли я окликал: "Земницы!" -
и раскрывались сонные зрачки,
дабы ответить:"Снится - время длится,
паруются и мёрзнут насмерть птицы,
и рвутся к смыслам клинышки-значки,
каракули на обожжённой глине -
рисунки к Богу - искренность и лесть..."
В ресницах почвы, в корне-пуповине
стрекочет тяга к стрелке-середине,
но в них и мнимость минус-корня есть!
Земному сну я не сулю покуда
того, что сам себе не обещал,
поскольку вряд ли я в себе избуду
чудачество приверженности к чуду
и чуткость клиньев глиняных начал.
Когда б собрать мне всех метафор бисер,
вcю россыпь cизых соколов-зрачков,
венчались бы с провайдером провизор,
и пшиком дыма мизер-телевизор
взлетел бы к халифату облаков!
* * *
От Рюрика до юрты Чингисхана
блуждает память по лицу ребёнка.
И том Завета, яко том Корана,
серебряной застёжкой мечен звонко.
Тонка настройка отрокова слуха,
и столь точны толчки его зеницы,
что всех былых холер и битв проруха
его мужанью вправе пригодиться.
МукА и мУка на Руси едино
начертаны и только долгой песней
порою различимы. Но былина -
правдивей были, отрок, и чудесней!
И я тебе оставлю, птица Божья,
в наследство те запретные пределы,
к которым через верность бездорожья
моя шальная пуля долетела.
Железные слова пряморастущих башен...
* * *
В холодный и сырой
и всё ж весенний день
в подвальчик на углу
зайти и выпить кофе.
И справа, у окна,
где двух гераней тень,
увидеть молодой
и чуть знакомый профиль.
И то, что мог бы счесть
обычным пустяком,
назвать живым лучом
в разломе вечной тучи.
И думать ни о чём,
о том лишь, что потом
всё будет, как теперь...
И может, будет лучше.
Дом в Коктебеле
Белёный дом под охрой черепицы,
что выцвела от зноя и дождей.
Который день и век ему приснится,
аукнется который из гостей?
Здесь жил поэт - вакхическое чрево,
охапка абрикосовых кудрей,
укрыв крылом сыновьим королеву
тевтонских неразбавленных кровей.
Холщовый эллин, Хортицы наследник,
ходок с полынной пылью на стопах,
здесь обитал он - звёздам собеседник,
любовник египтянке Таиах.
Вот дом его - из корабельной башни
видны мне бухты синь и Карадаг.
Его застолий хлеб позавчерашний
горчит мускатной крошкой на губах.
Вот рокот Макса - россыпь тамбурина,
ночной веранды шумная буза...
И всех смуглей - ныряльщица Марина,
зелёные понтийские глаза.
Она зовёт себя весёлой пеной,
играет лёгким именем морским,
но створ судьбы, но фатум неразменный,
как скальный материк растёт над ним.
В её руке подарок сердолика
теплей кольца, сердечней серебра...
Темнеет ночь и степью пахнет дико
и обещает свежий бриз с утра.
Сурож
Три стебля чебреца из-под скалы-стены,
лиловые цветки степных скудельных брашен,
сорву я потому, что снова мне слышны
железные слова пряморастущих башен.
Здесь консул держит речь, и сурожская крепь
покорна письменам о генуэзской воле.
Но жёлтые холмы перетекают в степь,
где ханские бойцы тоскуют на приколе.
Где всадники крепки на выгнутых ногах
и с кровью пить кумыс обучены с батыйства,
там страх не пасть в бою - один-единый страх,
и жилистый язык не создан для витийства.
В скуластых образАх наследников Орды
играют желваки священного разбоя,
и лижут белый яд Чингизовой звезды
раскосые полки с безусою губою.
И вновь азийский вал со сталью Аппенин
сшибается у скал под солнцем Киммерии,
чтоб златотканный хан иль консул-властелин
шептал хвалу Алле иль Матери Марии...
Низкое солнце за поездом мчится...
Поезд
Низкое солнце за поездом мчится,
тёмную зелень закатом пронзая, -
глаз настигающего очевидца,
замкнутый круг вековечных признаний.
Где-то, на вогнутом дне объектива,
скачет закатною просекой древней
всадник, склонённый над конскою гривой,
алым краплённый сквозь ветви деревьев.
Не обогнать нам ни солнце, ни время...
Лишь на сетчатке небесного ока
век наш блеснёт - колесо или стремя -
буквицей-искрой бескрайнего срока.
* * *
Каждой морщине времён на шагрени пространства –
юности озера, зрелости дней над лагуной –
песню-письмо посвятить, и грехи самозванства
солнцем-вином умягчить и водой полнолунной.
И лав-историю с географической картой –
от Жюля Верна до Жульки, попутчицы верной –
план, что затеян ещё за школярскою партой,
между двух формул кислот, меж азотной и серной, -
музыку перистой дали, межхолмий интригу –
в строгий канон уместить, в безупречные такты…
Может быть, даже в достойную автора книгу,
ту, где по вкусу с фантазией смешаны факты.
В миге, в смеженье ресниц, в самой малой лакуне,
сжавшись в спирали, живут предисловия к тайне.
Нет, виноградарь, минут, исчезающих втуне!
Сумма их – год урожая, железо в ротвайне…
* * *
Где-то в полночи страшно пропело -
взвыли встречные поезда.
Показалось - на землю летела,
небеса разрывая, звезда.
Ты лицо искажённое вытер -
тихо... Лишь, отставая от нас,
мчался поездом дальним Юпитер,
перламутровый пристальный глаз.
Шёл громадой немой, без сирены,
с тяжким грузом руды и угля.
Здесь, внутри искривлённой Вселенной,
лишь один пассажирский - Земля...
И мириады брызг - солёно-сладки...
* * *
М.
Малыш-игрун, кузнечик легконогий,
вернись – скучаю по тебе всё крепче…
Нет, нет, побудь у берега, где боги –
добры, где тавры-дни – золотоплечи!
Где и твоим предплечьям хватит блага,
твоим лопаткам-крылышкам загара…
Чистым-чиста индиговая влага,
как бриллиант из книжки Буссенара.
И строгие мальчишеские брови,
до цвета льна на солнце выгорая,
тихи. Но время сдвинуто любовью
к тебе, к пространству с признаками рая.
* * *
И.Л.
Здесь морской конёк гурзуфский,
загогулина, крючок,
на майолике этрусской
попадает в мой сачок.
Здесь набоковскою марлей
махаон-летун пленён.
В нём поверь, наследник Тарле, -
зашифрован фараон.
Ибо и стезёй Рамзеса,
и соседством пирамид,
и родством Пелопоннеса
осенён Тавриды вид.
Ибо выткала Эллада
над Гурзуфом облака...
Дай же - крови винограда
я плесну в два гранчака,
чтобы мы с тобой у моря,
в десяти шагах от вод,
возлюбили априори
к Адаларам птичий лёт.
Там, в проёмах скальных арок,
чаек и бакланов гам.
Майский Крым - судьбы подарок
беспризорникам-стихам.
Ты поймёшь, поэт и книжник,
что в античный здешний склон,
в каждый мыслящий булыжник
я по-прежнему влюблён.
И скользнув по перепонке
сна, я зорче явь узрю -
мир, что первенцу-мальчонке,
навсегда отстав от гонки,
вместе с сердцем подарю...
У моря погоды
И всё летят от мыса Меганом
армады чаек с острыми крылами,
летят почти неделю, день за днём,
над мутными зелёными валами.
То снова грозы, то разрывы туч
пронзает свет, живительный и краткий.
И в буну бьющий пенный вал - могуч,
и мириады брызг - солёно-сладки.
Штормит, но местный бомж, из моряков,
бубнит, что завтра ясная погода
до крымских доберётся маяков
и до всего приезжего народа.
А мне в просветах ливней - хорошо:
брожу по лужам тёплого бетона,
где малышня резвится голышом,
и не ругаю грозового фона.
Ведь дождь, как миг-миллениум, пройдёт.
Двоякий Рим вкусят волчата-братья.
И нет у лукоморья непогод.
А ждать подарка у понтийских вод -
достойное художника занятье!
Полдень! – Ветрено, лазурно, горячо...
* * *
Перламутровая табакерка,
Воронцова исламский дворец,
сарацина скрипучая дверка
в зазеркалье, в изнанку колец.
Мёртвый граф с подбородком холёным
с потемневшего смотрит холста,
а над морем, прозрачно-зелёным,
твердь клыка - ледовито-чиста.
Грань лилового, в дымке, алмаза,
светопад поднебесной горы
не спасли этот берег от сглаза,
от разбойничьей в кости игры.
Бесноватая мутная сила
пронеслась и по здешним горам
и Архангела свет-Михаила
на лету обезглавила храм...
Но остался жемчужного цвета
мавританский поддельный дворец
и на страже вельможного лета
шесть натруженных львиных сердец.
Здесь под вечер дикарка-голубка
в арабеске стенает резной,
и по-тюркски селенье Алупка
окликает лазурь белизной...
Александру Грину
Ветер занавеси клетчатые треплет
за распахнутою дверью у крыльца.
Трепет утра, молодого солнца лепет
у ключиц, у полусонного лица.
Ветер стенами дощатыми играет –
и, качнувшись корабельной плотью, дом
в полудрёме угловато уплывает
за магнитный каменистый Меганом.
Киммерия, я плыву, твой гость нечастый,
я не плачу об утерянном ключе!
Злюка-ястреб, желтоглазый, голенастый,
точит клюв на капитановом плече.
Киммерия, из лилово-дымной сини
веет свежестью имбирною зюйд-вест…
Итальянские глаза Карассарини,
чёрно-мраморный феодосийский крест…
Хороши арбузы в Каффе на базаре,
но недолго кофе пакостный хлебать –
вислоусый обоюдоострый парий
цепью якорною звякает опять.
Он забросит оспой меченную птицу
на костлявое и твёрдое плечо…
Будет то, что воле Божьей пригодится. –
Полдень! – Ветрено, лазурно, горячо!
* * *
Инжир, виноград и гранаты
над крышами сизых лачуг,
воздушные крылья пассата
и яркой воды полукруг.
И ты, и Гурзуф мой – со мною!
Сентябрьские смоквы желты.
В смешенье прохлады и зноя –
искренье запретной черты.
Как солнечна дрожь пограничья
осенних и летних времён,
как солон Гурзуфа обычай –
крутой к синеводью уклон!
Как пенны цветные повадки –
трущобных проулков спираль!
Гаремные ягоды сладки,
и забран решёткой сераль.
И хан, красношёрстою хною
украсивший жирную грудь,
пленён моей юной женою
и слюни не в силах сглотнуть.
Не выдам красы супостату! -
Впустую - все звоны кольчуг,
напрасно - пурпурней граната
пылает на солнце бунчук!
Чтоб высветить близкое дальним...
Синдбад
Вечный Синдбад, пешеход, мореход,
Рьяный погонщик седого верблюда!
Шалый Меркурий – небесный твой код
Над головами оседлого люда.
Был ты погонщиком мула, осла,
Был ты ловцом голубого пассата.
Соль океана, пустыни зола
Выели краску на полах халата.
Экая жажда запретных земель,
Страсть, завитая тугою пружиной!
Сжатая, будто бы взрывчатый хмель
Синей бутыли всесильного джина.
Очи сливовые, дуги сурьмы…
Что тебе все обещания счастья?
От задубевших ступней до чалмы
Создан Синдбад для скитальческой страсти!
Вечный Синдбад, мореход, звездочёт!
Разве же нет между нами магнита?
Вот мы спешим за тобою на взлёт –
Факел из дюз каббалически бьёт,
Будто бы чрево бутыли открыто…
* * *
Меж брегом и бургом клубится единство дыханья.
Затем и бродяжишь, чтоб высветить близкое дальним,
затем и встречаешь волну в самоходной лохани,
трясёшься на взлёте полночном по кочкам астральным.
Затем и Тоскана-Этрурия длится холмисто,
и город Сиена - гончар, гобеленовый всадник -
классической охрой и ловкой ногой футболиста
откыто гордится. В пожухлой листве виноградник
лелеет на склоне осенннем младенчество кьянти -
багряных, лиловых, чернильных кровей откровенье...
А если и здесь ты не в силах воскликнуть "Аванти!",
то Бог и с тобой, и с твоей утомлённою тенью.
В путь добрый, попутчик! Прости же и мне возвращенье
в края, где ничуть не слабее подсолнух златится,
чем здешний тосканский. Но тускло тоскует о мщенье
отчизна меж брегом и бургом - подбитая птица...
Возвращение в Болонью
И вот опять Болонья. - Целый день
брожу по многоствольным галереям,
где век за веком присягает тень
свечам алтарным, папским орхидеям.
Здесь сукровицей жилистых колонн,
Феррары кровью, колером железа
стволы из камня - без ветвей и крон -
крепят хребет властительного жезла.
Здесь, в лоне тёмно-красных кирпичей,
в виду доминиканцев и Гальвани,
свободен я - ничейный книгочей
с обрывком карты города в кармане.
И походя, на тыльной стороне,
на обороте чёрно-белой схемы,
два слова я царапну, внятных мне,
два тезиса растущей теоремы.
Не брат, не ровня шушере столиц,
ни митрам соглядатай, ни тиарам,
я всё, что нажил, лишь родству зениц
спешу отдать - от сердца и задаром.
Ведь привкус лжи державной не отбить
вином теологического спора,
а власть, пусть даже книжную, любить
уже не вправе Галилейские озёра...
Доныне ноздреватый ракушняк...
Абрикосы Тарханкута
Оресту К.
А что до дней, где рдеет абрикос,
я вновь окликну Тарханкута лето. -
Давным-давно я слал тебе приветы
туда, где льдиной правил эскимос.
И ты мне письма длинные писал,
покуда с полуострова, с Чукотки
назад не прилетел к Тавриде-тётке,
в свой прежний тарханкутский ареал.
Мы встретились. Я вижу, как сейчас,
твоё авто системы "Запорожец" -
красней, чем "Манифест". И отсвет кожиц
оранжевых плодов не в бровь, а в глаз
влетал сквозь ночь. Я мерил шагом сад
в надежде звук поймать, а то и строчку,
поскольку день я сам, жена и дочка
изничтожали на курортный лад.
За веткой рифмы прятались. Но там,
во тьме, в прохладе так легко дышалось!
Примято-нежный плод, награду-малость
бросала Ак-Мечеть к моим ногам.
И день за днём твой пыльный городок,
райцентр цикад, акаций, Тарханкута,
мешал цикорий и полынь-цикуту,
наперчивая воздуха глоток.
Доныне ноздреватый ракушняк,
желтея над зелёною водою,
рифмуется с былою-молодою
эпистолярной дружбой, скажем так...
А ярко-красный жук из-под колёс
пылит. И метит пеплом расставаний -
ресницы, занавески в окнах зданий,
двор с кошкой на продавленном диване
и кряж, и ствол в колючках, - абрикос...
С видом на море
Татар и Тартара гортанней,
пылает охра берегов.
А плечи полночи - желанней
благоволения богов.
Таврийской ночью на балконе
крепчает красное вино.
Сипит пластинка в патефоне,
жужжжит судьбы веретено.
Воркует Клава ли Шульженко
иль округляет зычно рот
в правах богатых пораженка
Русланова полков и рот? -
Поют. И на балконе снова
так молоды отец и мать!
Но не разнять мне губ для слова,
не дотянуться, чтоб обнять...
А лишь вдыхаю воздух чёрный,
во сне к перилам наклонясь,
и вижу с высоты дозорной
сквозь кипарис мелкоузорный
слоистых гор водобоязнь.
Удары волн и ласки пены
отломят от подножья шмат.
Но выше, вдоль речушки-вены,
на полном вдохе Ойкумены,
парит - полвека без измены -
в ночи белеющий фасад...
Родимые до вздрога лица. -
Она тонка и мощен он.
И снится дом с балконом.- Длится
догалилеева страница,
столпов парящих небылица -
балясины, слоны колонн.
Вдыхая йод полупросохшей сети...
Из "Кавказских песен"
4. Ловля
И Геленджик зелёными глазами
глядит на розовеющий причал,
где чайки с крючковатыми носами
колючим южным голосом кричат.
И светят мелом сквозь инжира ветви
рассветные лачуги рыбаков,
вдыхая йод полупросохшей сети
с ячейками аттических веков.
Ясона ради, ясной были ради,
над вёслами восстав во весь росток,
мой здешний кореш, Шурик Андреади,
о чём-то помня, смотрит на восток.
Там солнце над горою разгорелось,
как три тысячелетия назад,
когда Ясона молодость и смелость
вела корабль в Колхиду наугад,
когда на сломе бури-панихиды,
с утра, вдоль бронзовеющей руки,
клевала та же глупая ставрида
на голые блестящие крюки…
За что же смят дубовой балкой кормчий,
промчавший вдоль опасных берегов
в удаче мимолётных полномочий
корабль-бессмертник, парусник «Арго»? -
Не зря вчера под вечер, холодея,
вдруг стал насквозь зелёным солнца глаз,
как будто бы волшебница Медея
взметнула пасс над Понтом ещё раз,
являя - всем изменам! - месть Колхиды,
возмездие, судьбу-ворожею…
Греби же, малый! – Мимо Атлантиды
и Родоса спешит косяк ставриды,
и лодку сносит в гиблую струю…
5. Времена винограда
Л. и В.
Помнишь, Лёвка, Кабардинку
на кавказском берегу? -
Я цветную ту картинку
оживлю на всём бегу:
в сентябре вода прохладна,
и посёлок тот - дыра.
Но бурлива и всеядна
юность, бедности сестра.
Два десятка студиозов
у подножия горы
ищут счастья под наркозом
мандаринной кожуры,
где на грядах винограда
длятся сборы пино-гри,
и сплетаются в шарады
мон ами и мон шери,
где и Шурик Андреади,
местный кабардинский грек,
словно тенор на эстраде -
горделивый человек...
Источают лавры мирро
в чёрной полночи двора.
Пахнет каплею эфира
медицинская сестра.
И крахмал её халата
ясно светится впотьмах
где-то там, в пустых когда-то
санаторных теремах.
Раз-другой крутнёшь пластинку -
и несметной уймы лет,
пролетевших под сурдинку,
словно не было и нет.
Стёклышки калейдоскопа,
дрянь - картонная труба.
Но встряхнёшь глазок циклопа -
и с орехами арба
снова грюкнет у подножья
барбарисовой горы,
и блеснёт дельфина кожа
на параболе игры.
Помнишь, нашим был когда-то
край - не месяц и не крест? -
Рай советского муската
и фанерная палата
с белизной крыла-халата,
с милосердием невест...
Был меченосец ал...
Аквариум
Аквариум-реликт, хромой велосипед -
фрагменты навсегда расколотого быта.
И всё ж, доколе жив в предметах дух примет,
выходит, что опять лицо юнца умыто
водою ледяной из кухонной трубы,
что в шею, как стрельца, его толкает утро
и тащит на урок, где досками судьбы
чернеют крышки парт, где Марь-Иванна мудро
спускает с круглых губ квадратные слова,
и вязнут в краске рта пустых сентенций мухи...
По логике вещей, боюсь, она права.
Но прав и прежний я, стрельцова голова, -
в побеге напролом, в своём бунтарском духе.
Аквариум, где нет переднего стекла,
по меньшей мере ждёт упоминанья в тексте.
Вода его пространств неслышно утекла
вдоль стыка плоскостей, в стандартно-слабом месте.
Ручьи же тех времён, Зеркальною струёй
в тональности весны в Красногвардейском сквере
сбегая на асфальт разбито-разбитной,
ещё журчат о том, что каждому – по вере…
Что было в той воде, всплеснётся и теперь,
пускай, чуть погодя, но булькнет неуклонно
рыбёшка-телескоп, - золототелый зверь,-
похожая на гроздь, на квитку, на дракона.
Был меченосец ал… И птичье молоко,
похоже, я допил, хоть не доплыл на остров.
Аквариум сквозит ребристостью «Арго» -
не на плаву его, из оцинковки, остов.
А всё же цел каркас! И надо понимать -
зеркальных полон вод сей параллелепипед,
где отражён в стекле отец... И разом мать -
анфас его живой и зыбкий профиль видит.
Парит валлийский голубой песчаник...
* * *
Межзвёздные зарубки знойной Гизы -
три пирамиды и безносый сфинкс -
не требуют ни скуки экспертизы,
ни тления зрачков идеи-фикс.
Пришельцы, проходимцы ли, пройдохи? -
Какая разница для тех, кто день за днём
клюёт со здешней почвы зёрна-крохи
и местным пробавляется вином?
Но для немногих, кто во сне генома
длит до сих пор скитальческую знать,
смешны резоны книжника и гнома.
Мы знаем больше, чем достойны знать...
* * *
Отстранённо-властительно смотрит в лицо нам природа:
видит ум углекопа, пропахший солярой астрал -
территорию пагубы, девять кругов без исхода...
Всё, о чём ещё царь Соломон на кольце написал.
Для того и в патентном бюро скрипка-цыпка Айнштайна
доказала припев о реальности мнимых корней,
чтоб над плоским пейзажем догадка росла вертикально:
умирать надо подлинней, чтобы воскреснуть верней!
Время целит в зеро, добавляя азарта вращенью.
Но энергия третьего глаза сквозь полночь ведёт
неопознанный след, однострочное стихотворенье,
чередуя, как точку, тире: рифмоплёт, звездолёт...
Левитация
О, Стоунхенджа кельт с десницей-культей!
Кровит до сей поры твоя рука...
Лишь в каменном тысячетонном культе -
планида благодатна, смерть легка.
Изрублен травник-кельт металлом сакса,
но в прорези-проломы зрит друид,
как неизбежно малость параллакса
караты философии гранит.
Парит валлийский голубой песчаник.
Живёт во лбу друидова душа.
Висячий камень, Мерлин и печальник,
родительного взыщет падежа.
Священных листьев скомканы картинки,
скворечник сброшен и в щепу разбит.
Но вдохновеньем полнятся поминки -
и в колкий воздух певчий зверь волынки
легко возносит неподъёмность плит.
Из "Кавказских песен"
1. Альпинист
Камень-Каин, сколы-грани...
Тих и мёртв Снежнейший барс.
Горный ангел Хергиани
оступился только раз.
Вниз неслось, на скалы, тело.
А душа на полпути
ввысь рванулась. - И взлетела...
Чтобы всё-таки взойти!
2. Гроза в предгорье
На грудь, на душу полстакана водки
плеснёт электризованный апрель. -
Полночная гроза в Железноводске,
царицыного парка чёрный хмель.
Нарост горы над старостью равнины -
как бы земной переболевший глаз.
Край Шамиля, опасный и картинный,
седлом и местью пахнущий Кавказ.
Огромен и безумно-фиолетов
разрыв изнемогающих небес.
Над грядкой куполов и минаретов
размашист молний кесарев разрез.
И ливень тёмен, как лицо горянки,
когда мужскому делу дележа
кладёт конец в гортанной перебранке
стремительность фамильного ножа.
В насквозь промокщей ливневой рубахе
втолкнут в приют курятника меня
враждебных теней кислые папахи,
зигзаги вертикального огня.
И там всю ночь, сквозь сна и спирта зелье,
мне будут резать слух, колоть глаза
гремучей крыши ярость и веселье...-
Арба, Армагеддона небеса.
А утром - тихо, сыро. Априори
размыты ненадёжные предгорья.
И синий ствол так напряжён в руке,
как дрожь струны во вздоре-разговоре
на русском бы, казалось, языке...
3. Торговля
В южном воздухе вызрел гранат,
кровник яхонта, лала собрат,
для ума и для сердца полезный.
Густорозовый колер в плоды
из рудой просочился руды,
из подпочвенной жилы железной.
В южном городе - цокот и гам,
на базаре - Шанхай и Сиам,
и Багдад в разноцветье удачи!
Источая торгашеский зуд,
мятой розой червонцы цветут,
усмехаясь над медною сдачей.
В южном зное зернистый гранат
продаётся по пять пятьдесят -
по цене не для нашего брата.
И, начертан барыжьей рукой,
завлекает анапест такой:
"Очень вкусная! Фрукта граната!"
Торговые ряды с названием Благбаз...
Благовещенский базар в Харькове
Ещё и в октябре цементные прилавки,
торговые ряды с названием Благбаз,
не гасят колеров воскресной ранней давки
и хмелем бьют в ноздрю, и цветом брызжут в глаз.
И в сини октября приезжие казахи,
на выбритые лбы надвинув малахай,
бараньи кожухи набросив на рубахи,
улыбками зовут в плодоносящий рай.
Они забыли вкус ордынского булата,
но веют и конём, и степью за версту.
Их яблоки крепки, как зубы азиата,
округло-золоты, как груди жён Бату.
Там, где плоды свежи, как воздух Алатао,
и льдистою водой до хруста вспоены,
там, за снегами гор, большие земли Мао
о рисовых пирах цветные видят сны...
Но до Алма-Аты ещё с полмира поле:
железом Джезказган, углём Караганда -
гремят. И - красный внук злато-ордынской воли -
на жёлтой Сыр-Дарье дымит Кызыл-Орда.
И вновь стада кобыл, носительниц кумыса,
пылят, и пыль сладка кочующей душе.
Промчат они Джамбул, ворота в стан киргиза,
проскачут Мынарал на рвотном Балхаше.
И вот, когда табун к подножью Алатао
примчится, раскалясь тюльпанами ноздрей,
обобранных садов пожухлые заставы
вернут меня опять на рынок в октябре,
где снова я стою у россыпи прилавка,
за миг промчась зрачком по смуглым временам,
где вновь к стене ларька худая жмётся шавка,
улыбкою прикрыв бродяжничества срам.
Здесь снова - тмина дух из огуречных кадок,
и от капустных груд уже кряхтит земля.
А перец - то пекуч, то крупно-ал и сладок.
И кипень хризантем - за штуку два рубля...
И над огнём хурмы - кавказца клюв орлиный,
иссиня-вороной, отважно-хитрый глаз.
И впору поспешать из Азии полынной
туда, где из теснин взлетает ввысь Кавказ!
Разносчик пахлавы, как бы хормейстер ос...
* * *
Разносчик пахлавы, как бы хормейстер ос,
вдоль броуновских струй амброзии снующих,
хромает. – Пехлеван на левый бок чуть кос,
являя вещь в себе и смесь упорно сущих
ухваток и примет. Сей тщательный торгаш,
с татарскою уздой в узбекистанском взоре,
меняет день за днём, полней, чем баш на баш,
свой танец трудовой на гульбища у моря –
на краткий кайф чужой, на чмоканье в устах
инжира и халвы, цуката и щербета.
Снуёт разносчик яств за совесть и за страх.
Исламские глаза – вернейшая примета
того, что курултай ни джина, ни вина
не пустит на порог, смакуя чай зелёный.
Почтенье, Тохтамыш! И всё же я до дна
допью и в этот раз гранчак свой забубённый,
чтоб снова семь ночей таврийский Карабах,
мой Чёрный вертоград, соратник и подельник, -
с улыбкою в глазах, с портвейном на губах, -
твердил мне, что не гость я здесь и не бездельник,
а самый твёрдый знак сих вавилонских мест,
живимых и моей, и басурманской кровью…
Вино здесь не пьянит. Уснуть под шёпот звезд,
под ровный выдох-вдох украденных невест,
под волхвованье волн, прильнувших к изголовью…
Ибо в дате обугленной - цифры, как прежде, на страже...
Эон
Эта хрень-дребедень, пустяковый предмет из самшита,
минарета подобье, игольница "память Кавказа"...
Донце цацки пропало, и всё, что вручную прошито,
всё, что вышито крестиком, вышло в тираж по три раза.
Над самшитовой штучкой токарный резец постарался,
и кустарь-выжигальщик в морском, с кипарисом, пейзаже
на полвека курортным приветом под лаком остался,
ибо в дате обугленной - цифры, как прежде, на страже.
Знал бы прикуп, так жил бы в самшитовом городе Сочи
или в Хосте бамбуковой, в веерно-пальмовой Гагре.
Но не нам с тобой, брат, усмехается код многоточий.
Мало алчи во взоре - кукуй на какой-нибудь Пахре
да на Лопани-Нетечи... Шапка ворюжья - призванье!
В харю харк ли, харчок - по-домашнему, походя, мельком.
О пропащий мой друже! Ты помнишь: мы знали заранье
про муку в том колхозе, где Хроносом кличется мельник.
Благо, жив подмастерье Эон, юноглазое время,
цел Эон, бесконечно готовый делиться на части! -
Меж вчерашним и завтрашним стык, вертикаль надо всеми,
кто не втиснут в расхожее горизонтальное счастье...
Безделушка, из века-облома осколок самшита!
Некий случай склепал нас синхронно. И смутная дата -
вереница имён...
Убаюканы, в кокон зашиты,
всё смеются, как летний Эол, как Эон,
как когда-то...
Как славно улыбается собака...
- Лада
Как славно улыбается собака,
восточно-европейская овчарка!
Хоть эта раса очень схожа с волком,
и морды их - ну, на одно лицо...
Как честно улыбается собака,
чистейшего чепрачного окраса, -
приветливая преданная Лада
на стройных золотящихся ногах!
Как умно улыбается собака,
с клыков язык потешно свесив набок!
Её глаза доверием лучатся
и многое умеют говорить...
И сказано в глазах: "Я понимаю
не только "фас", "апорт", "вперёд" и "рядом".
Мне ведомо и большее - иное...
Но главное, я очень вас люблю!
А ведома мне времени жестокость -
всего десяток лет живут собаки.
И хворую дряхлеющую суку
хозяевам в квартире не стерпеть.
И потому приходит мрачный доктор
и в душном "чёрном вороне" казённом
смердящую от хвори животину
увозит - по науке усыплять...
Как верно то, что в школе будут дети,
к которым я за долгий век привыкла.
И ваш укол в бедро иглой гуманной -
бесспорно мудр...
Я очень вас люблю."
- Пастух
Пёс бело-рыжий по имени Норд -
нету на свете приветливей морд.
Колли шотландский, овечий пастух,
горного луга улыбчивый дух.
Звонки служивого лая слова.
Красно-зелёная клетка жива,
ведь на дубовой осенней горе
красно-зелёное - в спелой поре!
А под другою, еловой, горой
скачет на лошади дерзкий Роб Рой.
Он благородный разбойник. И он -
смелая явь, ибо смерть - только сон.
Ворон-бродяга уселся на ель,
в узком ручье проблеснула форель.
Колли, рачительный пастырь-отец,
в купу сгоняет вечерних овец.
Смерклось. Свобода - чиста, холодна.
Клетчатым пледом укрыта страна.
Сонное стадо сползает с горы.
Очи овчарки. Созвездий миры.
Мануфактура "Дружба" из Китая...
* * *
Мануфактура "Дружба" из Китая:
ярлык - багров, бела шестёрка литер.
Как чинно я обновку примеряю,
протискивая лоб в шанхайский свитер!
Мне внятны тех палеозоев даты,
но красок нету у тогдашних шмоток
и формы нет. Клочки бесцветной ваты,
наброски граждан, абрисы сексоток,
сквозняк несёт на Площадь, где огромный
портрет тирана врёт, как лучше стала
и веселее жизнь долины ровной...
И парой глаз из серого металла,
зрачков гадючьих, гонит он в дорогу
свой люд, в одежде неизменно-серой.
А если нечто снизу брезжит Богу -
лишь алый всплеск тряпицы пионера.
Я всё-таки там жив! И мак на шее
узлом неровным к празднику повязан.
И ни былым, ни будущим клише я
крамольной верой в колер не обязан.
Я цвет ищу, чтоб сделать сказку былью.
И веря вертикалям нашим взлётным,
лиловый негр нам подаёт мантилью,
и жёлтый Мао свитер "Дружба" шлёт нам
В сердце родную-горячую тычет иголку...
Вспоминая Клюева
Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.
Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.
Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?
Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.
Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарою,
штофом залью на душе красногривую смуту.
Зиму бы пробедовать без большого пожара…
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара…
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!
* * *
Собор, огромный, чёрный, в зимнем Лунде!
За что твой абрис помню и люблю?
За то ли, что, - без лишних слов, по сути, -
я путь всё тот же, неизбежный, длю,
за годом - год, за шагом - полстолетья,
связуя с непрерывностью пунктир,
неловко тычась в мировые сети,
толкаясь красной буквицей в эфир?
И не за то ль, что, слепленный отважно
по Отчему подобью пешеход,
дороге друг я, - порассыпав брашна,
она меня в Сочельник приведёт
к заснеженному шведскому порогу? -
Скрипит камнями башен Лунд-чернец
в морозной тьме и посвящает Богу
зажжённых свечек Праздничный венец.
В громадном стылом храме пахнет хвоей,
мерцает в яслях сено Рождества,
и свечек огнеглазье золотое
являет дух живого существа.
Но вдруг средь стыни, - зноем-отголоском, -
настигнет стук стального молотка,
как бы взметнув над гиблым перекрёстком,
в пространстве, ставшем на секунду плоским,
чад гарпии, угар еретика...
Из "Ночных стихов"
Роща
Тот август - наш, где молодость и ветер
смеются, обнимаясь на бегу,
где дремлет академик Кёппен Петер
под камнем на высоком берегу.
Скорей! - Уже над рощей кипарисной
стремительно темнеют небеса,
и светляково, ласково-капризно,
сияют и зовут твои глаза.
Скорей! - Пока полмесяца не встало
из-за турецкой пристальной воды,
укроем встречи тайное начало
от синей мусульманской бороды.
И над щербатой ветхою плитою,
над тем, кто эту рощу посадил,
кто побережье Рейна золотое
на терпкий караимский Крым сменил,
над прахом, обрусевшим и сановным, -
опять родимся и умрём опять!
И возвратим себя друг другу снова,
пока луне - не время засиять...
Скорей! - Средь кипарисной укоризны,
средь хвой, не гаснет смелость смуглых тел.
А чинный дух... Да вспомнит он о жизни,
когда с тоски на Рейн не улетел.
* * *
Акулы спали...
М.Ф.
Акулы спят, наждачные катраны,
не черноморском пригурзуфском дне.
Светясь в воде, отважно-первозданно
нагое совершенство льнёт ко мне.
В крещендо стонет нимфа молодая,
а я её Джалитою зову
нездешней-некрещённой, ибо знаю,
что более во сне, чем наяву
певучее безумие творится...
И знаю, что потом, при свете дня,
не сможет взвиться той же нотой жрица,
священница любовного огня.
Стихи есть волн языческая вера,
а плоть чиста при свете тёмных вод.
И сменщик мой по эллингу, Валера,
от щедрости полночного Гомера,
клок паруса двум эллинам несёт...
Двор, полночь, юг...
* * *
Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья -
табак, горчащий нежностью нежданно...
В султанах, от луны и лампы тени,
на мел лачуги брошенные странно,
сплетаются причерноморской страстью
в любовные обманы-чародейства.
А лоз июльских пальцы и запястья
всё тянутся к белёным стенам детства,
где ничего - не поздно, не зазорно,
ни в брызги, ни в осколки не разбито,
где золотятся виноградин зёрна
сквозь мякоть, как зеницы неофита...
Уснула в доме Оля-оленёнок,
дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.
Слой кафкианской ночи Каффы тонок,
где - бархатцы, где сам я, байстрючонок,
пью пай свой меж хозяек лунолицых...
Скандинавский триптих
Прощание со Стокгольмом
Ночной пролив - бурливо, пьяно.
Декабрьский снег - обманно, скользко.
Ау, "Тратториа Романа"
у самых вод Губы Стокгольмской!
На севере - почти ничейном -
белеет скатерть одалиской.
Салют проперченным харчевням
с горячей снедью италийской!
Салют, Италия, - под боком
и Хельсинки, и Петербурга!
В проливе чёрном и глубоком
гребец байдаркой правил юрко.
Он бил веслом в рисковой силе
там, у моста, вразрез теченью,
когда, озябнув, мы входили
с приятелем в тепло харчевни,
где шмат ягнятины невинной
в багряном соусе томится,
где, - с этикеткой соколиной, -
стройна бутылка, как певица,
поющая "Салют а тутти,
кари амиччи итальяни!"
Светился юг - в балтийской мути
и пел - в нордическом тумане...
О, хмель смешенья и доверья! -
Романский привкус, пряно-острый,
и в десяти шагах, за дверью, -
варяжский чёрно-белый остров...
Так я со Швецией простился,
"воляре" внемля и "кантаре".
А викинг на челне всё бился, -
в разлёте брызг и в жарком паре, -
с ударом струй, с дикарством тяги
к напору, к риску и смятенью...
Греби же, брат! Мужи в риксдаге
клянутся Одиновой тенью.
Рождество в Лунде
Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.
Неделя Рождества – и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.
Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье “Вифлеемская звезда” –
живой огонь, берущий за живое…
И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –
с рождественской свечою и цветком
за каждою оконной рамой Лунда…
И в воздухе – то чёрном, то цветном –
не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.
Пролив Каттегат
Зимний ливень, сплошной, беспросветный,
хлещет, словно пришёл навсегда.
Ёрник-Йорик и Гамлет мой бледный,
время - очень большая вода!
Время водоворотом свернётся
в штопор-кукиш и тут же - в цветок.
Или в парус дыханьем толкнётся,
чтоб челнок ободрить на чуток.
И пройду в декабре по проливу,
где на скалах молчит Эльсинор,
где датчанин на шведа бодливо
век за веком взирает в упор.
О, как страстна волна ледяная
в этих холоднооких местах!
Шёл я, зимние воды сминая,
с благодарным теплом на устах.
До сих пор на губах моих оклик
меланхолии той не угас -
грустный Гамлет, усмешливый Йорик,
со свиданием, стало быть, нас!
С повстречаньем, разбойные воды,
бодрый гребень варяжской волны!
Деды-Одины, внуки природы,
бычьи шапки со звоном казны!
Предрожденственский ангел в каюте
копенгагенского корабля
лепетал, золотясь, об уюте,
но в снегах островная земля
за свинцовым проливом белела.
В серый день - лишь на йоту светло,
но двурогий варяг споро-смело
надвигал крутогрудое тело
там, в тумане времён, на весло...
Живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды...
Первый снег
В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли - но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.
Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признанье мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.
Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я - мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...
Инет
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице - контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, - с прорехой в перикарде, -
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением - в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице - фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа -
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
Колыбельная
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике - вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках - и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает - про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз - людоед, самодур.
По сараям - чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам - сёла. Промежду сугробов - кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!
Баллада о "Калашникове"
Проезжая Черкассы, б/у вспоминаю, х/б -
времена гимнастёрки, казённо-линялой холстины.
И батяня комбат из районного ВИА "Любэ"
не жалеет для резкости фейса трёхдневной щетины.
Ты не ври мне, лазутчик, что Родины я не берёг.
Я присягой звенел - с "калашом" на ремне и под стягом!
Жаль, спилась милосердья сестра, и развесистый рог
над могилой героя кустится - торчит над оврагом.
Даже, может быть, жаль, что не сам я в той глине затих,
упокоен гашишем, напалмом и долгом Афгана.
Всё равно не простят мне открыток и писем моих
ни секретный первейший отдел, ни отчизна обмана.
Снится мне, что ограблены напрочь - и голый погост,
и Чертановский, скажем, форпост многолюдного улья,
что в правдивом том сне еле-еле я ноги унёс
от осколка вдогон - лишь глотнув из воронки июля
отворотного зелья - в губительном сорок седьмом,
в окаянном году - лишь глоток первородного света...
Посредь зноя Черкасс впору свянуть душой, и умом,
ибо сохнут черешни и заводм давнего лета. -
Потому прежней радости, как бы ни рвался ты к ней,
как бы к цацкам и пецкам её ни тянулся спросонок,
не зови понапрасну во зле обличительнеых дней,
Красной Армии сивый старлей, павилики ребёнок!
Только детства глаза постаревшее время ведут
без напрасных упрёков и без тормозов малодушья.
Только юность отважными бликами дней и минут
заряжает АК-47, добровольца оружье.
Я за добрую волю с пехотною песней пойду
и, затвор передёрнув, смягчу подорожником рану.
Кто родился в одном с "калашом" неслучайном году,
в светлоглазом и памятью неоскудевшем роду,
помнит по именам - медуницу, лимонницу, Анну...
В зимнем ветре гуляла брага...
* * *
Чёрно-белые псы и сороки
нам дорогу пересекали.
Под февральской корою соки
в полусне лепетали едва ли.
В зимнем ветре гуляла брага,
за Ельцом опять запуржило.
И стремглав неслась колымага -
лошадино-железная жила.
Хорошо б долететь до места,
не сломали бы крыльев сроки -
костяная не спит невеста,
всё слоняется вдоль дороги.
Проскочить бы вдоль поворота
на промёрзлой звенящей шине...
Греет гулкую кровь забота -
колесить с утра по равнине,
по овражной, непокаянной...
Ночью вьюжит, с утра подтает.
На снегу спиной - то ли пьяный,
то ли мёртвый - мужик отдыхает.
И слетает к нему осторожно -
может, ангел, а, может, знахарь -
с чёрно-белой сосны придорожной
ярко-праздничный голубь-вяхирь.
* * *
Издали музыка слышится, с круга катка,
через февральскую влажную тьму пролетая.
Ты мой хранитель, живое крыло у виска,
музыка, муза, невеста моя золотая!
Что бы я делал в покинутой Богом стране,
на ледяном бездорожье ломая копыта,
если бы ты на плечо не слетала ко мне,
музыка, нежная дочь огрубевшего быта?
К чадолюбивому кругу катка доберусь,
вправо на звук повернув по бугристой дороге.
Вот он, стального конька ярко-хромовый хруст,
в белых высоких ботинках девчоночьи ноги…
Дальше иду – снова ноша легка и тиха,
легче богатства залётных и местных абреков.
Здесь, где темно, ты живёшь в ипостаси стиха,
музыка, муза, вернейшая из человеков!
Путь по зиме
Лобовым стеклом тараня
полуночный снегопад,
с былью о пути-тиране
вновь сживаюсь наугад.
Что за прок мне в гиблой гонке
по дороге ледяной -
сон ли мужа о ребёнке,
стон ли стали под сосной?
Неуступчив снег колючий,
но опять я тыщу кил,
не прося подмоги щучьей,
выжму из железных жил.
Правда вскачь - Руси царица,
всадник-ум - советчик наш.
Оттого ль тебе не спится,
мой помятый экипаж?
Оттого ли мы средь мая
по простым цветам земли
Женю, Диму, Николая
на три кладбища снесли?
Я о них, погибших, плачу -
о товарищах моих.
Но нисколько не иначе
кривда бьёт живых под дых.
Кривда - русская дорога,
рвов и рытвин кутерьма,
вседержавная тревога,
жизнь взаймы и задарма.
Есть остаток благородства
в гонке по буграм Руси.
Умирай или юродствуй,
но пощады не проси!
За пургу, за сверхидею...
Вдоль Эльбы
Это Дрезден, это Прага,
островерхие кремли –
там, где брага и отвага
в лоне камня расцвели.
Замки, панцирь-оболочка.
А из окон – злата ток,
словно бы под сердцем квочка
нежит в извести желток.
Спит Флоренция на Эльбе,
воды зимние черны.
Гуще бы в сочельник ель бы!
Вьюги, колкой свежины!
А коль глянет Цахес криво
вдоль саксонского моста –
рядом чешский город-диво,
речи сестрины уста.
О, вдоль Лабы ездки эти
меж заснеженных столиц! –
В обгоняемой карете
экивоки тонких лиц!
Словно кисти и клавиры,
и смычок волосяной
дружат в этой части мира
с разлюбезной стариной.
В чёрный Дрезден, в злату Прагу
мчится пара снежных крыл -
вьюги белую бумагу
Рильке голубем сложил.
И летит вдоль Лабы птица,
вдоль чудес известняка.
В этот лётный путь влюбиться –
право, легче пустяка.
Вот и я, хоть и хирею,
а вовсю гляжу на свет. –
За пургу, за сверхидею
любит жизни ахинею
хореический поэт!
* * *
Будет день, и будет пища,
из кофейника вода
и шершавое жилище
с табуреткой для труда.
В гроб стола рука уложит
юность чёрканых листов,
на которых век умножит,
как всегда, на ноль твой зов.
Там, в бумагах, - буквы только,
закорючки, письмена.
Дню от рифмы нету толка,
нет ни мяса, ни вина.
Есть лишь сыгранная чисто
книжка маленьких сонат:
снег, снегирь, румянец, свисты -
на Сочельник в аккурат.
В сушняке чертополоха
на пригорке ледяном,
снова свищет "Жить не плохо!"
гном, подкрашенный вином.
Подрумяненный кагором
дымный дух, летун-игрун -
жив над пригородом-вором
и честнейших полон струн.
Рдеют яблочные грудки
непогибельных пичуг:
"Жив ли? Жив!" Впрягаясь в сутки,
навостряет слух битюг.
На его косматой морде -
человечья дремлет грусть,
а во лбу белеет орден
за давно отцветший куст.
На бедре его мохнатом
иней крупно-серебрист.
Рдеет надо льдом покатым,
снегиря заглавный атом -
буквица-евангелист...
Вспоминаю тебя, вспоминаю..
Через день, 15 декабря, исполняется 15 лет со дня смерти Бориса Чичибабина.
Хочу ещё раз вспомнить об этом большом и светоносном русском поэте.
Мне дороги годы, дни и часы доброго общения с ним.
Подписывая титулы своих книг или страницы журнальных публикаций, он называл меня другом и единомышленником.
Надеюсь, что в этих щедрых словах была немалая доля его подлинного чувства.
О своём же собственном чувстве могу сказать только одно - остаюсь и до нынешнего дня его любящим и верным другом. Другом и человека по имени Борис Алексеевич Чичибабин, и той редкой поэтической сущности, которую вложил в него Господь и которую он, несмотря на все житейские препятствия и тяготы, сумел выразить ярко, полнозвучно и подлинно.
Помещаю на этой странице несколько своих стихотворений разного времени, обращёных к нему.
В "Лавровой роще" публикую и свой очерк о Борисе Алексеевиче, написанный вскоре после его ухода из жизни.
"Вспоминаю тебя, вспоминаю..."
* * *
Б.Ч.
Окна - в насечках морозных царапин,
время моё, не стыкуясь с весной,
стынет. А только поэт Чичибабин
светлые очи склонил надо мной.
Вот он, как лето, хмельной и весёлый,
вот он, как дерево тощ и сутул.
Воздух гортани волною у мола
гонит густой, пересоленный гул.
Входит, элладолюбивей, чем Гнедич,
пильщик мороженных сталинских дров,
редкая птица, Борис Алексеич,
вещий певун обнищалых дворов.
В тусклые дни, где хана или амба
в двери ломились к любому, кто смел
думать, трубил он табачные ямбы,
горько и гулко о совести пел.
Правдой и выжили детские очи
и узловатого ясеня стать
в зимах, где дыма фабричного клочья
принято небом в стихе называть.
Оклик всевластья глумлив и похабен,
больно - по пальцам доскою дверной.
Но из-под крыльев-бровей Чичибабин
взором летучим искрит надо мной.
Молча летит - повторенья не надо,
Божье своё он строкой рассказал,
скудного времени щедрое чадо...
Щурятся окна вечернего града -
будки-жилища, хоромы-вокзал.
1990
* * *
Б.Ч.
Затем и в родимой тюряге его мордовали,
а после тиранили лямкой батрацкою, нищей,
чтоб нас накормил он, - что прочие могут едва ли, -
хлебами стихов, неподдельной духовною пищей.
Железный турник у забора, занозы сарая,
кормушка на тополе - крохи евангельской птахи.
А там, чуть поодаль, собор, шишаки воздымая,
впускает к иконе убийцу со лбом россомахи.
Вот эта страна, обращённая задницей к свету:
в ней молятся жарко, а тащат друг друга к откосу...
И может быть, мне утешенья доподлинней нету,
чем лагерный дым подрукавной его папиросы.
Он не был святым, но лишь русским живым человеком -
с печалью в лице и с упрямою певчею кровью.
Его предисловие - речь, равносильная рекам,
и длится, и полнится, вслед ему, свет послесловья...
1998
* * *
Б.Ч.
Вспоминаю тебя, вспоминаю
первородный пшеничный твой лоб.
До отказа гранчак наливаю
на скрещенье кладбищенских троп.
Два завета, Матвея и Марка,
разделяет сорочье перо.
Синим пламенем брызгает чарка,
продирая теплынью нутро.
Катит солнце, как прежде, с востока
по дуге великанского дня.
Без упрёка, без звука, без срока
ты, всё тот же, глядишь на меня.
В две щеки, обжигая щетиной,
целовал, словно рифму даря.
Почивал на челе паладина
спело-яблочный свет сентября.
Ты и есть - тот полынный, небесный
рокот, лепет, родной и ничей,
человече, помеченный бездной -
чёрной дыркой меж синих очей.
Князь ромашки, репья и бурьяна,
привечая у стремени гридь,
целованьем, ни поздно, ни рано,
нагадал мне - н а в з л ё т говорить!
Ты и есть - там, у зимнего края,
рать холщовая, пешая знать.
Плеском листьев тебя поминаю:
Божье лето - для птиц благодать...
2005
Терпенье, труд, прямой хребет до гроба...
ТЕВТОНСКИЕ ПЕСНИ
(продолжение)
5. Плющ Померании
Вот плющ германский, отстранивший ересь,-
работник с родословной благородной.
В фундамент кирхи крепко корни въелись,
чтоб стебель сжился с кладкою холодной.
Вот лист тройчатый - жилистый характер
костисто-долговязого тевтона.
Дождь моросит, и в кирху входит патер -
торжественно, как Дух в предверье лона.
Промокший зимний плащ скудельно-зелен.
Атлантики солёные туманы
предсеверным гранитноглазым землям
целят по-свойски рыцарские раны.
Вот зелья соль, тройное заклинанье:
терпенье, труд, прямой хребет до гроба.
На Хайди ли, язычнице, на Ханне -
плащ из плюща, нордическая роба.
И я, - с помором, с Померанской чайкой,
с зарывшейся в песок бродяжьей баржей, -
опять вплываю, вестью неслучайной,
в зрачок сестры прохладной - Эдды Старшей.
6.
* * *
Просторней, солнечней, смуглее
мои наследные края,
но в странном зазеркалье Клее,
скользит меж клевера змея.
От града Нюрнберга до Кёльна
цветна туманов полоса.
Довольно, Грета, о довольно!-
Вино и яд - твои глаза.
Горчит и жжётся, Маргарита,
тобой надпитая судьба.
Реторта и купель разбиты,
и не спасает ворожба.
У острокровельного дома
тропа не в силах повернуть...
Могло случится по-другому,
но в тигле не вскипела ртуть.
Но рыхлый философский камень,
скупой алхимии завет
взметнули только сизый пламень,
не алый, нет. - И чуда нет.
И ты - вдали, ты - чужедушна,
надменные твои уста
нежны сегодня и послушны,
а нет на них любви креста...
И нет крыла на нашей встрече.
Герани Альбрехта красны.
Молись, строптивый человече,
у алтаря чужой страны.
Вдыхай прощальней и смелее
и дождь, и солнце бытия.
Но там, где скошен клевер Клее,
насквозь промокла тень твоя...
7. Пересадка в Хофе
Медвежий заснеженный угол,
Баварская Тмутаракань.
Гранёный - сквозь прозелень - купол,
понтифика медная дань -
чуть слышному веянью Духа
в ничуть не хвастливых краях...
Сочельник - огней заваруха,
нерусской гульбы полувзмах.
Тевтон по надежде и вере
пирует. Что Рейн, а что Майн -
везде карусельные звери
и паром цветущий глювайн.
Везде - окольцованность долгом,
завет-аксиома о том,
что счастье пути будет долгим
над велосипедным седлом!
И я в пересадочном Хофе,
где поезд вот-вот подадут,
под ёлкою выхлебав кофе,
негромко подумаю: "Гут!" -
про этот старательный угол,
что вынянчил в твёрдом труде:
искрящейся патины купол
и Святок малиновый уголь,
трескучий - навстречу Звезде...
Возьми же, мой Цезарь-младенец...
Чуфут-Кале
В семидесятый день за Рамаданом
приходит праздник жертв Курбан-Байрам.
Бахчисарай вернуть бы, зной и гам
туристов, налетевших в гости к ханам.
Сбежать бы от закланий февраля
опять туда – к дворцу под черепицей,
где прошлогодний август золотится,
тропою на Чуфут-Кале пыля.
Там в воздухе синеет кислород,
а на кустах алеет дробь кизила,
там тайнописи медленная сила
меня к пчелиной крепости ведёт.
Отцвёл чертополох, что на ветру
роняет семя у горы пещерной.
И сам я - сивый конь, но споря с серной,
с налёта крепостной откос беру.
Вплотную к небу Тохтамыша дочь
в резном опочивает мавзолее.
Ракушечник, сквозь зелень скал белея,
хранит прозрачность воздуха от порч.
И так просторна, плавна и светла
внизу Бахчисарайская долина,
что не звенит ни стремя, ни стрела,
лишь веет запах кожи от седла,
лишь в ветке тёрна брезжит паутина...
* * *
Свирепая пульсирует отвага,
бурлит, зеленоокая, в исламе.
Каратуман спустился с Карадага,
Карагиреем призванный под знамя.
И стяг зелёный расплескался ярко
над морем, изумрудным после шторма.
Ещё какого, скромница, подарка
захочешь? Жеребцу какого корма?
О чём бы не просила, несмеяна,
получишь всё - не по добру, так силой:
вселенский полумесяц Гирей-хана,
ракушечник с цикадой над могилой...
* * *
М.
Возьми же, мой Цезарь-младенец,
полночный гурзуфский простор!
Я был бы в правах пораженец,
когда б не межзвёздный твой взор.
Блаженно цветут лавровишни,
черёмухи южных земель.
Вдоль Будды, Зевеса и Кришны
струится невидимый хмель -
как общая память о Боге,
как истина в чёрном вине...
Как данность любви и тревоги
в тебе, мой царевич, во мне!
В жилах Цельсия - тридцать мороза...
* * *
С утра побрившись бритвою Оккама,
я повторяю: "Не печалься, мама.
Не плачь ни о себе, ни обо мне..."
То, что к сердечной правде не сводимо,
должно пройти, да и проходит, мимо.
Всё наше, мать, на нашей стороне!
Закваска веры с долей фатализма
для нашего природна организма.
Другие дрожжи в климате дурном
способны зиму выдюжить едва ли...
Пусть о чужом бряцают на кимвале.
Мы настоим, без крика, на своём.
Наш выбор до конца пребудет с нами,
как шапка денег с сучьими сынами.
Лишь тем и буду, кто я вправду есть.
Порезав кожу бритвою Оккама,
не кровь я со скулы смываю, мама. -
Острей и откровенней чую Весть...
Патриарху
Притчи Борхеса, Хорхе Луиса,
плошка риса, полчашки маиса.
И чего тебе больше, бедняк?
Разве склянку зелёного зелья?
Так оно ведь давно не к веселью -
то к депрессии, то аж никак.
Притчи Борхеса, мачо слепого,
золотое кастильское слово,
аргентинской травы серебро.
Парацельса целебная роза...
В жилах Цельсия - тридцать мороза
на равнине, сломавшей ребро.
Здесь, в краю беззаконной развязки,
где из лыка и марли повязки
лешаку и лишенцу - к лицу,
ляпну снега на рваную рану,
в серый полдень пальну из нагана
и на лыжах махну по Донцу...
Карки Цахеса, карлика злого,
исклевали сердечное слово.
Ворон рвёт огневую лису.
Что осталось мне? Хлеба ковригу,
стыд в глазах и о будущем книгу
в конуру на ночь глядя несу.
Притчи Борхеса перечитаю. -
Не витийствуя и не витая
в эмпиреях, мудрец повторит,
что Содом - некритический случай,
если выжил в нём некто живучий -
или праведник, или же лучше:
грешник, но не утративший стыд...
Гармония Германии строга...
ТЕВТОНСКИЕ ПЕСНИ
1. Реформация
У.Г.
Брат-дикобраз, разящий отовсюду
отточенными стрелами словес, -
се Аквинат, се обличитель блуду,
брюхатое предгрозие небес...
И всё же климат мягок. Но на север -
подобны башням Эльбы берега,
и, словно луговой неяркий клевер,
гармония Германии строга.
Здесь, северней, вздымает голос Лютер,
и крепкий ветер рвётся в затхлый храм.
У алтаря скупые слёзы муттер
роняет по нордическим сынам.
Сюда, в обитель мощного органа,
в холодное жилище высоты,
приносит честный немец покаянно
румяные крестьянские цветы.
И я вхожу в их стрельчатые храмы,
чтоб средь суровых стен и витражей
понять вернее их триумф и драму,
гортанность речи, прямизну ножей.
Германия. Ухоженные астры
и ларь дубовый, нажитый трудом.
И пастор, ясноглазый и лобастый,
напоминает мне в беседе частной,
что храм тевтона носит имя Дом.
Воинственны готические крыши,
но воды Эльбы кротки. Берег тих,
там, где в соборе Магдебурга, в нише,
светлеет лик Марии, и всё ближе
к бездонной тишине - прощенья стих.
2. Кведлинбург
Там скупо, пасмурно-тепло
апрель восходит осторожный,
и тучный коршун тяжело
взлетает с груши придорожной.
И чтя воскресный перекур
медноголосием обедни,
всплывает город Кведлинбург,
нетронуто тысячелетний.
Под крапом, охрой черепиц
дубоворёбрые фахверки -
плеяды угловатых птиц,
всегда готовые к поверке,-
укрыли в жилистой душе
седого долга разуменье
о несогбенном палаше,
о грузной Лютеровой тени...
Там, как музейный арбалет,
с прицелом в око иностранца,
строга премудрость, трудность лет
под серой чешуёю сланца.
И замок-бург с крутой горы,
когда-то лютый и богатый,
на смену в правилах игры
глядит теперь подслеповато...
Но солнце, пристальный хирург,
в бельмо вонзает луч летучий. -
И отвечает Кведлинбург:
"Яволь, герр доктор! - Легче, лучше..."
3. Первопечатник
Мой Гутенберг средь инкунабул –
восстал, юпитероподобен...
Апрель с когтистых кровель капал,
и воздух влажен был и сдобен.
Лучи, колокола, валторны
в дрожащие сплетались сети,
и львы из бронзы злато-черной
зевали сладко, словно дети.
Я вновь ступал на землю готта, –
нет, не чужую для России, –
кивая патриарху Отто
и юной предпасхальной сини.
Я вспоминал, что Пасхи праздник
зовется "Остерн" у германца,
и добрый от вина лабазник
мне путь подсказывал до Майнца,
где жил мудрец с главой медвежьей,
с лесною хвойной бородою... –
О, как весною веет свежей
над книжностью его седою!
Ивану Гутенбергу, герру,
спою на Пасху "Аллилуйю".
За человеческую веру,
как в церкви, руку поцелую.
4. Шверин
В платанах Шверинского замка
дробится апрельская трель.
О, дрозд, вдохновитель мой, danke,
пернатый агат, менестрель!
Озёрные серые воды
прильнули к узорам торцов,
и грумы под пышные своды
крутых увели жеребцов.
Хрустит под подошвою гравий,
лекала дорожек чисты.
Никто уклоняться не в праве
от строгости и простоты.
Никто отрекаться не волен
от каменной славы дворца
от сталеплавилен и штолен
и от орденов мертвеца.
Курфюрстовой вольности высверк
за стенами замка уснёт,
зане несгибаемый Бисмарк
в Берлине историю гнёт.
Традиция давящей воли,
железо тевтонских забрал...
Но пахнет апрель лакфиолью,
и плавен озёрный овал.
Но над белокорым платаном,
над лепкою рыцарских звёзд,
умытый шверинским туманом,
о Гретхен, об умнике странном
поёт мефистофельский дрозд...
Когда бы не фатум...
Экскурсы
1.
Любимым вином Николая Второго, Кровавого,
был, ясное дело, массандровский красный портвейн,
покуда царя-угнетателя, в корне неправого,
не взял на цугундер Ульянов, а также Бронштейн.
Первейшим питьём мизантропа и карлика Ленина
являлось германское пиво по имени "Bier".
В музее химерного пира стоит по сей день оно,
прокисшими зенками муторно зыря на мир.
Излюбленным пищепродуктом российского этноса
была и останется водка завода "Кристалл",
вобравшая песенный дух и величие эпоса.
Дружил бы с ней карла - плевать бы в колодец не стал...
Бывает, уважу и то, и другое, и третье я,
но спать не ложусь - посвящаю эпохе стихи.
Столетью на смену подкралось ли тысячелетие,
а песни всё те же: не вОроны, так петухи...
Любимым притопом для Пушкина, милого бражника,
остался бодрящий, народного норова, ямб.
Тирана клеймил, но плезиру царёва бумажника
был верен. О, если б не рок, не красавица-вамп!
Когда бы не фатум, Николу бы чадолюбивого
Урал не урыл бы, не клюнул бы пулей в висок,
и, дети полка, мы не грызли бы локтя бодливого,
а пО небу плыли, легко и бесспорно, - меж строк...
2.
Когда б не Шекспир, очернивший реального Макбета,
звучал бы совсем уж по-русски ямбический стих,
где мценская леди Измайлова, - долго ли бабе-то? -
призналась бы в смертоубийстве от сих и до сих
под грузом улик. - В покушеньи на крепость постылую,
во взрывчатой похоти-дури, царице-страстей...
Когда б не Шекспир с островною ухватистой силою,
с его первородным инстинктом единства частей,
глядишь, не чудил бы Раскольников Родя с топориком,
не рушил процентщицу да на её же сундук,
не брёл бы Булгаков московским нечёсанным двориком,
калитку бы не отворял на нетутошний стук...
И всяк бы иначе копьём потрясал, и на паперти
другая б чернела старуха с клюкой в кулаке,
когда б не Шекспир, упокоенный в города Стратфорде,
в родном захолустье на медленной Эйвон-реке...
При дороге
В 33-ем году на икону
положили, младенца, тебя
и у шляха полынному лону
возвратили… Уже не скорбя…
Ибо мать и сестра не вставали,
батьку в глину свезли, за овраг,
и все хаты давно порубали
на баланду костлявых собак.
Положили тебя в придорожье,
в слобожанской солёной пыли,
чтоб Господь и случайный прохожий
над тобою склониться могли,
чтоб седая душа Украины
над тобой зарыдала на миг,
неповинно казнённому сыну
заглянув в нерассказанный лик…
Небом правишь ли, кривда земная?
Средь степи, в людоедском году,
cмотрит с л е п о Мария н е м а я.
Поднимаю дитя, поднимаю -
и по веку, г л у х о м у, иду…
Вот и затеплю цветка золотник...
* * *
Мелких куплю хризантем на продрогшем базаре,
белых и жёлтых возьму за доступную цену.
Глуше, темнее ноябрь. И в багряной гитаре
смолк листопад, не простивший тумана измену.
Вот уж и снег приходил. На асфальт до рассвета
сыпал колючею манной, сухою крупою.
Отроду в долг не беру, не приму и совета,
как зимовать-куковать да смиряться с собою,
с исчезновением птиц на ограбленных ветках,
с мутью во взоре торговцев, хороших и разных...
Коль и оставлю я что-то в коротких заметках -
долгие льды и снега перегонов опасных
меж А и В разбиенной на части отчизны,
меж крепостями железолюбивой державы...
Жменю цветов сам себе принесу - не для тризны
за упокой, но для страсти, живой моложавой -
стебель полынный размять и вдохнуть среди стужи...
Выгнулась мёрзлая тьма от Яги до Солохи. -
Вот и затеплю цветка золотник. И к тому же:
крепнет созвучье речей о несдавшемся муже
с речью об отроке, спасшемся в чертополохе...
* * *
Б. Чичибабину
То были дни, когда в кафе „Болонья”
входили два ещё живых поэта.
Один из них – давно в нездешнем лоне.
Несут его черниговские кони
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.
То были дни, когда в шинок, на стыке
Студенческой и Пушки, забредали
на пару мы, книголюбиволики,
тревожнооки, бражники-музЫки,
на ангелов похожие едва ли.
Он все глядит, задумчивая птица,
в предзимье том на огневые ветки.
И он – средь тех, кто мне доныне снится,
среди троих... Строга его зеница,
чиста, как подвиг первой пятилетки.
На сердце смуту и целим, и множим
изломом слова, неизломом духа.
В кургузом рабстве пелось о хорошем.
А что споёшь сегодняшним, небожьим,
добытчикам – с плечами, но без слуха?
То были дни без алчи, дни иные.
Скользят сквозь осень золотые звери.
Он курит у окна, и у стены я
молчу о том, что мытари земные
пришли за нами. И ломают двери...
Три сказки
1.
Алёнушка с обёртки шоколада,
кровинка космонавта Андриана,
глазами просит братца: "Пить не надо! -
Ни клятвы с губ, ни ржавчины из крана..."
Президиум-призвездиум поднимет
мартышечьи пергаментные лапы -
и из камней Афгана душу вынет,
и выморит Советы тихой сапой.
Сверчков запечных вытравит мобила
болтливою магнитною волною.
А в кротости ягнят сгустится сила,
чтоб агнец повторял вослед за мною
слова всё той же к Пастырю молитвы:
"Дай сна и яви на продленьи вдоха!
Зажги ешё над чернозёмом битвы
малиновый вихор чертополоха!"
Ещё кружит орбитой над планидой
майор Титов с улыбкой светло-честной,
но в местности, копытами изрытой,
нет Германа - и там темно и тесно.
И ты, Ванюша, подколодной ямки
не тронь - не пей из козьего копытца!
Нам, пасынкам кривоколенной мамки,
нельзя до срока правдой подавиться.
Алёнушка фольгою серебристой
шуршит, ловя губами невесомость
и, кажется, ещё лепечет: "Выстой!"
Но из суда, с амнистией "по чистой",
опять выходят: "разум, честь и совесть"...
2.
Летит над тёплой мальвою малява.
Малюй себе, Мальвинушка, малюй!
А ты, Морозов Павлик, птица-пава,
в бессмертье левой-правой маршируй.
Кружит вдогон за майской каруселью
фартовый, весь в наколках, мотылёк.
Подзуживает зюйд к питью-веселью,
и в мак макает кисточку восток.
Как семя, всепрощенье расплескалось.
Летай, Мальвина, в воздухе рисуй! -
Любовников-стрекоз искренье-малость
большим карандашом живописуй.
А тот малец с пропащими глазами
ни кумачом, ничем не виноват!
Не с Каином сморозилось, но с нами,
сегодня - как все тыщи лет назад.
3.
НапилАсь луна, свалилась зА гору.
Правит жажда неба на Руси.
Пьют планеты заполночь и загодя,
влёт, навскидку, Ньютоне, спаси!
НА гору опять вползла опухлая,
календарь забывшая луна -
стёртая, как рифмы из Апухтина,
стрёмная, как день Бородина.
Глядя ввысь, и я глотком не брезгую.
Но сейчас волнуюсь: самолёт
выпивши летит - железо резвое...
Вдруг луну он, тоже малотрезвую,
вдруг крылом с мигалкой зашибёт!
Блаженна протяжная, лучше по снегу, дорога...
* * *
Ты - всё ещё отрок, войти не умеющий в фальшь,
и в ямке грудины по-прежнему ноет тревога.
Бездарна отрывистость окрика "Фас!" или "Марш!"
Блаженна протяжная, лучше по снегу, дорога...
Стал голос твой твёрже, а почерк острее, когда
ты понял вполне, что бежать от себя невозможно.
Иглой ледяною снабдили тебя города
для поиска звёзд - внутривенно, а также подкожно.
Каким ни спешил бы путём - возвратишься к себе.
В конце виража - обретенье осевшего дома.
А соль на щеке или привкус тепла на губе
нисколько не смажут сугробной черты окоёма.
Каким ни скользи гололёдом - придёшь до Суда
туда, где тебя отдадут твоему лишь закону,
где тени сквозят, как плоды крепостного труда,
где белую кроличью шапку кровавит звезда -
живая, как птица, припавшая к снежному лону...
* * *
Коля Дмитриев... Снежная хвоя,
подмосковной Малеевки сосны.
Там под ветками нас только двое
средь отчизны, трескуче-морозной.
Да и надо ль иного нам ляда,
летнеглазый мой Зимний Никола?
Кроме звука минутного лада
посредь смуты, разлома-раскола?
Пропоёшь ли, просвищешь ли чище
иль пропьёшь соловьиное право?
"Крепко дружат стихи и винище,
две наследных российских отравы..."
Светит в сумерках зимняя Руса
сребророзовым неба исподом.
Русь-снегурка! Снегирь твой и муза -
всё бездомней снуют пред исходом...
И кора сосняка на закате
то ли кровью искрит, то ли медью...
Коля, братец! Крестовые братья -
не Петровой захлёстнуты сетью.
Чуешь ли? Это ведь трудное благо - услышать...
* * *
Слышишь, мелодию плавно и точно выводит
тот, у кого это клеется, - лабух ли гений?
Cлышишь, всегда недовольное время уходит?
С шорохом прячется в ворох кленовый осенний...
Чуешь ли? Это ведь трудное благо - услышать
даже себя самого, даже кроткого брата.
Дышит простуженно осень. А светит ли выжить -
знает лишь очень большого умища палата.
Рядом с палатою мер и весов, по соседству
с будкой-киоском, с ларьком всенародно-всеядным,
рушатся с ходу на цель беспородные средства,
свет разжижается в воздухе чёрном, бесплатном.
Мокрых огней и промозглого вечера гамма -
вряд ли уступит в живучести золоту-сини.
Темень ломая, в разломе царит панорама,
магний дуги, магнетизм неопознанных линий.
Это мелодию, дудку строгая, выводит
кроткого отрока никелированый ножик,
это иглу прямо в мышцу сердечную вводит
скорая помощь созвучий, досель невозможных...
* * *
Две сойки прилетают в сад -
летят на сладость виноградин.
Земле скудеющей отраден
их перьев радужный наряд.
Слоится веером крыло,
искрит лазурною полоской
над жухлой осенью неброской,
едва хранящею тепло.
И пряно пахнет палый лист
в готовой для кострища куче,
и еле слышно лист падучий
летит, шурша о ветви, вниз.
Густеет лиственный настой.
Вобрав скупых лучей истому,
сияют мошки невесомо
над свежевскопанной грядой.
* * *
Стрижи и жеребёнок-стригунок -
по грудь, по губы в травостое лета.
Как бестолков и короток урок!
Сметает ветер лепестки ответа.
Неужто впрямь гаданьем по цветку
ромашковые заросли когда-то
тебя манили? Гулкое "ку-ку"
сулило щедро и врало богато.
И сникло всё, бесследно так ушло,
бесстыдно так, непоправимо быстро,
как будто погорелое село
покрылось чащей лешего-магистра.
Так цепкой всё опуталось травой!
Ни ласточек, ни жеребёнка-цацы...
И чуять больно день над головой,
и трудно из сырой земли подняться...
Белый болид белладонных полей...
Над Партенитской бухтой
Праздник - пузырчатая изабелла.
Август - таврическое божоле.
К Спасу Медовому бражка поспела
и усмехается навеселе.
Полночь вздымает Галактики дуги.
Звёздного купола арочный взмах
выгнут, как смуглое тело подруги -
в опийных, где-то на юге, полях.
Воздух пропитан вином и виною,
лёгок крепчайший настой тишины.
Чёрною и самоцветной волною
в бухту спешат первобытные сны.
О, Партенит, совершенство узора!
Спит Аю-Даг, захмелевший старлей.
Падает роза на лапу дозора -
белый болид белладонных полей...
Плато
Есть крепость Каламита в Инкермане
на пьедестале известковых скал.
Когда-то я в Завете и Коране
об этой вещей пустоши читал.
Внизу ютится скомканно, убого
Климентовский могильный монастырь.
Гремит железный поезд - мимо Бога,
и едок кельи выдох-нашатырь.
Но наверху, средь башен и развалин,
средь белых глыб, усыпавших плато,
стоит июль, безмолвно гениален
и Божьим словом полон на все сто.
И мириады веретён-улиток,
усеяв каждый стебель травяной,
прядут своё, свивая некий свиток,
неисчислимы, как перед войной.
Так близко небо! Камни под ногами,
разбитые надгробья и кресты, -
в оплёте трав. И мощными кругами
очерчен купол синей высоты.
Весь день - ни человека, ни пичуги.
И лишь в каменоломне - ор орды
бродяжьей: хохот хама, визг подруги -
погибель накликающие звуки
по-над смарагдом почвенной воды...
Зимний блюз
Вот так и назначено петь - недолёт, перелёт.
И кровь воробья, перья-рёбрышки посередине.
А ворона сканер нас во поле диком найдёт,
хоть, правду сказать, нас давно уже нет и в помине.
Глазищами светишься, песни рифмуешь про бар,
про рыжего пса и готических терний наколку.
Кода-то и я на скамейке хлебал "Солнцедар",
не друг ни себе самому, ни тамбовскому волку.
В глазах - не контактные линзы, но блюза укор,
минора декор, словно латка на джинсах дерюжных.
Когда-то и сам я втянулся в пустяк-разговор -
в сей блюзовый ритм никому, даже даром, не нужных.
Вот так и судилось дышать - перехлёст, передоз,
расплата отца и раскаянье блудного сына.
Вколи же мне в вену твой ломкий неверный мороз,
худышка-сестра, мироносица доз кофеина!
И тщится пережить вражину-зиму...
Пейзаж с весами
Шуршат ворОны жухлою листвой,
и под рябиной, смертно-огневой,
белеют снега нищенские горсти.
Зима идёт. А с нею снова гости -
свои чингизы со своей уздой...
Тоскливо под славянскою звездой,
хоть это и обычнейшее дело...
Земля едва в ложбинах побелела,
но стужа полной чашей пролилась
на жёлтый лист.
Черней, чем власть и грязь,
вороньи шайки долгими часами
копаются химерными носами
в пожухлых ворохах былой красы.
Держу в руке - не удержу - весы:
горчит душа и тянет крылья к дыму,
и тщится пережить вражину-зиму...
* * *
Без чары вЕчеря. Но музыку всё слышу,
и это искупает ложный путь.
Осенний тёмный дождь стучит о крышу:
"Мы встретимся ещё когда-нибудь..."
Без чары вечеря. Вино не греет вены,
и рук не греет ласковый обман.
Когда бы и настали перемены -
их все уже оплакал Иоанн.
Смотрю в окно и поминаю лето,
как будто бы опять во тьму тебя
без слова отпускаю, без привета,
уже ни дня в минувшем не любя.
Дробится ливень, ударяя в стёкла.
Предзимье оседает на висок.
К озябшему стеклу прилип промоклый
бронзоволикий вязовый листок.
"Мы встретимся ещё..." - О да, конечно.
Без срока ждать, без ропота уснуть.
Из-под фрамуги веет казнью нежной -
дождливой, листопадною, предснежной.
И тесен путь, коль он и вправду путь...
* * *
Это просто хандра осенняя
и озноб от поспешных выводов...
Остаётся шанс воскресения
вопреки всем усильям иродов.
Это оторопь листопадная
настояла на хмеле-золоте,
пятиклинные, семикратные,
листья-рифмы, прожилки в копоти...
К чернокнижью ли, лебедь гибкая?
Эка невидаль - крепнут сволочи...
Всё равно ведь, как прежде, зыбкое
закружится во влажной полночи.
Отшуршит, на асфальт уляжется,
тронет очи смиренной мятою.
Верь - неверье нам только кажется,
птица, нежностью виноватая!
Осень - гибели репетиция,
цветомузыка беззаконника,
треугольник - с листком и птицею,
с мокрым суриком подоконника...
Крылатый лев над отворённой книгой...
Джанбеллино
Венецианец Иоанн Беллини,
"Святого собеседованья" гений,
затем и сбылся в названной картине,
чтоб стать предтечей будущих прозрений.
Чтоб следом, в том же венецийском лоне,
напором духа, пылкостью Венеры
и Тициан был явлен, и Джорджоне -
в слиянии новозаветной веры
с язычеством. Так пару крыл скрещённых,
архангельских, двоят зеркально латы.
Так в двуединых беззаконных стонах
бастарды венценосные зачаты.
Венеция
Крылатый лев над отворённой книгой,
над надвое разломленной ковригой,
над истиной, свирепой и простой.
Двукрылый чтец на каменной колонне,
на мозаичном выспреннем фронтоне.
Сан Марко - очень праздничный святой.
Но более Сан Марко - плеск солёный
об острова волны ярко-зелёной,
Ядранской, как заметил славянин.
Развал Адриатического пира:
над грудой брашен - дыщащая лира
Орфея, в инкрустациях седин.
Но более Сан Марко - вдоль лагуны
окрас палаццо, столь пятнисто-лунный,
что неуместен местный штукатур.
Сырою правдой пахнет камня старость,
павлиньих дожей творческая ярость
над карнавалом ряженых фигур.
На чёрный лак штампованой гондолы
бросает тень отрыжка кока-колы,
но бархат чрева, но багрец нутра,
но твёрдое матроса равновесье -
свидетельствуют, что все ноты в мессе,
все знаки будут подлинны с утра,
что к полдню просочится солнце марта
на арки, избежавшие поп-арта,
на пристаней упругие шесты, -
на вертикали белой древесинеы,
звенящие, как флейты-окарины, -
на скрипки лодок, на альты-мосты...
Как ни суди, сквозит за пудрой маски
бодрящий звук и запах свежей краски,
воздушный солод и бродильный сок!
Под ироничным ибисовым клювом,
разбужен Адриатики наддувом,
крепчает Марко Поло ветер-рок,
тот ветер-зов, что над стеклом зелёным
ты сердцем, самым верным камертоном,
среди шумов случайных различал...
Крылатый лев златился над лагуной,
над книгой книг, тревожною и юной,
раскрытою в начале всех начал.
Ни ты, ни я предать уже не в силах...
* * *
памяти Н.В.
Волчище, друже с сивыми усами,
с фамильными овражными глазами!
Скрипичный ключ носил ты в кулаке,
дабы движенье нот проистекало
из логова, из времени провала,
из цикла нулевого на песке.
Певун, игрун с гитарою, любимец
спортсменок смуглых - на два дня счастливиц -
ты мог звучать как нищий и как принц.
Кто смел бы думать, шахматист успешный,
что так необязательно-поспешно
турнир твой обратится в гибель-блиц?
Соратник ли, каникульный приятель?
Лишь время, забубённый дознаватель,
под списком пунктов выправит печать.
Но я - не Хронос. Проще и теплее
моих рукопожатий эпопея,
и не устал я до сих пор прощать...
Зевок в дебюте, в эндшпиле ошибка.
Портвейн "Агдам" и сигареты "Шипка"
с ухмылкой извинятся за подвох.
Но русый волк поёт о талисмане
хранительном и о сирень-тумане,
поёт о камне на кресте дорог...
И мне всё виден жаркий корт таврийский,
луч радонежский, отсвет мирликийский -
лет двадцать, двадцать пять тому назад.
Ни ты, ни я предать уже не в силах -
на пристанях, на росстанях, в могилах -
ни песню-юность, ни Кучук-Ламбат...
Чемпион
Гарик Целовальников - как Оскар Уайльд.
Светятся на выкате-вылупе глаза.
Помнится, на велике, третьеклассник-чайльд,
нездоровой местности первенцы-друзья.
Как плечища мощные, - железобетон, -
в домовину втиснул ты - я не увидал...
Как "в пристенок" резались, кореш-чемпион,
это помню! - Звонкий наш медный капитал
с Гарюном делили мы, о кирпич-торец
ударяя - с воплями! - пятаком-гербом.
И гербу, с колосьями, с лентами, - копец,
и уплыл от площади Фейербаха дом
к незнакомой пустоши, к музыке чужой...
Прошлое охрупчилось, хрустнула педаль.
Лишь сияет в Мюнхене, на груди большой
олимпийца-гонщика, золото-медаль.
Глория, виктория! А и не попрёшь
против факта - фак его! - сторговал Гарюн
велик героический за германский грош.
На зеро нарезался Игорёк-игрун...
Завертелось спицами, под гору пошло -
не у дел динамовец, из бетона куб!
Целовал целебное цельное бухло
Гарик Целовальников - аж до сини губ.
Руль держал, пикировал - лет до сорока,
до нелепой гибели - нет, не просыхал...
Проводы поспешные, смытая строка...
Но не ящик вижу я - школьника пенал!
Но на икрах бронзовых, вздутых, - чем не он?
По двору промёрзлому, с клюшкой, без коньков?..
Гарик Целовальников, братец-чемпион!
Так мы и представимся - там, средь облаков...
Чашка волчьего молока
* * *
От безудержной купли-продажи,
от игры в дураки и куски
уведи меня в прежние наши
красноталы у самой реки.
Там я снова, ветвистей, чем прежде,
лаской вербы склонюсь над тобой.
И в речной серебристой одежде
поравняюсь с судьбой-голытьбой.
Гарь и пустошь в некрасовском стане.
От умельцев, ловцов на живца,
отпусти меня в лозы, в блистанье
краснопёрого плёса Донца.
Там о князе беспутном Путивля
тихо родственным будет мой сказ,
там, где вчуже, - средь вязов, средь ив ли, -
рыщет прошлого фосфорный глаз.
Из родословной
Трёхгорлый кочет, ворон пятиглавый
телок лобастый о шести ногах... -
Быль чёрная с отравленною славой
ломают зелень в гетманских лугах.
Я вашим рос, Кныши и Наливайки,
когда из волчьей чашки молоко
мне скармливали на ночь ваши байки
и песни выл у люльки пёс Серко,
собачьм сердцем за стеною чуя -
саблюк измену, жжёной шерсти клок...
Не вашим стал я, но родства хочу я,
хоть вряд ли будут белка и свисток
в руках у нас, как не было их сроду,
с тех пор, как берегиня-Перворусь, -
неравнодушна к волчьему приплоду, -
вогнала ярость в вену нам и грусть...
Плеснула в чашку с ручкой завитою
отвара из толчёных мотыльков,
чернильно-едкой ягоды настоя
и млека от волчицыных сосков,
чтоб отхлебнул я - и на донной гуще,
на жиже колдовского толокна,
о будущем гадал, чадящем пуще,
чем прошлая столетняя война,
чтоб угадал я Припяти разливы,
где сом луну метровой пастью пьёт,
где в гуще осоки мерцают гривы
смолистым фиолетом дикой сливы,
а лбы волчат с утра - смелы-бодливы
и кочет в три гортани срам орёт...
* * *
Ти гойдай мою люлю, загибель моя, наречена!
Бо, хоч інших жінок я, - чи перший, чи другий, - забув,
крізь уривчастий сон плине спогад, і тихо, і чемно,
що насправді я був.
Колихай сірий кокон, де гусінь в бавовну повита,
де в пітьмі-напівсмерті вже сяє метелик живий...
І за те воскресіння дві краплі солоного мита
ти візьми в мене з вій.
То ж гойдай рівно-щиро соснову труну чи колиску
з білотілої липи. Хто був, той насправді вже є!
Зетремтів махаон. І тягар атмосферного тиску
ані смужки крила, ані згадки про літеру-риску
на льоту не псує.
Холмов полноваллонское волненье...
Льежский остров
Кто кожею во Льеже ощутит
холмов полноваллонское волненье,
тот смелости посмеет-посвятит
стихотворенье.
Он замысел Мааса и посул,
движенье-подвиг водного напора
и угли ражих барж, их чёрный гул,
сморгнёт не скоро.
Он будет поутру опять готов
к предательствам и ревностям-раэдорам,
надеясь лишь на преданность мостов
быкам-опорам.
Когда открытым текстом держишь путь,
не счесть подвохов на большой дороге.
И подавляют точной ноты суть
шумы тревоги.
В прицел же глянь, в метафоре замри,
чтоб остров посреди Мааса, в Льеже,
дышал бы, словно остров-сон внутри,-
осенне-свежий.
Вдоль набережной листьев желтизна
по шашечкам ведёт к мосту Альберта
двух странников, чья дымная страна -
бурьян-омерта.
Что, если вправду гул плохих кровей -
свежее здесь, на приарденнском бреге?
Что, если сцепок-циклов здоровей
лучей разбеги?
На Рю де Парк хохол, бурят, валлон,
знаток координат, аккордов мельник
коту откроет двери на балкон,
дабы в осенний воздух мявкнул он:
"Вновь понедельник..."
И осень пахнет розою ветров...
* * *
Cпасибо всем – я цел ещё как будто.
Скорее, жив в итоге, чем здоров.
Дворняга лает, цепь грызётся с будкой,
и осень пахнет розою ветров.
Спасибо, день мой, за глоток в кофейне
всего-то за четыре пятьдесят!
Твой радиоэфир откуплен феней,
но сны в просветах ясеня висят.
В кондитерской, под вензелем зелёным,
арабики хлебнув, - не оробев
в цейтноте и пролёте забубённом, -
бубню - к запеву осени – припев:
«Спасибо, ясень, за тебя, родного! –
Рубаху сбросил, но не променял
нательный крестик заповеди-слова,
белянку-нить улова никакого
на чёрный нал, на карлов капитал…»
Брюгге
Здешний рай – из воды Летейской
и Адамова кирпича,
словно вычерчен ход ладейный
вдоль всего рычага-плеча.
Вертикальность координаты
отразилась плашмя в воде,
причащаясь к аскезе богатой
и к родной дорогой руде –
к ранне-утренней выпечке глины,
чей закал – звонкотелый хлеб…
Для бродяжьих душ – именины:
прислониться хотя бы где б…
Но под зеленью бронз Ван Эйка,
где канал упирался в страат,
я, влюбляясь в бемоль ремейка,
сам себе стал нежданно рад!
Мне всё пел из-под мака-тюрбана
бей с Балкан, оттоманский грек,
что все струны проток без обмана
в сумме точно журчат: человек!
Если ж там, где правды уснули,
в отчих кривдах, за торгаша
не дают рикошетом ни пули,
ни полслова, ни решки гроша,
значит, подлинно каялся Брюгге,
чтоб из чести не вычесть чек,
чтоб над торгом отстроить дуги –
вдохновенно, как Ян Ван Эйк!
С иноземцем в красном тюрбане
я бродил, и сквозь осень-свет,
сквозь пейзажей морских дыханье
бил прицельно времён арбалет.
Гляну в воду – жемчужен Брюгге!
И разгладив салфетки клок,
я в кофейне, на фоне разлуки,
напишу о любви пять строк:
«Даже ежели Льеж ревнивый
пробрюзжит кружевнице «Брюж»,
всё равно, мой гарант горделивый,
град-лабазник с душевной поживой,
удержу твой узорный гуж!»
Разогрет во дворе кособокий железный турник...
* * *
Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке,
в оболочке твоей продолжает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
и клюёт, и глотает, и в ульи уносит зверьё.
Слышишь, падает плод у ограды в прогретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста неизмяты
наяву и во снах - в молочае, в чабре и во ржи!
Вот и в яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк, и повеяло кроткой душою -
так прощением пахнут деревья, трава и родник.
Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов и вернее имён - тишина...
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
что дорога видна - серебро, голубень, белизна...
* * *
И снова - солнца ход неспешный,
и надо мной опять парят
румяным маревом черешни,
как будто тридцать лет назад.
И у дощатого забора,
как в очень давний день босой,
обильно пахнут помидоры
листом, обрызганным росой.
На крыше кухни и сарая
дождями обтрепало толь,
и дремлет у калитки рая
дворняга с именем Ароль...
Там Марфы, с мальвами, передник,
и там, у кухонной стены,
я - внук, стригун, любви наследник,
уже последний собеседник,
кому те дни ещё видны...
Наружные наши приметы...
* * *
Наружные наши приметы
спокойно известны Ему -
мы в старое бедно одеты
и встречены не по уму.
Но Он не уронит ни слова
про зёрен озимую смерть.
Свистит золотая полова -
игрушечный смерч-круговерть.
А время, строптивое чадо,
таким повзрослеет путём,
что каждому будет награда -
не катаньем, так уж мытьём,
а то и вином горько-сладким,
горячей малиной в горсти.
Давай уж походным порядком,
без карты, без денег, идти!
Свивается смерч из соломы,
и носится пёс за хвостом.
А мы, удаляясь от дома,
к себе непременно придём.
По верной окольной дороге,-
то влево, то наискосок,-
где в точно сочтённые сроки
рванёт на подъёме висок.
И дальше - иначе, чем прежде,
не цацкаясь больше с умом,
мы в бедной, но чистой одежде
почти по прямой поплывём...
* * *
Есть правда одиночества. Оно
жестОко, но целительно-высОко.
Чутьё слепца и ястребово око
ушедшему от скопища дано.
Когда-то сон огромный нас слепил.
Затем и сон и явь вместились в малость.
И что же нам в конце концов осталось?
Ответь, осенний ветер, брат-зоил!
Осталось тесной комнаты тепло
на чёрно-сером, на предзимнем свете,
когда уже и в полдень не светло,
когда, всё, долгожданное, прошло
и упорхнули к дальним гнёздам дети...
Понеже каторжанская держава...
Памяти Владимира Мотрича
Замком амбарным, правдою ментовской -
облёванный, бухой, но да! - поэт -
на землю сбит... И церковью Покровской
на суржике, по-быстрому отпет.
Поэзия - притвор иль паперть храма?
Изгнанница, за властолюбье псов
ни рюмки не глотнувшая, ни грамма,
она - не пустошь, Пустынь средь лесов.
Когда железом - по зубам, с размаха,
по сердцу, переносью, по глазам, -
кромешен срам в душе. И гуще страха
в ней - грех невозвращенья к образам...
Какою мовой Мотрич ни заплачет, -
черёмухой, иной ли веткой вскачь, -
он для кривой часовни больше значит,
чем трезво разлинеенный рифмач.
Замызган, пьян, он мне - роднее брата,
поскольку в нашем общем гиблом сне
навскидку петь - в десятку сердца! - надо
и день считать за три, как на войне.
Понеже каторжанская держава,
на откупе у распальцовки дня,
наследница коротконогой славы,
бьёт небо в очи - железякой ржавой...
Тебя, Христе, кончает! И меня.
Томятся связки розового лука...
* * *
Слезой сочится вдоль разреза дыня,
и крестиком цветка медовый Спас
божится так на склоне благостыни,
что кажется: реальность - не про нас.
Томятся связки розового лука
в лиловой стрекозиной кожуре.
Пора запасом зимним друг для друга
заняться в тороватом сентябре.
Ты помнишь ведь транзитный Симферополь,
вокзальной башни камень-инкерман?
Ультрамарин расплёсканный и кобальт,
людей базарных смуглолицый клан...
И разве лето - не смешок транзита?
Билет на юг, и тотчас же - назад...
Пустое это дело - дольче вита.
Давай нацелим на хозяйство взгляд.
Кто там, меж рам, багряную калину
спешит на нитку нанизать опять?
Кто, под овчину пряча волчью спину,
в избушку к нам скребётся зимовать?
* * *
Сентябрь припасает варенье.
кизил багрянеет в тазах.
И горлица стихотворенья
в безоблачных неба глазах
белеет - на взмахе - знакомо
и снова влетает под кров.
Субботнею млеет истомой
теплынь нищеанских дворов.
Курлычет контральто романса
в открытое настежь окно.
А солнечный гривенник шанса
звенит о дворовое дно:
" Верни пятаки побирушке,
себе и вражине прости
охотничью страсть, погремушки
и перья синичьи в горсти!"
Пройдя сентября середину,
главы не сберёг Иоанн.
Но золото, синь, паутину
ещё не завесил туман.
Пируют на лавке ханыги.
А помнишь! - И ты приносил
на пир свой: то строчку из книги,
то каплю бальзама из Риги,
то красный султанский кизил!
Kогда б из полной тьмы планета не всплыла...
* * *
Не я пишу стихи - они меня читают:
прочтут июльский миг и долгий зимний год,
где до асфальта снег вовек не долетает,
где быстрый след звезды - всегда лишь недолёт.
Не я найду слова, но девушка в трамвае,
с глазами из иной, еванегельской судьбы.
И светятся они, от света изнывая,
от искупившей всё пронзительной божбы.
А я - всего лишь слух и взор гружёных женщин,
закутанных старух, распахнутых мужчин.
Мне хватит звука, двух. Мне нужно даже меньше
от бубна их надежд, от флейты их кручин.
Не я найду слова, но старец Калиостро,
с авоською в руке, с извёсткой на плече.
Его лукавый взор скользнёт за угол остро,
за тысячу вперёд протянутых ночей.
А клики ребятни в дыму листвы осенней!
Кирпичные дворы, где правит листопад...
Их рифмам искони не нужно напряженья,
стремительно точны их строфы наугад.
Не я виновник рифм. Откуда эта детсkoсть
пришла бы мне на ум и нA сердце легла,
когда б в любом зрачке не колдовала меткость,
когда б из полной тьмы планета не всплыла?..
Снова осень приходит с повинной...
Виноградник
Снова в стылом осеннем солнце –
лилипутов игольчатый писк.
В винных ягодах сладко пасётся
череда белощёких синиц.
Винограда подмёрзлые кисти,
в примороженных за ночь листах,
зреют трудно, как поздние мысли,
в опустевших, до гула, садах.
Из садовой лучинной лачуги,
где антоновки дух да бедлам,
вижу радость лукавой пичуги
и по-птичьи радуюсь сам.
Солнце льдистое наискось встало –
бледно, словно в последний раз…
Между стёкол уснул устало
многоцветный павлиний глаз.
Невесомо пыльца облетела
с ломких крыл и древесных ресниц.
Вот и вызрела изабелла –
фиолетовый мёд синиц!
***
Бледно-лиловые астры в сумраке стылого сада
светят над черной землею после тяжелых дождей.
Ярко-оранжевым ядом брызжут календул лампады.
Холодно, пусто. Часами – нет ни собак , ни людей
в этих посадках старинных...
Только корявые лики
разнорабочих деревьев – яблонь, черешен и слив –
не покидают усадьбы. Да рассыпаются крики
соек, снующих повсюду в поиске скудных пожив.
Полупрозрачные астры не по-сентябрьски озябли.
Рано повеяло стужей и соловецким вином.
Хлопнем по шкалику, братец, выпьем еще по три капли
и угловатые грабли в теплые лапы возьмем.
Вот и еше одна осень, палой листвы погребенье.
Листья становятся дымом, запахом и забытьем.
А в глубине, за ветвями, - близко-далекие тени:
словно вчера еще,
в детстве по листопаду идем..
* * *
Мало желтого, больше - кармина
в вечереющих крымских лесах.
Снова осень приходит с повинной,
с поволокой в неверных глазах.
Влажный сумрак – как ладан обедни.
Ни души на морском берегу,
словно в этом краю - я последний
да и сам уцелеть не смогу.
Холодна и просторна свобода,
и предсмертно чиста тишина.
Отпеванию царского рода
даже страсть помешать не должна.
Никого на земле не осталось –
ни властителя, ни дурачка
И большая, как время, усталость
проникает в глубины зрачка.
А широкая темная птица,
опускаясь кругами с небес,
на безмолвную гору садится,
на потухший карминовый лес.
Кто слышит Зов, тот чисто говорит...
Волошинский холм
Знойная сухость - таврийская муза,
тысячелетник - лилов на холме.
Чётки, насечки - жеребчика узы.
Аве! - июлю, и август в уме.
Платину плавит понтийское лето,
цезий в изложницы Цезарей льёт.
Царственна в полдень зенита монета -
аверс ликует, звенит оборот.
А базилевс сухотравья, кузнечик,
чалый скакун, цымбаларь да скрипаль,
снова седлает бессмертника венчик
и озорует, соломенный враль.
Нет, не сидится в тени мне за чаркой -
соли и зною ресниц вопреки
снова взбираюсь на холм янычарский,
море лаская у правой руки.
Здравствуй, Волошин, полынный мой кровник
с привкусом дедовского "цоб-цебе"!
Cлышишь ли, глиняной правды виновник,
вздохи и шорохи почв о тебе?
Видишь ли, - брызжут кобылки над склоном,
рифмы расправив в химерном броске? -
Крылья, что шифром искрят потаённым,
колером - алым, шафранным, лимонным
и растворившим лазурь в молоке!
Над Коктебельской бухтой
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной! -
Темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи - роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись - прощаться рано.
Кто слышит Зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна -
до римских львов, до львиных пирамид!
Что нас и держит, помимо веселья узора..
* * *
Лобзик, товарищ мой, труженик полузабытый,
лёгкий и трубчатый родственник Лиллиенталя!
Твой лонжероновый выгиб, твой скрип домовитый
снова припомню. И сызнова пилку из стали
вставлю – тончайшую, тридцать три зубчика кряду,
плоские кромки в барашки-винты зажимая.
Се – инструмент! На пилы-циркулярки бригаду
нрав и узор твой, подельник мой, я не сменяю,
ибо я чую меж нами известное сходство:
что нас и держит, помимо веселья узора?
Видимо, всё ещё лёгких детей сумасбродство
радостней небу, чем тучное пиршество вора.
А на земле, коли нету куска – так не надо!
Что не забрали – оставь для последнего шмона..
Хватит душе словаря и трёх ягод из сада,
хватит нам, братец, куска розоватого шпона.
* * *
Бабочка, дрянь с бриллиантовой пылью на крыльях,
с годной на корм воробью лишь козявкой брюшка!
Сколько, однако ж, воспевших тебя! - Словно быль их
легче - с травою мешка...
Нежная лярва, никчемный клочок совершенства,
над броненосцем утоплым порхающий флаг...
Средь конопли озоруя, ты делишь блаженство
с парой угарных бродяг.
Всё же не вправе и я от тебя откреститься -
утро ли прежнее чту в иероглифах крыл?
День ли предчувствую тот, где полковник Синица
вместе нас пустит в распыл?
Ведь генерал Горобец, к картотеке склоняясь,
на килотоннах отчёта фиксируя взгляд,
тяжесть в груди ощущает, секретную зависть
к лёгкости малых зверят.
Лёгкость - большая метафора. От Антиоха
рифмам смеялось вослед махаона крыло.
Всё же, что врали с чугунными лицами, плохо
веку на совесть легло.
Лёгкость - последнее в этих камнях бескорыстье:
четырёхкрылый, подобный строфе, мотылёк,
крылья смежая-рифмуя, садится на листья
и о наряженном в белую майку горнисте
всё безнадёжней и, кажется, всё золотистей
вновь повторяет урок...
Соль минор
Июньский Крым лавандовою шёрсткой
чуть подсинил подножия холмов.
За Перекопом, северный и жёсткий,
спустясь на юг, смягчиться ты готов.
Рискнёшь ли отыскать хоть йотой больше
того, что мир упрятал в кошелёк?
Покров озона с каждым днём всё тоньше,
а сам ты стал, яко Платон, широк.
Н здесь, в широтах гулких, образ утра
с лавандовым смиреньем десятин
похож на ноту камертона, мудро
звучащую - на соль минор седин.
Вослед тысячелетью Чингизхана
дни Джотто не пришли и не придут.
И потому тебе давно не рано -
сыграть на всё с любою из минут:
поставить нА кон счастье априори -
звук русский, италийский перебор,
возлюбленное - вплоть до Трои - море,
вольнотекущей сини соль минор...
Бессловесный смысл над головой…
* * *
Чичибабин в розовой фуражке
мне сегодня встретился в метро –
та же мятость ворота рубашки,
тот же клифт, пошитый нехитро.
Тот же свет, - то кроткий, то мятежный, -
из-под сивых вздыбленных бровей,
тот же, простодушно-многогрешный,
закативший очи соловей…
Но осенней пепельною птицей
средь осин мятётся голос твой,
потому вовек не откреститься
мне от смены вех над головой –
от пронзивших свистами пространство
молодильных лучников-стрижей,
от солдат родного окаянства –
воронья надёжных барышей...
Я любил тебя ещё при жизни –
не за то, что был со мной хорош,
а за то, что в бесовой отчизне
нам с тобой мирволил бедный Бог.
Ни копейки я тебе не должен,
разве что, всю душу задолжал…
Так, давай, - крыло в крыло, - продолжим
перелёт в предзимний наш астрал,
где, фанерный, врёт словесник-петел
над предсмертно дышащей листвой,
но, как Отчий взор, протяжно-светел
бессловесный смысл над головой…
Не клялся вслух, но клятвы не нарушу...
* * *
Б.Чичибабину
То были дни, когда в кафе „Болонья”
входили два ещё живых поэта.
Один из них – давно в нездешнем лоне.
Несут его черниговские кони
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.
То были дни, когда в шинок, на стыке
Студенческой и Пушки, забредали
на пару мы, книголюбиволики,
тревожнооки, бражники-музЫки,
на ангелов похожие едва ли.
Он все глядит, задумчивая птица,
в предзимье том на огневые ветки.
И он – средь тех, кто мне доныне снится,
среди троих... Строга его зеница,
чиста, как подвиг первой пятилетки.
На сердце смуту и целим, и множим
изломом слова, неизломом духа.
В кургузом рабстве пелось о хорошем.
А что споёшь сегодняшним, небожьим,
добытчикам – с плечами, но без слуха?
То были дни без алчи, дни иные.
Скользят сквозь осень золотые звери.
Он курит у окна, и у стены я
молчу о том, что мытари земные
пришли за нами. И ломают двери...
* * *
Кого люблю? Да Осю, да Арсюшу,
да Борьку с рюмкой горькою в руке.
Не клялся вслух, но клятвы не нарушу –
ни здесь, сейчас, ни после, вдалеке…
Ещё Петра кохаю да Ивана,
холщовых братьев, кровников моих,
что долго шли пешком от Иордана,
чтоб на Донце отдать мне осень-стих…
Приснится ль мне теперь, что хлопчик малый,
кому я «Аве!» передать берусь,
приблизится к той ноте небывалой,
что длит Элладу, Галилею, Русь?
Надеяться ли на Господне утро,
на связь живую – ножевую нить?
Но то, что перекрёстной рифмой мудро
решит он мой сентябрь перекрестить?
Пишу своим – Арсению, Борису,
тому, что не отводит синь-глаза…
Да Осипу – про свежий дух аниса,
про осень, чьи осинники и лисы –
заката золотая полоса!
* * *
М.
То мякиша добудет плоть, то соли,
казённой пылью на зубах хрустя.
А сердце рвётся от наплыва боли:
«Ну, чем тебе помочь, моё дитя?»
Когда меня не будет в этом мире,
что станет, чадо милое, с тобой?
Каким великозвучием Псалтыри
простится в человеках разнобой?
А мне простят ли сказанное всуе –
огонь, не обогревший никого?
Молчу, страшась, и говорю, рискуя,
и меря, и смиряя естество…
Я и потом, - вне гибели бредовой,
вне зла времён, - сумею быть с тобой,
мой одуванчик, дух светлоголовый,
мой золотой, на пустоши дворовой,
тишайший – пред разящею cудьбой…
Дня не пройдёт, чтобы тысячи лет не прошло…
* * *
Дня не пройдёт, чтобы в теннис полдня не стучали,
скачет вдоль моря лимонный стремительный мяч.
Солоно плечи темнеют, бледнеют печали.
Брызги понтийские, шарики золота вскачь!
Смуглые руки со струнной ракеткою ловки.
Сосны на склонах сочатся настоем хмельным.
Римская жмётся волчица ко стенам столовки
с жалкой улыбкою, с выменем тяжко-щенным.
Грязно-кофейного колера кроткую суку
капитолийской признали бы Ромул и Рем.
Примет кусок, поцелует кормящую руку:
щедрость Тавриды – живейшая из теорем.
Мышцы пружинят в азарте по жаркому корту.
Дня не пройдёт, чтобы кто-то не выиграл сет.
ЗА море глянешь, на магометанскую Порту –
кофий дымится, а влаги массандровской нет.
Здесь же ни дня не дышу я без зелий Массандры.
Аве, Гурзуф мой! Салям, кипарис-минарет!
Здешним оливам певучая тень Александра
ямбы дарует две сотни, без малого, лет.
Розовый купол, закатную плоть Аю-дага
вновь обогну - и заветною нотой манит
песня другая, античного рокота сага,
греческий, грешно-языческий порт Партенит…
Снова проснусь я, как будто проросшее семя.
Воздух огромен. От сини до сини светло.
Странно устроено живородящее время –
дня не пройдёт, чтобы тысячи лет не прошло…
* * *
Карабах, Кучук-Ламбат, мыс Плака –
сорок лет знакомые места.
Ловит взгляд мой нищенка-собака,
взмахивая паклею хвоста.
Два щенка снуют под тощим боком,
под обвислым выменем пустым.
Мне б не дать надежд им ненароком,
не пустить бы в ясны очи дым.
Я и сам ведь знаю про надежды
то, чего и не хотел бы знать.
Видимо, они сбывались прежде,
видно, довелось нам опоздать.
Что ж опять сюда я приезжаю,
в частный сектор, на недельный срок –
не стрелок, не скупщик урожая,
не упырь, сдирающий оброк?
Что-то брезжит малой мне лампадой
в этих неразлюбленных местах…
Многого давно уже не надо –
длился б день, о ста бы головах,
отражаясь в бухте Карасана.
где над бодрой синью Партенит
пеной чаек, сепией баклана
продолженье повести сулит…
Дряхлый город и мост молодой...
Мост Риальто
Чую след Тициана с Джорджоне,
но Венеции норов люблю
и за то, что её миллионы
моему подпевают рублю.
И за то, что узорам палаццо,
преломлённым в вечерней воде,
мне нисколько не стыдно признаться
в нашей общей сквозной правоте.
В двуединстве певучей повадки,
в перламутровом сбое волны...
Благо, грифельной птицей в тетрадке
мы, сестрица, разниться вольны!
Не белю кобеля Казанову
и не праздную кроличий лик,
но к игре маскарадного слова
я изломом Риальто приник.
Ибо ибисы, цапли, удоды,
изогнувшие клювов обвод;
перьев радуги, крыльев разводы,
чёрных бархатов алый испод,
блеск зениц через прорези масок,
серебра и предательства ток,
сцепки пряжек, объёмов и красок,
судей, ведьм, арлекинов садок...
Бьющий в миндалевидные щели,
вдоль личины, соблазна флюид,
догарессы, шуты, менестрели,
искры брошей и бледность ланит...
Это всё осветило мне разом,
догорая над чёрной водой
золотым и сиреневым газом,
дряхлый город и мост молодой. –
Альт Риальто, сей мраморный выгиб,
альбинос, напружиненный кот
все червонцы из прошлого выгреб
и в ларец прорицанья кладёт...
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я -
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся стотысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, - волею высшею, -
что ни март – колокольни стройней!
Храм под Воронежем
Храм под Воронежем
Иверской Матери Божьей
церковь стоит над прудом.
Кем я, проезжий, прохожий,
по бездорожью ведом?
Путники не доезжают,
не добредают сюда,
но голубень отражают
серые воды пруда.
Но над крутым косогором, -
по-над страной ширины, -
к полновоздушным просторам
маковки вознесены.
Словно бы в хвори-заботе
травы находит зверьё,
так я в поспешном пролёте
с трассы увидел её –
церковь вдали.. И «восьмёрку»
поворотил по буграм,
и отыскал на пригорке
белый, средь зелени, храм.
К тёплым суглинкам уклонов
лепится троица ив.
Тих, словно инок Платонов,
светится белый налив.
И над пустым котлованом –
ныне лишь хлопоты кур,
там, где за бурым бурьяном
рай багрянел - Чевенгур...
Сонно июльское лоно.
От буерака взойду
к церкви лебяжьей, исконно
моющей крылья в пруду.
И у сосновых дверей я
в Иверские образа
гляну – и встречу Андрея
скорбно-земные глаза.
Тихо. Лишь вечный ребёнок –
кроткого гения бронь…
Бродят, поодаль иконок,
рыжий, с репьями, телёнок,
серый, в антоновках, конь.
Cвятой Андрей
Того ж, кто боли боль, исполнясь песни песней,
доверясь книге книг, в слога запеленал,
того в убитый лоб я целовал: "Воскресни!
Зане велик твой вдох, а выдох мира мал..."
Того, кто травостой всерусского погоста,
весь клевер и осот, сметал в один омёт,
того спросил бы я, до основанья просто:
"Когда-то же придёт? Неужто не придёт?"
В сих топях на крови, в беспутице бескрайней,
коль и не сгинет град, не опустясь на дно, -
лишь оттого, что в нём был смертник, равный тайне,
кому весь котлован собой закрыть дано...
Я знаю, что Господь не ради гиблых стонов,
не ради казней всех простит срамную Русь,
но ради трёх святых... Из них Андрей Платонов -
суть первый.
Вслед за ним - считать я не берусь.
Ища тепла в родном гиперборее...
После дождей
Июль. На высоченных свечках мяты
три ярко-рыжих пьянствуют шмеля.
И двухнедельным ливнем клята-мята,
к соитью, к солнцу тянется земля.
Как страстны губы чернозёмной плоти!
Праматерь чёрная свежа и молода.
Плодоношенью, женственной заботе
всем телом млечным млея, молвит: "Да..."
Сад - вслед дождям - заполонён ромашкой
полутораметровой высоты.
Но что же, под просохшею рубашкой,
седцебиеньем уповаешь ты?
Опять на склон июля, вновь на август?
Уж эти цезари... - Всё парой суд вершат.
Цветущий белый шар - стоокий аргус.
Над мятой - гул летучих медвежат.
* * *
Ища тепла в родном гиперборее,
устану я и с тем легко смирюсь,
что в чаще молочая и пырея,
где на ночь спать ложится ветер-грусть,
зарыл я в почву горсть живучих зёрен,
которые прорвутся, прорастут.
И - будь хоть трижды сеятель оспорен -
неоспоримый статус обретут:
ведь кто-то станет ивою Ивана,
а кто-то Авраамовым стволом.
Что есть одно и то же. Поздно ль, рано,
мы все узнаем подлинно о том.
И я проснусь. Увижу дом свой белый,
узрю зелёный первородный сад.
Промытый ливнем воздух яснотелый -
то царство, где над почвой погорелой
белопрестольно яблоки парят.
* * *
Не впишусь в извив дороги ужьей,
хоть мне кол на темени теши!
Веку же - не в масть великодушье
вкривь и вкось расхристанной души.
Да и Божий Сын совсем не в жилу
времени двуклеточных барыг.
Если что мне лоб и освежило,
это ливня юнольвиный рык.
Троицы июньской громыханье
над молочноспелой муравой.
Вслед грозе есть лёгкость покаянья
в воздухе, и есть над головой
столп незамутнённого озона,
верткаль, влекущая туда,
где зачаты мы во время оно,
может быть, для боли, пусть для стона...
Но не для кромешного стыда!
Три подъёма на Ай-Петри
1.
Прохлада и чабрец. Набыченный козёл
наследовавший нрав заржавленной пружины,
стеклянные глаза, грязно-седой камзол
и лучшие рога Ай-Петринской вершины.
Лачуг дырявых свист. Навалом мусор-вздор
насыпал раб земной у входа в поднебесье.
И будто бы шепча младенческий укор,
трепещет на ветру поодаль редколесье.
И этот березняк уже не смерд садил:
когда-то и сюда, знать, поднимались люди –
кто с саженцем в руке, кто с ковшиком белил,
а кто с глотком вина в охотничьем сосуде.
Дыхание чабра. Прохладно-жидковат
обрывистых вершин предсумеречный воздух.
Там где-то, у подошв, скликают газават,
но тишь небесных трав настояна на звёздах.
Распахнут окоём. – Ракушки городов
нанизаны внизу на нити побережий.
За веком век плывёт над яйлой без следов,
и лезет на козу лупатый здешний леший.
2.
Коньяком «Ай-Петри» угощали
на макушке этой же вершины
Тюрки при бочонке и мангале –
крымско-мусульманские мужчины.
Скалы ли, зубцы, клыки, отроги –
подпирали купол мирозданья…
Вежливый вопрос звучал в итоге:
удалась ли сочной снедь баранья?
Оттого ли, что пунцовой феской
оттенил я шрамы и седины,
был смягчён хрящом гортани резкой
клёкот из воинственной щетины?
Потому ли, что, от лоз чуть пьяный,
отражался я кальяном медным,
синий вечер яства дастархана
оживлял в орнаменте приветном?
Снова на вершине воздух хладен
вопреки теплыни у подножья,
и в изломе скал и скальных впадин
светится пунктир узора Божья.
Вновь пасутся на Ай-Петри кони,
жеребёнок губы тычет в вымя
матери. И привкуса погони
нет в шашлычном поднебесном дыме.
Хромом брезжит, никелем прохладным
звон стремян или ключей от рая.
Если б время не было всеядным,
можно было б жить не умирая…
3.
Мы с тобой вдвоём придём на Суд,
станем над бескрайними гробами,
белый опечаленный верблюд
с плотными шерстистыми горбами.
Истрепал халат багдадский вор,
борода слиняла, пооблезла.
Но цветёт узором твой ковёр,
что кладёшь ты всаднику под чресла.
Вновь я на престол Ай-Петри влез,
сел Тимуром меж горбами брата.
Ты и я - лишь прах у стоп небес,
даже если бисером богата
тюбетейка на моей башке
и твоя узда с кольцом сквозь ноздри.
Каждой жилкой, в каждом корешке -
чужаки мы козьей коза-ностре.
Жуй колючку или "Китти-кэт",
всё равно в глазах - табу и мыто
у трудяг, которым места нет
близ щедрот овечьего корыта.
Мы с тобой придём на скорый Суд
в долгом и упорном несогласье...
Над травой крапивницы снуют,
и каймой вокруг седла цветут
сто газелей вытканного счастья.
Неотвратимость отклика на Зов...
* * *
Анжело Литрико, мой италийский друг,
столь точно мечен русскою фамильей,
что чарка тотчас чертит полный круг
воздушный над Романою-Эмильей!
Анжело Литрико, единодумец мой,
иглы и нити вдохновенный мастер,
одел мой торс в прикид передовой -
лихой, как галактический блокбастер.
Любезный Литрико! Рубаху из полос
цветов твоих - куда уже цветнее! -
клянусь, я и доднесь не перерос
и верен близким отношеньям с нею.
И то, мой ангельский! - Ну, где б я отыскал
соратника по колеру, по вере
в лоскутный пир коралловый, в кристалл -
магический, в ямбическом размере?
Давай, художник мой, продолжим этот драйв -
сравненье наших родственных гармоний!
Звучит "ти амо" ловче, чем "ай лав",
здесь, на холмистом ренессансном лоне.
И фра Анжелико я вспомнить захочу,
поскольку сходство двух имён - глубинно.
Мой Литрико, нам мифы по плечу
не те, что порчу кутают в парчу... -
Простые, но с кровящей сердцевиной!
* * *
Тиран к народу вправе выходить
не более, чем раз в четыре года.
Так верно для венца,а для народа -
куда ещё вернее, может быть.
А ты, мой брат, чахоточный пиит!
Ужель принять ты вправе приглашенье
на сцену - для глухого оглашенья
подслушанных рыданий Аонид?
Стихи, как наложение перстов
на лоб и грудь, есть таинство, и странно
зал ублажать. Засим пример с тирана,-
как ни звенела бы внутри мембрана, -
я в високосном счёте взять готов.
* * *
Когда бы даже раскололась книга,
жизнь не скрепиться просто не могла.
Высокий стиль и низкая интрига -
земные, милуй Господи, дела.
Мир очень стар. И всё о нём сказали,
но с юной дрожью тянется рука
к цветному мелу, к пёрышку из стали,
к строению из мокрого песка.
О, время лепки крепости у моря!
Та память о мальчишеской руке
всё брезжит нотой, взятой априори,
и звуком - в глубине и вдалеке.
Ты долго пишешь книгу без названья
и в лучшем сне своём летишь без слов.
И проба речи, и исход в молчанье -
неотвратимость отклика на Зов.
Услышанное не вернётся в хаос...
* * *
Услышанное не вернётся в хаос,
увиденное явлено на свет.
Лазурно море. Бел и крепок парус.
И верится, что смерти вовсе нет.
И мы с тобою, будто бы впервые,
приходим к этим ярким берегам,
где ветер в соснах, где мы вновь живые,
где скудость вервий сброшена к ногам.
Истоптанное веком, не стеная,
поднимем и отмоем добела...
Ты помнишь то венчанье веток в мае?
Как и з д а л и та музыка плыла!
Мы есть.
И ни обрушенный Икарус,
ни отпылавший ливнем лёд комет -
ничто, ничто не возвратимо в хаос!
Мы избраны и явлены на свет.
Киммерия
Здесь волны шепчут имя Пифагора,
шуршат "Анаксимандр, аквамарин"...
Здесь нету слов для жалоб и укора,
и круг пространства-времени един.
И этот круг, живая эта сфера,
верней, взаимопроницанье сфер,
искрят то алой альфою Гомера,
то опереньем весельных галер.
Так детородно Понта колыханье,
так страстен стон волнующихся вод!
О, выслушай еще одно признанье
и продолжай свой кесарийский ход,
клочок земли с налетом перламутра,
где целый век в виду волнистых гряд
встречаю я аттическое утро
и провожаю варварский закат!
И если б каплю пурпура для тоги
сумел я здесь добыть, залетный росс,
да видят беломраморные боги -
и я свернул бы с каменной дороги,
и я бы в эту охру с хрустом врос...
* * *
С утра побрившись бритвою Оккама,
я повторяю: "Не печалься, мама.
Не плачь ни о себе, ни обо мне..."
То, что к сердечной правде не сводимо,
должно пройти, да и проходит, мимо.
Всё наше, мать, на нашей стороне!
Закваска веры с долей фатализма
для здешнего природна организма.
Другие дрожжи в климате дурном
способны зиму выдюжить едва ли...
Пусть о чужом бряцают на кимвале.
Мы настоим, без крика, на своём.
Наш выбор до конца пребудет с нами,
как шапка денег с сучьими сынами.
Лишь тем и буду, кто я вправду есть.
Порезав кожу бритвою Оккама,
не кровь я со скулы смываю, мама. -
Острей и откровенней чую Весть...
Живи - ведь снова парусник снуёт...
* * *
Для жизни духа нет плохих времён,
как нету для неё времён хороших.
Гончарной глине предназначен обжиг,
упорный жар со всех шести сторон.
Живущий неизбывно одинок,
и он немей при жизни, чем пристало.
Но тишь читать умеет между строк,
но музыка - не медный лай кимвала.
Когда признанью не хватает слов,
то это оттого, что слишком много
их сказано, без вдохновенья-Бога, -
и смысл бежал из непробудных снов...
В пределе откровенья - тишина.
Она - и гул в крови, и дрожь ресницы.
Когда-нибудь, очнувшись ото сна,
почувствуешь - яснеет пелена
и с чистого листа рискнёшь родиться.
* * *
С окрасом зебры, с тонкостью жирафа,
с павлиньим оком понизу крыла,
мой парусник летит, и август Каффы
колышет у посудин вымпела.
Здесь на отшибе, у дворца Стамболи,
у минаретов и узорных стен,
тихи сады, от моря веет солью,
и зной времён течёт без перемен.
Ну, разве что торгаш, хозяин-барин,
не уберёг под феской головы. -
На то и век - не больно лучезарен,
бесстыж, разбоен, мерзостен, увы...
Жар неподвижен. Время - густо-медно.
От кофия слипаются глаза.
Но, суре вслед, орнаменты заветны,
и не повсюду сбита бирюза.
Снуёт мой махаон, цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не падший взор звезды падучей.
и я б летал... Хотя бы между строк.
* * *
Над олеандром парусник проплыл,
едва глотнув от розового яда.
В час предвечерья первая прохлада
уже коснулась лепестков и крыл.
На волнорезе дует свежий бриз,
а здесь, на склоне глинистом, чуть выше,
здесь - гуще зной, томительней и тише,
и ладаном сочится кипарис.
Здесь веет крымских пиний благодать.
И этих смол, горячих веток, глины -
не откупить за гривны и полтины.
у нищего счастливца не отнять.
Живи - ведь снова парусник снуёт
над выбеленной зеленью оливы.
И тот, чьи сёстры-ветки легкогривы,
чьи крестники летучие игривы,
тот - видят боги - не сейчас умрёт!
Двадцать три века меж нами...
21 июля 2008 г.
День Александра Великого, день Македонца?
Шутка ли? Хоть бы по дружбе аттический стих
о 21-ом шепнул мне, ведь проливни солнца,
шпажника плески не жаль мне делить на двоих!
Гладиус-меч пересилит цветок-гладиолус. -
Двойственный смысл по кольцу, по восьмёрке течёт.
С гривы царя не ссечётся без Зевса и волос.
Коршун небесный победную песню речёт.
Так и себя я борьбе без остатка вверяю.
Где моя Индия, ратные трубы слонов?
Только и жизни в году - от тинейджера-мая
до Шарукани июля, до шарканья снов.
Только и песен с вином - что до бабьего лета...
Где моя Сирия, Сирин на сизом крыле?
В рюмке предзимней - остатки любви и привета.
И ни пол-лапки синичьей не мёрзлой земле...
Троица карт, Александр! - Наши даты совпали.
Двадцать три века меж нами - "ау" повитух.
Важно - посмертную пыль отряхнуть от сандалий.
Счёту ещё научиться бы. - Честно, до двух.
Подсолнухи 21-го июля
А.К.
А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
И звука подкожное чувство...
Наследство
Купу бы малых детей под крыло пододвинуть -
пять или шесть головёнок. А семь - ещё лучше.
Сгинуть тогда было б легче, вернее, не сгинуть,
а перейти к ипостаси нездешней, летучей,
чтобы потом лишь слоями воздушных потоков
к милым плечам прикасаться, и лёгким, и тощим,
крепнущим подле решётчатых ливневых стоков
в городе отчем, который им даже не отчим...
Раньше иль позже покину я их, светлооких, -
купу макушек, льняных, просяных и пшеничных, -
не отразится, ей Богу, уход мой на сроках
их возмужанья, на метаморфозах обычных,
ибо, что было во мне, подарил я им сразу -
тона серьёзность и звука подкожное чувство...
Высечь же дальше из тлена немёртвую фразу
и не сфальшивить - всего лишь дыханья искусство.
Стаю бы малых детей мне под правую руку!
И под неловкую левую - крохотных купу...
Я б узнавал их, не глядя, по обуви стуку.
Я б им оставил в наследство, а также в науку -
зёрен горчичных
и почвы гранитную ступу.
Море возлюбленной пахнет...
* * *
Чёрные куры сидят на ветвях алычи,
дымчатый кот задремал на ступенях хибары.
Явно искренье молекул османской парчи
в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.
Вот он, посёлок приморский, куда столько лет
я приезжаю опять по невнятной привычке,
где между прошлым и будущим паузы нет,
как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.
Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.
Банщицей здешней веранда сдана мне - товар,
столь ходовой в сей жильём небогатой огруге.
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,
демос слепил два десятка халуп при турбазе:
вольного воздуха водка и бриза мускат
в каждом зачатии-вдохе и в выдохе-фразе!
Воля Господня, свобода святого вранья, -
наперекор греховодной обыденной правде,-
дней на пяток умыкните с поминок меня
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...
Море возлюбленной пахнет.
И хмель не берёт
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.
Я думаю, не умер Бог...
* * *
Я думаю, не умер Бог.
Тевтонской спесью порчен Ницше -
летучий аспидов клубок
и он же - лунь простёртый ниц же.
Но Бог, как минимум, устал.
Устал не менее, чем люди.
Ведь фарисеи правят бал,
мусолит ростовщик кристалл,
и нет раскаянья в Иуде.
Заплачь, коль можешь.
Сам суди!
И сам к секире подходи
для воздаянья... Ибо в нём -
просвет меж злом и полным злом.
Спираль рисует ревностным мелком...
Коктебель, 1992 г.
Подлунный лён и подлинные свитки
давно не окликаемых стихов.
Но кто-то прочитал. Промок до нитки.
Набухли деревянные калитки.
Вослед дождю спиральные улитки
легки во отпущение грехов.
Молочные скорлупы виноградниц,
пугливые кисельные рога.
О, перламутры коктебельских странниц!
Селение разгулом урок-пьяниц
гремит, и, как накуренный афганец,
"бар-бар" бормочут эти берега.
А заполночь - истошны вопли: или
хребет сломали, душу загубили,
или всего-то упились презло...
Сон не идёт, и съёжились цикады.
Двуногое хрипит и блеет стадо
до той поры, пока не рассвело...
Но мирным утром клин травы исчерчен
улитками. Кефали косяком
обходят мол, чей абрис чуть увечен.
И бурым йодом свежий бриз наперчен,
и мальчик, тонкоплеч и безупречен,
спираль рисует ревностным мелком.
Малины лист, серебряный с изнанки...
Троица
Отгремела гроза, и до одури липы запахли.
Снова Троицы дух собирает апостолов в круг.
Снова каплют с ветвей послеливневой свежести капли -
то ли высверки слёз, то ли дробных минут перестук.
В полдень в церкви шуршит под ногами душистое сено.
От кленовой охапки струится воздушная взвесь.
Молодеет Твой храм, как жасминовый куст, неизменно.
Дай побыть ещё, Отче, в саду Твоём - ныне и здесь!
Я - Твоё ведь созданье, Твой певчий, воительно-слабый,
ибо всё, что люблю,- невесомей слезы дождевой...
Освежи моё сердце кленовой шумливою лапой
и укрой меня на ночь хмельной, приалтарной, травой.
Может быть, без похмелья удастся мне утром проснуться,
помолиться в родные, промытые ливнем, глаза...
Я - Твоё ведь подобье, не пришлый с летучего блюдца.
Липы счастливы - в мокрых соцветьях. Утихла гроза.
* * *
Густой электризованною влагой
лилово тяжелеют небеса.
Воздушной дрожью,
чувственною тягой
бежит по саду близкая гроза.
И ты спешишь,
пугливых роз вязанку
поспешно вносишь в захмелевший дом.
Малины лист,
серебряный с изнанки,
трепещет на ветру предгрозовом...
Рыжий кот и пара воробьишек...
* * *
Рыжий кот и пара воробьишек
населяют жаркий майский дворик.
Ярок полдень, как Марина Мнишек.
Одуванчик сник. И сухо-горек
чистотел, пучок ничейных веток.
За три дня сирень отгомонила.
Вялый «чик-чирик» старух-соседок
теплится на четверть птичьей силы.
Сонны дровяных домов кварталы,
без плодов отцветшие задворки.
В зное, цвета жёлтого металла, —
дух микстуры и лимонной корки.
Синий пузырёк с настойкой смерти
скатертью скользит крахмально-чистой.
Жаль кота. Линялых строк в конверте,
промелькнувшей майской круговерти,
рваной книжки с графом Монте-Кристо..
Между Арсением и Анной...
* * *
Между Арсением и Анной,
двадцать четвёртого июня,
слоился зной благоуханно,
то липой вея,то петуньей.
Сновали мотыльки огнисто,
и был их пыл похож на шалость.
И воздуха теплынь так чисто
прохладой вдруг перемежалась.
В июньский день двадцать четвёртый,
перед Арсением, за Анной,
какой любви, какого чёрта
опять душе хотелось странной?
Когда б я кликнул поимённо
все дни мои, минуты даже,
нашёлся бы хоть след резона
и маете моей, и в блажи?
И вот зову я миг летучий,
прилив тепла под знаком Рака.-
Там дня рожденья Анны случай,
мой сон, мой отблеск Зодиака.
Июнь ещё в цвету, в надежде –
поют, со звоном чашки бьются.
И вновь я, – не мудрей, чем прежде, -
готов дождаться, обмануться,
созвать друзей на именины –
на склоне и судьбы, и лета.
Давно закончены смотрины.
Виновны те же, кто невинны…
Но, снившееся! Где ты, где ты?
* * *
Есть час, когда город просторен
в воскресные летние дни.
Июнь – это воздух «лавстори»,
Рембрандт на предплечье в тени.
На миг сквозь листву проникая,
понежась на женской руке,
блик солнца, как слава мирская,
спешит в никуда налегке…
Чтоб сквозь ледовитые зимы,
сквозь скрип задубевшей петли
смогли мы дышать. Чтоб могли мы…
Да что? – Да, хоть что-то могли!
Так долго машет вслед искристый махаон...
* * *
Тополиный пух отвитал.
Голубиный дух - тих и мал.
После ливня бел стал жасмин.
Цвёл июнь, как пел Отчий Сын.
Сизари снуют подле врат.
Где наш ум и труд? - Стыдно брат!
Время набекрень. Сорван пласт.
Разве, птичий день зёрен даст.
Разве, вновь, на счёт "Раз, два, три",
к небу свет взойдёт изнутри...
И продлится Дух, твёрд и тих,
как воздушных дуг семь цветных.
Лето. Зелень. Храм. Сизари...
Буду жив - воздам. Изнутри.
* * *
О Хронос и Харон, хрипучие прозванья...
Безрадостной реки холодная вода.
Гребец глухонемой приходит на свиданье -
и лодка, и весло готовы для труда.
Старательный Харон, могильщик неприветный
с карающим веслом в натруженных руках...
А яркий махаон и парусник стоцветный
остались на других, зелёных, берегах.
Там белое весло и лодка голубая.
На жарком берегу вовсю цветёт паслён.
Прощаясь дрожью крыл,
над нами пролетая,
так долго машет вслед искристый махаон!
Аркады длинных дней над головой...
* * *
Пищат птенцы породы воробьиной
в расщелинах краснокирпичных стен.
Июнь пропах дождями и малиной
и вымыл блюдца всех телеантенн.
Хлебни вина из разуляйской чаши
и захмелей от юной красоты.
Взметнулось солнце выше белой башни,
чтоб выплеснуть любовь на все цветы.
Кричат птенцы о хэппи-энде притчи
из келий-трещин кладки вековой.
О времена, поэтовы и птичьи,
аркады длинных дней над головой!
Ещё чуть-чуть - и станет день короче,
и каплю утра слижет темнота.
Но виршеватель, - паладин воочью, -
к седлу июньской рифмой приторочит
багровый шип с драконьего хвоста.
* * *
Я просто мальчик в давнем синем дне,
и некий хмель крепчает в слабых венах.
И тянутся во сне от лун ко мне
предчувствия о многих переменах.
И яблоко в ладони всё круглей,
всё полновесней и правдоподобней.
А вольный дух июньских тополей -
любим ноздрями, слышим костью лобной.
И пальцы в шрамах - быстрая рука
при ярком свете так неосторожна!
А ночь - близка, нежна. И у виска
всё шепчет, шепчет: "Жизнь твоя возможна"...
* * *
Красные вишни и рыжие лилии -
разгоряченное лето в разгаре!
Нотами воздух пропах в изобилии,
как древесина флотов Страдивари.
Сад мой зарос одичавшей малиною
и мелкоцветием сорной ромашки.
Множатся знаки, что праздник покину я -
не доиграв. Прихлебнув из баклажки...
Но в партитуре, что выткана птицами
на синеве полнозвучного лета,
светит ли - в паузе, фразе - продлиться мне?
Громкий вопрос. Не услышать ответа...
И в рукописи множа многоточья...
Гурзуфское седло
Есть звуки-заклинанья: "Ветер с моря"!
Где капище, Гурзуфское седло?
Где готы и страна пришельцев Дори?
Две тыщи лет сквозь пальцы утекло -
песком атласным, перлами ракушки,
размолотыми в нежный кокаин.
Правитель-время флаги для просушки
развесит вдоль ущелий и теснин.
Вдоль гибельной тектоники раскола
в хребты вдолбит дубовые мосты.
Где соловьиной Соломеи соло?
Ячейки ульев каменных пусты.
Где высший смысл, что лился прямо в очи
из золота закатных облаков?
Ты лишь молчаньем отвечаешь, Отче,
и в рукописи множа многоточья,
шлёшь в море предрассветных рыбаков...
Роман-Кош
Не скрыть мне: я – певец гурзуфского базара,
где сто баклажек вин и в лёжке баклажан –
весь радостный развал приморского товара –
чуть хмуро стережёт под ноль обритый хан.
Не цель мне прямо в грудь тюркоязычным глазом,
водитель «жигулей», ревнитель овощей!
Я вряд ли отвлеку тебя своим рассказом
о слышной здесь, сейчас певучести вещей –
о том, как полноты гранёного клавира
взыскуют и гортань, и струнные персты,
как Бог у синих вод мне шлёт кусочек сыра
за рукопись. За то, что ноты, как дрозды,
сидят на проводах. Полуденного зноя
ценитель, – и свояк двух наливальщиц вин, –
свищу я на лету про два крыла героя,
про ястребиный крап живых его седин.
Как сплющённо-темны наземных денег кражи!
Но, к небу вскинув взор, легчайше узнаешь:
навеки молод день на дне гурзуфской чаши,
чью кромку очертил
чайханщик Роман-Кош.
Детское имя своё прошепчи небесам...
Дождь
Когда, в виду вокзала и тюрьмы,
чадит Чернобыль-сталкер за плечами, -
да сфинксы мы, да египтяне мы,
с пропащими фаюмскими очами.
Там, где не хочет знать своё дитя
навек остолбеневшая держава,
там ожиданье Божьего дождя,
потребность омовенья - долг и право!
И хлынет ливень тёмною стеной,
и будет семь ночей и дней нещаден.
И не оставит ползать ни одной
из плосколобых пустоглазых гадин.
Два сгинут, ибо в сердце их - дыра,
а двести - лишь за то, что молчаливы.
Стрекочет смертник-счётчик. И пора
делить на вечность жалкие поживы.
* * *
Хав прорвался по левому краю,
засветил парашют над штрафной.
До сих пор я свой гол забиваю! -
Сквозь июль, сквозь пылищу и зной,
мяч вплывает рыбиною в сетку,
серафимом и сферой парит,
огибая дугой пятилетку
и тотемы стахановских плит.
И за клинья шумеров в ответе,
за всех рун и руин Вавилон,
блещут смуглыми икрами дети,
ибо к насыпям, с южных сторон,
солнце шлёт на холерные травы
цвет и мёд, без фальшивых речей
пустыри оживляя для славы
турбулентных - навылет! - мячей...
* * *
Бойся Данаи в обилье рембрандтовых персей
и берегись властолюбья громоздких вещей,
ибо во множестве необязательных версий
смыслы теряются, сроки хиреют вотще.
Охлосу-Фобосу дай его красное мясо,
кости оставь, по заслугам, натруженным псам.
Ноту ль удержишь до Армагеддона-атаса,
детское имя своё прошепчи небесам.
Отклик травы и в конце прозвучит, как вначале,
ибо вся жизнь уместилась в тот утренний час,
где мотыльковые взмахи гамак твой качали,
и отворялся в межбровье сапфировый глаз.
Ноль - равновесие сил на путях человека.
Разве что запах волос и рисунки детей -
в силах вернуть приворот акварельного века,
плески апрельских вестей...
В июньский звонок звонить...
* * *
Прохладная нынче Троица,
и холоден века край.
Красой на три дня покроется
шиповника колкий рай.
Тоска о минувшем времени,
невидимый миру плач -
какого ты роду-племени
не спросит ночной палач.
Не спросит судьба родителей,
какое дитя им дать.
Всё горче теперь, всё мнительней
гляжу на отца и мать.
Мне истины той не вымолвить,
которая им нужна,
и ни для кого не вымолить
земного незлого сна.
А чадо моё пшеничное,
которое в сердце нёс,
давно про своё, девичье,
по-своему морщит нос...
Но жду я: "А вдруг устроится! -
Мы с ниткою свяжем нить.
И станем друг другу на Троицу
в июньский звонок звонить..."
Старые марки
Так где же он, тот отрок прыткий,
что на пустырь через забор
спешил - куском смолы на нитке
удить тарантулов из нор,
что в школьном кафельном подвале,
где смутно пахло табаком,
на ромбы Африк и Австралий
менял добытых пауков?
И, вечерами впившись в марки,
наутро ахинею нёс
про острова, про, сверху жаркий
и ледяной внутри, кокос...
Где он? - Немногое осталось:
в пузатой тумбе под столом
притих, обидевшийся малость,
давно не листанный, альбом.
Там иногда в зубчатом небе
года плывут наоборот,
и снова чёрный гибкий лебедь
навстречу медленно плывёт...
За подвиг тщетный, протяжённый...
* * *
Горлица, - в расцветке капуччино,
с йотой шоколадного тепла, -
за стеклом гулит. И есть причина
улыбнуться - флора расцвела!
В тон апрелю фауна плодится,
на карнизе сизые блудят
горожане, мусорщики-птицы
мусорных клепают голубят.
Множатся менты и мафиози,
и редеет рифменный народ -
падает, согласно здешней прозе,
вниз лицом, как маслом бутерброд.
Всё же нас останется немного! -
Ровно столько, чтобы у Отца
горлицы-глаголицы, у Бога,
вопреки студёности итога,
тёплая слеза сползла с лица...
* * *
Один хотел, к примеру, славы.
Другой - к презренному металлу
тянулся. Оба были правы,
и оба сбрендили помалу.
Хотелось кислорода, слова.
Озона, проясненья смысла.
Но замусолилась обнова,
и водка в уксус перекисла.
Не лей чернил и рифм не слушай,
не пачкай канифолью пальцы.
С Синьцзяна прут пешком по суше
скелеты птичьи и китайцы.
Не игрек в поле пал от пули,
не икс пропал от порчи в теле.
А все мы умерли, воткнули.
И кто нас вспомнит, в самом деле?
Не факт, что выросшие дети.
Ну, разве - напоследок жёны...
И редко, редко - кто в ответе
за подвиг тщетный, протяжённый...
Джотто мио
Меж сыром Лимбурга и ломтем камамбера
бутылка "Кьянти", башнею Пизанской
чуть наклонясь, являет совершенство
пропорций, линий, облико морале
и тонкости зелёного стекла.
С усов матроса капелька стекла -
соратника по дальним перегонам...
Что тут скрывать? Уже давно влюблённо
и верно припадаем мы к багряным
кровям Тосканы или же Абруццо -
к бастардам италийского бельканто,
рождённым от сиятельного солнца
и глупо-доброй плоти сельских лоз...
Вот так в лице, чей грубо сломан нос,
в жестоко-дерзком фейсе калабрийском,
сквозь чернь и синь разбойничьих щетин,
вдруг вспыхивает признак благородства
в немыслимом ракурсе-озаренье:
то крепким подбородком Сан-Франческо,
то Цезаря надбровною дугой -
обводом, увенчавшим все проёмы
романские - в базиликах и арках,
в подобных Апеннинам виадуках,
в глазницах замков на верхушках скал...
Чего же ты в Этрурии искал,
что стала почвой двух тысячелетий?
В сегодняшней Тоскане золотой!
Удачливы ль узорчатые сети?
Постой, молчи, не надо слов! Постой! -
Я лишь окликну Джотто, Тосканино, -
кого ещё скликать на именины,
увы, не приложу пока ума...
Светлей мосты и вдоль реки дома -
бон джорно, Джотто мио, Божье сердце!
Взгляни, о Соле: на холсте Фьоренцы
с индиго смешан золотистый цвет...
И как залог того, что смерти нет,
живородящий Брунеллески купол
сияет терракотовым яйцом.
И время - нет, не падальщик, не жупел,
но - воин с человеческим лицом,
свиданья стерегущий под часами...
Рассвет твой, Джотто, тёплыми глазами
вливается в воронки мёртвых глаз,
и вот я,- Лазарь, - оживу сейчас,
дабы позвать тебя на день рожденья...
И ты придёшь - без тени снисхожденья -
понеже целят в яблоко одно
два взора, два собрата-паладина,
и два Господних сердца - воедино! -
струят вдоль жил фамильное вино.
Подшит ли гурзуфским самшитом...
* * *
Подшит ли гурзуфским самшитом,
сиренью ли здешнею пьян,
сканирую взором промытым
размашистых гор дастархан.
Цветёт первоцвет-самобранка,
и снова - ни вычесть, ни счесть! -
целует под сердце вакханка,
веснянка - невеста и весть.
Флюидами раннего чуда
напитана майская взвесь.
И розовой веткой Иуда
ласкает прогретую жесть
на крыше белёной лачуги
над свежею синькою рам...
Я всё за бровей твоих дуги,
за радугу взора отдам!
Фонтанной пойдём, Пролетарской
вдоль пёстрых дворов, под уклон.
Ведёт башмачок твой татарский
в козырный узорный полон.
Ныряй же скорей, недотрога,
и в душу, и в звонкий карман,
пока не пропил всё Серёга
дружок-караим, Дамир-хан!
* * *
Влажные майские переулки,
мальчик с собакою на прогулке.
Крашена солнцем песочная шавка,
школьник – без шапки
и город – без шапки.
Множатся стаи ребячьего писка,
женской ладони белеет записка…
Отрока дискант ломается альтом,
марево дышит над мокрым асфальтом.
Солнцем в авоське качается булка,
небо синеет глубинно и гулко.
Город – как вольная зона озонов.
Месяц сирени – до самых балконов.
Вымыты окна, распахнуты двери. –
С новым дыханьем,
с цветеньем доверья!
В две ноздри, в два хрусталика глаз...
* * *
Белый голубь в зелёной траве
средь цветков-лепестков злато-млечных.
Одуванчик - полжизни за две -
хмель и солод маёвок заречных.
Почта с неба, конверт полевой -
словно оклик в разделе "постскриптум"
юной просини над головой,
словно отклик Сезама со скрипом.
Крошку в зелени сыщет - склюёт,
встрепенётся блаженная птичка -
та, что вслух ничего не поёт
и не грезит малиновой лычкой.
Гуля-гуля, бела - не была...
Молоко голубицы-весталки
смокчут круглым глазком из стекла, -
с уркаганьими стрижками, - галки...
* * *
Майский рай на кирпичной стене -
плески солнца и трепеты тополя.
И не money - Моне и Мане
жмут на кнопку перпетуум мобиле.
Не вини себя попусту в том,
что полвека, полсчастья - не более! -
промелькнуло под хлёстким кнутом
иноходцем, атласней магнолии...
Ибо всё ещё там и тогда,
у стены, ослепительно-розовой, -
отрок ты - без греха и стыда -
не изловленный Савлом и прозою.
И тебе до сих пор - не указ
всё, что солнечной глиной не мазано.
В две ноздри, в два хрусталика глаз
брызжет критика чистого разума!
* * *
М.
Круги, овалы, эллипсы и дуги
стрижи в полёте чертят неспроста.
Не зря их крылья – веерно-упруги,
не зря изящна вильчатость хвоста.
И если о моей любимой птице
меня ты спросишь, первенец-малыш,
мне не придётся, милый, усомниться
в единственном ответе: «Летний стриж!»
Вдоль каменных аркад сникают годы –
уклон, откос, измена на излом…
Но как неодолим инстинкт свободы –
чертёж стрижа в пространстве мировом!
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем,
и прощены, и ввысь вознесены, –
соратники и острокрылым стаям,
и тонким дням июньской белизны...
Прощальный сон о детском молоке...
* * *
Кто мы с тобой, чтоб уповать на завтра?
Не в нашей власти даже беглый миг.
Гадая, ты лепечешь: «Уно, кватро...»
Но Тот, Кто знает срок, скрывает лик.
На арамейском, греческом, латыни –
слова Его властительно просты:
«От млечной глины к погребальной глине
отмерен путь. И эта мера – ты.»
Идущие землей – не властелины,
заложники ухабов и канав.
Слова их мёд, но их дела полынны,
и жжёт им губы горечь сорных трав.
И мы с тобой всю жизнь учились счёту,
но нам не хватит пальцев на руке,
чтоб оценить бесплодную заботу,
наследство, что всегда даётся моту,
прощальный сон о детском молоке...
* * *
Минуты-неженки почти и не живут.
В окошке свет - для энтропии лишний.
Май краток, и обиден самосуд,
поспешно лепестки смахнувший с вишни.
Мне юность вспоминается такой:
отец мой суку величал сукОй -
так и моряк зовёт компАсом компас.
И радиоволна тех дней строга,
стращая нудно кознями врага -
не ядерный удар, так Деймос-Фобос.
Когда же отпечатки пальцев лет
сданы в архив и всех инверсий след,
растаяв, за спиною затянулся,
мусолит снимки лётчик и матрос,
что в почву покорёженную врос,
а всё ж от марсианства не очнулся.
Я их любил - детей, мои слова.
И часть из них, гляжу, ещё жива.
Не все чижи и снегири подбиты.
А пара-тройка вновь летит туда,
где в красные пески ушла вода,
под двух осколков каменных орбиты.
На что сужденье ваше мне и суд? -
Чужие вы и шли бы молча мимо.
В стеклянном конусе шуршит песок минут.
Минуты-неженки всего-то миг живут,
но осыпают век неодолимо...
Саперави, как избранный труд...
Треугольник Киммерии
Крымского яблока плоть на разлом духовита,
плодоношения тайна невидима и велика.
Не замутняя пронзительной сини зенита,
длятся вдоль берега перистые облака.
Вот он внизу - раскалённый июлями Сурож,
пленнник и страж генуэзских своих крепостей.
В маковой феске, турецкую трубку раскуришь,
выждав у моря коричнево-смуглых гостей -
выждав маслинных, кофейных купцов да лимонных,
торсов моряцких, наколок чернила и соль...
Встретишь корабль в фиолетовых мидиях донных,
пёстрого ары хрипуче-надсадный пароль.
В Старом Крыму прошлогодняя снедь магазина
дышит черствей, чем Гирея ременный аркан,
и лишь над глиной сухой, над могилою Грина
всё поливает свой розовый куст Зурбаган.
Мягче холмы Феодосии-Кафы - Стамболи
брызнул на купол лазурью. Барышник-торгаш
всласть покурил, да шайтаны штыком прикололи:
чин-чинарём, то биш - баш, понимаешь, на баш.
Эхо слоится - от Кафы до Старого Крыма,
до крутобровой Согдайи, владычицы скал.
Сколько бы щепки бортов ни несли тебя мимо,
ты во спасение к этим излукам припал.
Вынь из-за пазухи тёпло-заветную птицу -
два полумесяца перистые у стрижа.
Дышит простор, киммерийский закат золотится,
и всё нежней, всё призывней троится межа.
В сумерках шатки огни нереального порта:
рой светляков - штрих-пунктирный, но подлинный план.
Старая карта до ссадин на сгибах истёрта:
синяя Генуя, ало-зелёная Порта
и криворукого корня цветок, Зурбаган...
Снова в Кафе
За слепцами, за Фанни Каплан -
очи чёрные, По или Грина.
Освежи мне, кабатчик, стакан!
Вот тебе насовсем моя гривна.
За эсэрами в линзах-очках -
агитатор от жеста и танца...
На железных базарных крючках
розовеет свежатина агнца.
Перламутром мерцает баран,
на рассвете ободранной тушей.
Возвращённою Кафою пьян,
чую cуть я - меж морем и сушей.
Саперави, как избранный труд,
настоялось и терпко, и густо.
В виноградных корзинках несут
молодильное мясо искусства.
Феодосия, Малый Стамбул!
На двадцатое лето разлуки
я опять нашей дружбе вернул
синих гроздей иллюзии-глюки.
Вдоль понтийских портов бандюки
катафалками катят в премьеры.
Но с холма Карантин будяки
вдаль алеют - за хлорку холеры.
И, как ветер с Босфора, хорош
первый день новых, Кафа, каникул,
где начхать мне на нищенства грош
и на притчи порочных Калигул.
Всё бродить бы по склонам твоим -
до утра, до рассветного дыма,
целя дальше - в Эски Кыырым,
в захолустие Старого Крыма....
Эски Кыырым
13-й век, Золотая Орда,
осколок майолики, дзынь-ерунда
из почвы Эски Кыырыма...
Но исподволь жёлтые искры-глаза -
Керим ли, Гирей или Кара-Мурза? -
узор прозревают незримо.
До Старого Крыма за сорок минут
автобус дотащится. Здесь меня ждут
средь дрёмы камней дружелюбной
бурьян и тутовник. И грецкий орех,
томительно-терпкий, как гурии грех,
плечистый, как классик Поддубный.
Доверчива тишь малолюдного дня.
Никто про пароль здесь не спросит меня,
про выход мой из окруженья,
про отчество матери, норов отца,
упрямца, "Шахтёрских" цигарок курца,
про цели и средства движенья...
В упорстве молчанья - глубинная речь.
В обломке керамики - прочность невстречь
разбитого вдребезги века.
И молча в безлюдье былых городов
я вкатывать яблоко солнца готов,
дабы отыскать человека.
А глиняный век, Золотую Орду,
осколок тарелки я в плен уведу,
итожа торговлю пятёркой.
Глазурью - не я ли анфас отражён,
с мускатною гроздью возлюбленных жён.
с курительной трубкою горькой?
Пока небесный стих совсем не стих...
* * *
Калашник, Стечкин и Емеля с печки
готовы в темноту с двух рук палить.
Но малчик-с пальчик к захудалой речке
опять приходит - "уточек кормить".
Он дёргает за край одежды маму,
которой чуть побольше двадцати...
Безумец-ум гнетёт кардиограмму
и хочет напрочь душу извести.
Но мы с тобой останемся при детских,
при утренних пристрастиях своих,
при всех сердечных наших цацках-пецках,
пока небесный стих совсем не стих.
Пока не подвезли сполна патроны
не помнящему страха "калашу",
по серой речке селезень зелёный, -
живою тварью, радугой исконной, -
плывёт, искрясь, навстречу мальчишу...
Средь греческих руин алеет алыча...
* * *
А помнишь – в первый раз мы были в Херсонесе?
Не так уж и давно…
Всего-то тридцать лет
скользнули в небеса, сквознули в редколесье,
по зимним желобам скрипя, сошли на нет.
Недавно и давно… Ещё все живы были –
твои отец и мать. Мои.
И все тогда
друг друга, как могли – без пафоса – любили.
И каждый нёс свой фунт подспудного стыда.
Артель "Напрасный труд" благоухала резко
одеколоном "Шипр", копеечной едой.
И длинной речь была про куцые обрезки
под ряженной в кумач прожорливой звездой…
Но помнишь, как тогда над почвой-пеплом мыса
пружинила твоя июльская стопа?
Треть века унеслось, но цвет не изменился –
бела над синевой античная тропа.
Треть века истекло, но звук остался прежним.
Средь греческих руин алеет алыча.
Остался тем же зов – невыдуманно-нежным,
легчайшим, как загар любимого плеча.
* * *
Круги, овалы, эллипсы и дуги
стрижи в полёте чертят неспроста.
Не зря их крылья – веерно-упруги,
не зря изящна вильчатость хвоста.
И если о моей любимой птице
меня ты спросишь, первенец-малыш,
мне не придётся, милый, усомниться
в единственном ответе: «Летний стриж!»
Вдоль каменных аркад сникают годы –
уклон, откос, измена на излом…
Но как неодолим инстинкт свободы –
чертёж стрижа в пространстве мировом!
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем,
и прощены, и ввысь вознесены, –
соратники и острокрылым стаям,
и тонким дням июньской белизны...
* * *
Жалеет, жалит. Вновь не узнаёт,
враждебно-близоруко пяля зенки.
Жизнь движется - то два часа полёт,
то век ползком, сдирая в кровь коленки.
Забудешь ли? - Летучим стригуном
сигал ты через радуги, овраги
с разгона. Ну, и что теперь-потом?
Безрыбье долгой и дырявой саги...
Бесстыдно арифметика проста.
Сучком в глазу - крючки чистописанья.
Двукрылие соснового креста
жжёт скипидаром две ноздри заранье.
Поверишь ли? Спасает тот кураж -
в мажорном позвонке и под лопаткой -
с которым ты овражный свой пейзаж
опять вдыхаешь, как наркоз над ваткой.
Жалеет, жалит. Летний день губя,
за грош добыв, задаром отдавая,
играет жизнь в себя.
И чуть в тебя.
Красивая, размашисто живая!
Кленовый цвет ссыпается с ветвей...
* * *
Апрельский воздух клёны овевает,
и сыплются зелёные цветы.
И у порога Божьей Пасхи тают
постыдные завалы нищеты.
Очнулась паства, подметая город,
и просветлели облики церквей.
А на футбольном поле ярый форвард
у переносья свёл бугры бровей
И некто мне опять по телефону
цитирует из книжицы слова.
Поверю ли слабеющему звону,
преданью, что поэзия жива?
Что б ни было, нелёгкому апрелю,
со стужами, с болезнями детей, -
конец. И по воздушной тяге хмеля
пойму, что с тёплым ветром еле-еле
кленовый цвет ссыпается с ветвей...
* * *
На небо, солнышко! На облако, жучок,
кровинка-бусина, скорлупка из хитина!
Туда, где звонок летний цокот-каблучок
и где малиновки поют в кустах малины.
До дому, дитятко! Там и отец, и сын,
седые оба, не удержат слёз при встрече.
Там синь-вино повинных глаз и соль седин -
два цвета времени предельно краткой речи.
Коровка Божья! Краем рая молоко
струится в русле берегов кисельно-щедрых.
И клевер тамошний белеет высоко
над здешней глиною на двух квадратных метрах...
Хранят по струнке золотые байбаки
склон буерака, будто столбики-солдаты.
И город тих теплом апреля. Дни легки,
где мать с отцом опять касаются руки,
где колко-свеж глоток воды из автомата...
* * *
Не верится, что добрались до апреля,
что кривобородой осадной зимой
друг другу про гибель "Варяга" не спели
и мёрзлые ноги втащили домой.
Но всё-таки перебрели эту слякоть
по ямам-колдобинам, вброд, напролом.
Сороке пора серебриться и вякать
над тополем тёплым, над прелым гнездом.
И Днём Космонавта гордиться охота,
хотя, уж заметили вы или нет,
со дня соколино-рискового взлёта
протикало сорок с копейками лет...
Трещит между веток крикливая птица.
А девы - волшебнее, чем Эрмитаж!
На то и весна, чтобы лону светиться,
а сивому соколу влево коситься,
взбираясь с оттяжкой на пятый этаж.
Апрельский воздух – веянье печали...
На Красную горку
Вот и угол больницы, где бледно-весенней улыбкой
попрощался со мною Иван мой, предчувствуя смерть.
Та апрельская боль возвращается смутою зыбкой.
Но не лучше побег от неё – карусель, круговерть.
Вот и стены тюрьмы, где Василия били кастетом,
как за тысячу вёрст, на Лубянке, костили Петра…
На Холодной горе освежили салатовым цветом
бок тюряги весенней. И солнце сияет с утра.
Сватья-баба-судьба, как верна твоя злая натаска!
Снова в дуре-копилке хохочет над старостью медь.
Стал я сивым и яркому колеру верю с опаской.
Отчего ж до сих пор
не устал поутру молодеть?
Что же держит нас здесь – на просторе, мазутном и плоском?
Ты ли, ветер-свежак неиспорченных вешних времён?
Не бурлацкий же стон, не уста же, залитые воском,
не борца же за светлое завтра
в зенице патрон?
"И не стану я клясть косоротое хищное время" –
говорил я вчера и сегодня скажу наперёд.
Улыбнётся Иван не простой, золотой, теореме:
жизнь и хвори минуют,
а Пасха все дОлги вернёт...
* * *
Страстная пятница. Выносят плащаницу,
вечерняя молитва чуть слышна.
Над церковью Полярная зеница
легко и высоко вознесена.
И в том, что мой алтарь – опять вне храма,
гордыни нету, Господи, о нет!
Под строгим небом я молюсь упрямо,
где явней голос Твой и неподкупней свет.
Здесь, в сумраке снесённого кладбИща
толкают влагу вязов корневища
к ветвям из-под оплаканной земли.
Апрельский воздух – веянье печали.
Но что-то глубже грусти - там, в начале,
в помеченной распятием дали...
Ивану Гутенбергу, герру...
Первопечатник
Мой Гутенберг средь инкунабул –
восстал, юпитероподобен...
Апрель с когтистых кровель капал,
и воздух влажен был и сдобен.
Лучи, колокола, валторны
в дрожащие сплетались сети,
и львы из бронзы злато-черной
зевали сладко, словно дети.
Я вновь ступал на землю готта, –
нет, не чужую для России, –
кивая патриарху Отто
и юной предпасхальной сини.
Я вспоминал, что Пасхи праздник
зовется "Остерн" у германца,
и добрый от вина лабазник
мне путь подсказывал до Майнца,
где жил мудрец с главой медвежьей,
с лесною хвойной бородою... –
О, как весною веет свежей
над книжностью его седою!
Ивану Гутенбергу, герру,
спою на Пасху "Аллилуйю".
За человеческую веру,
как в церкви, руку поцелую.
На ходу
Лютеранская в Крещатик
льётся зелено с холма.
Золотит апрель-касатик
зябким солнцем терема.
Слов хвалебных кавалькада
от сановного лица
или полстакана яда
от пропойцы-стервеца?..-
На ходу не всё равно ли,
кто и что вдогонку врёт?
У апрельской нежной воли
поцелуем пахнет рот.
Вдоль щеки плывут попутно
сны лепнины-белизны.
Хорошо и бесприютно
в синем воздухе весны.
Лютеранская в Крещатик
с крутизны холма впадёт,
словно бы Иван-печатник
Гутенбергу подмигнёт,
словно Киев, город Виев,
и не пуп земли горбов,
словно не заказник змиев
да разъевшихся жлобов.
Ей, люблю его изломы,
сгоны камня, дуги глин,
круч воздушные хоромы,
хлорофилл и кофеин!
Ей, люблю жуликоватый
перемешанный народ,
что упрямой крайней хатой
в Золоты ворота прёт,
сталинских, а то хрущевских
тортов каменных гряду!
И уколы глаз чертовских -
на беду ли? - на ходу...
Как много в небе турманов-записок...
* * *
Ты молода и странно хороша,
ты вспыхнула мне искрой в Вифлееме.
Но вот уже не стоит ни гроша
звенящих клятв мятущееся время.
Там, на золе уставшего огня,
то ящерицы греются, то змеи.
Наверное, ты не простишь меня.
Но, слава Богу, я прощать умею...
Апрельские тезисы
Виолончель, игрунья Василиса...
Как много горлиц, женственных причин,
чтоб вздрогнуть на лету, возвеселиться
в предчувствии апрельских именнин!
Как много в небе турманов-записок!
Всё на свету - в почтовом коде глаз.
И жанр кофейной лавочки не низок
на камертоне, на искренье фаз.
Трагичным струнам преданные пальцы
утомлены зимовкою смычка.
Но у весны в уме - камбэк скитальца
и марсианство чёртика-сверчка.
И так пропитан запахом аниса
аврелий, властелин и веселин,
что прямо здесь, джин-тоник-Василиса,
прими джек-пот кофейни на почин!
Твой василёк, оттенком чуть в цикорий
и мягких губ расстрельная статья...
Переболевший глупостью и корью
опять захвачен рифмой "ты и я".
Смахни верлибры нА пол и считалки,
но наш урок сольфеджио спаси,
учителка грехов, очей весталка,
барвинка синь с полян на небеси!
Но дюжина цветных мелков в пенале...
* * *
В конце письма поставить "Vale"...
А.П.
Но дюжина цветных мелков в пенале
и через сорок серых зим приснится.
И потому в конце записки "Vale!"
черкнёт летучим почерком десница.
Та, с отсветом, чуть розовым, коробка,
скользящая, в узорах клёна, крышка! -
Среди мелков - то пёрышко, то кнопка...
Дыханье неофита, без одышки,
летит оттуда, от канадских клёнов,
от веток волчьей ягоды за школой.
И длится звук свиданья патефонов
с единственной в округе радиолой.
Там в дымных листьях и в секущей вьюге
вдруг вспыхнет нечто яркостью бунтарской,
бросая свет на шрамы и недуги
окраины угрюмо-пролетарской.
Сосед под кайфом мне покажет атлас,
морской кашкет при золочённом крабе
и раковину трохус мукулатус,
добытую из филиппинской хляби.
Маэстро брусьев, дядька мой, Валерий, -
в белейшей майке, - подытожит "баста",
отдав мениска хруст и гул артерий
за кубок с изваянием гимнаста.
И "vale, vale!", мама Валентина!
Не брезгуй в нищете румянолицей
козлиной шапкой грубияна-сына
и с младшим, хитрованом, поделиться...
Там с добрым словом и с едой - неважно.
Такое время там, такое место.
Но - ой, как княжит над землёй овражной
апреля влажноокая невеста!
И дует ветер по-над зоной-дачей,
шпана влетает на ходу в трамваи,
ещё до драки там спешат со сдачей...
Так отчего лишь "здравствуй", не иначе,
я школе той, без номера, киваю?
Когда в почтовам ящике посланье
найду, листок в линейку из тетради,-
я буду знать короткий стих заране:
лишь "Vale!" там, ни слова назиданья,
ни полстроки о погорелом саде...
* * *
Раздвоенность у нас в крови –
наш русый ангел всех печальней.
Он благостен лишь сутью дальней,
но тягостен для визави.
Снедает мягкотелость нас.
И леность мысли неизбывна.
Нам чужда и почти противна
энергия разумных фраз…
И по расхристанной степи
уводит взор - к земному краю.
Я очень трудно засыпаю,
но ты, душа, уж лучше спи! –
Какого бы ещё рожна
вновь ты, сестра, ни возжелала,
самоубийственному жалу
ты, как язычеству, верна.
Так гибнет ни за что пчела,
ладонь случайную ужаля…
Туманно. Хочется тепла.
Там, где-то, вся в дыму миндаля,
весна у моря зацвела…
Апрель на мысе Плака
Библейская дождливая погода,
конец апреля в пепельном Крыму.
Гагаринского княжеского рода
гранитный замок – в розовом дыму.
Мокры стволы коричневой сиеной,
обильной влагой согнуты кусты.
Но брызжут багрецом и белой пеной
иудиного дерева цветы.
Гранитный замок – англицкой повадки –
под сенью твёрдых рыцарей в гербах:
неустрашимость носогубной складки
и клятвы вкус на каменных губах…
Кучук-Ламбат. В ересиаршьих фресках
воздушность кровяных телец жива.
И нежат Карасан, - гнездо Раевских, -
татарские резные кружева.
Базар судачит о землетрясенье,
о том, как змеи прячутся в ветвях…
А берег, - юный, словно в день Творенья, -
ждёт перламутра в кряжистых сетях…
Тем более, что Николай Васильич...
Cугубо личное
В семействе Гоголей, однако, прибавленье -
под Рождество родился мальчик-гоголёк,
что Николай Васильичем стать мог
(отец-то был Василий от рожденья),
но у четы родителей сомненье
образовалось - номер не прошёл,
и мальчика назвали Александром.
Здесь, впрочем, струны шевелит Эол -
ведь тоже имя в нашем литнаследье
проверенное и не из плохих:
то Пушкин-изумруд, то Грибоедов -
алмаза персианского цена...
А от себя добавлю, только на
приватной почве - не для публикаций -
что в годы, очень оны, у меня
была подружка, тоже Александра,
проворнейшая бестия, цветок
с порочными и нежными губами.
У девочки, в неполных двадцать два,
росли два малыша мужского пола.
Меньшой, от участкового мента,
вслед за разводом забран был свекровью,
а первенец при Сане возрастал.
В её глазах - не то чтобы блистал
огонь, но что-то ровное светилось,
не сгубленное жизнью на излом.
Её, бесспорно, закалил детдом
гуманного общественного строя...
Что ж до цветков - на ум проходят трое:
сурепка, повилики резвый вьюн
и колокольчик - белый, голубой,
сиреневый июня богомолец...
Однако ж, я разбаялся, баюн,
неуставной вчерашний комсомолец. -
Прощай, теперь совсем уже прощай,
искусница! Мне надо пить свой чай -
об Александре Гоголе продолжить
твоим транзитом прерванный рассказ
мне следует. Я перечёл как раз
творения его однофамильца -
не родича, так точно земляка -
"Портрет" и "Нос", "Заметки дурака",
вернее, "Сумасшедшего записки"...
И всё-таки о юной одалиске...
Нет, нет! Канальство! Больше ни строки,
ни слова больше о цветах июньских.
Тем более, что Николай Васильич
остерегался, как известно, роз,
тревожно чуя оттоманским носом:
розарий сплошь колючками порос...
И оставлял шипы самим же розам.
Так вот, об Александре... Что сказать?
Что, собственно, отметить? Ведь приятель
ещё столь мал, что считанных зубов
не хватит для надёжного укуса...
А в сторону классических гробов
скажу: искусство - преособый род искуса,
уменье сплавить мускулинум лбов
с чувствительностиью женственного сердца.
Тут, право, нужен, хоть на час, но Бог!
Когда-то Александр Сергеич мог
сие. Да новый век набухал перца
во все свои подливы и супы.
Ни уксуса не пожалел, ни соли...
Сегодня в кухне слова поневоле
над мерой той или иной крупы
дежурит тень скептического носа,
вдыхая запах едко-земляной
и нашатырь болотный. Два вопроса,
как дождь, висят над пишущей страной,
читающей всё меньше: "Что поделать?
и "Кто, примерно, в смуте виноват?" -
Здесь в силах я лишь старый постулат
припомнить: перемелется пшеница
худых времён. И недорода рожь
за нею на муку сгодится тож. -
Для веры и неверье пригодится!
Ну вот, почти и всё. Перекрещу
пространство. Именитого младенца
(купанья сцену в тексте опущу)
домашние в махровом полотенце
несут в молочноспелую кровать.
Секунда есть - полслова подсказать:
"Спи, милый". И последнее коленце:
"Есть, братец, время - имя не проспать".
Пузырёк с апрельскою капелью
Сослагательное
Три минуты криничного смеха
стоят трёх гекалитров воды.
Делу - время. Минуте ль - потеха?
Но ведь Болдино - высшая веха,
и "Балда"-то - герой, без балды!
Брат наш Пушкин смеялся в охотку
и шутил, по-бретёрски, остро.
Не стрелялся б всерьёз... Взял бы водки,
в хрустале веселящую сотку!
Да раскрыл бы опять "ФигарО"!
Политикум
Опасны вертикали власти -
для всех и каждого.
Не влазьте!
Кутюр
Слоны примеряют штаны,
но брюки в шагу им тесны.
Примерьте модель, бегемот! -
Вам цвет и размер подойдёт.
Брэнд
Скажите, матушка Гиена,
соблюдена ли гигиена?
И применён ли "Бленд-а-мед"
терзанью падали вослед?
Плюрализм мнений
Вот здесь бутылка "Шардоне",
а там - другая, "Каберне".
Да будет истина в вине!
Тебе - белей. Краснее - мне.
Творческая лаборатория
Мне рифма,
гейзером бурля,
не набурлила -
ни рубля!
Уход за животными
Заведу я муравья,
буду правильно кормить.
Может, вырастет, как я.
Даже больше, может быть.
Воспитаю муравья -
витаминов дам ему.
Он приятней бугая -
по уму и по всему!
Хорошие и плохие
Хлеб ев, мил, добр - Глеб, Лев, Нил, Пётр! Дик, семь грёб жён - Дик, Сэм, Боб, Джон!
ев,
мил,
добр -
Глеб,
Лев,
Нил,
Пётр!
Дик,
семь
грёб
жён -
Дик,
Сэм,
Боб,
Джон!
Их нравы
Буржуй буржуйку в Ля Бурже
шерше цинично в неглиже.
И тут же, вслед за блан-манже,
шерше она его уже!
Урок географии
Сена, Рона, Луара, Гаронна.
Восклицательный знак - д"Артаньян!
Ослепительность моветона -
пена кружев и колотых ран.
Цвета сливы шелка кардинала,
стрелы глаз и остры, и легки.
И улыбчивы пастью алой
златозубые кошельки.
Сена, Рона, Гаронна, Луара -
тропы славы впадают в Париж!
И от каждого шпаги удара
ты над книгой счастливо вопишь.
Сверхурочны в трудах и аккордны
мушкетёрские дьявол-клинки...
А наутро географ холодный
спросит, в лоб, о впаденье реки.
Брызжут искрой подвески алмазно,
бьёт подковой оседланный конь...
"Не в Париж? - ты дерзишь - А напрасно!
Ну, тогда уж, конечно, в Гасконь!"
Как свежий кус рахат-лукума...
Пасха
Со львом крылатым Марк и с ангелом Матвей,
и труженик Лука с волом ширококрылым...
О, купол удержись! О, влажный ветер, вей!
Когда идёт апрель, то жизнь ещё - по силам.
Пасхальное яйцо рубиново горит
на паперти в руке калечного подростка.
Пробьётся бытие сквозь окаянный быт,
и брызнет белизной церковная извёстка.
Светлынь, но паствы нет, достойной взлётных стен,
а в пастыре земном - убогость лицемерья.
Недаром балаган фальшивых перемен
нам жаловал сполна наследие безверья.
Как храму устоять, когда душа пуста?
Дай воздуха, апрель, удушливым трущобам!
Так солон в купол путь! - Там, у крыла креста,
парит чумак Лука с волом широколобым...
Гурзуф в апреле
Как свежий кус рахат-лукума,
благоухал апрельский Крым.
И свата, шурина и кума
Поил мускатом даровым.
Апрельский воздух винно-влажен,
бродильный сок ветвей – игрист
и льдом артезианских скважин
прохладно-чист, как декабрист…
Из всех скворечников прибрежных
мне ближе и милей – Гурзуф.
На камень средь черешен снежных
сажусь, как на гаремный пуф.
Здесь справа – Чеховская бухта,
морское зелье в чаше скал.
А слева – странник Пушкин (ух ты!)
в оливах девицу алкал…
И здесь, за рубль башку катрана
купив у шалых рыбарей,
всей кожей чую – вольный, пряный,
гульливый дух семи морей.
И на скрещеньи стрелок-взоров
шепчу приморскому гнезду:
«Твой бесшабашный пёстрый норов,
узоры птичьх разговоров –
с бродяжкой-рифмою в ладу!»
Поликуровская горка
Прохладный май полощет фалды
хмельного ветра-босяка.
Бреду по кручам старой Ялты,
по царству пёстрого куска.
Над яйлой – холодно и пусто
молчит простора синева,
и в небе - храма Златоуста
парит сусальная глава.
Четыре золочённых свечки
над хламом хижин вознеслись.
И на любом цветном крылечке
мяучит, пузырится жизнь.
В трущобах – май. Светло и тихо.
Сиреневых глициний вязь
клубится, пенится шутихой,
вдоль стен лианами змеясь…
А под горой – свирепый рынок,
шельмец, барыга, шкуродёр,
клубничной россыпью корзинок
сверкает, как багдадский вор.
О, радужный развал базара,
торговцев алчные ряды,
развалы нежного товара
под оком Синей бороды!
О, южный май в подкове горной,
в цвету иудиных дерев!
И, с мордой царственно-притворной,
ступени стерегущий лев…
Тинто на двоих
В порту Ливорно хрустнул штопор,
в железном корне обломился,
оставшись в пробке от бутылки
доступного в цене вина.
В Ливорно в полночь мы грузились,
два густо-сивых матрогана,
на белый "Моби Дик" – тирренский
десятипалубный паром...
И вопреки плохой примете,
надлому старого железа,
допили мы бутылку с красным,
какой-то хренью закусили -
увы, но явно не сардинкой -
и в полудрёме, под сурдинку,
путь до Сардинии прошли.
Ведь переборки "Моби Дика"
на верных двадцать лет моложе,
чем мой, ещё времён советских,
походный штопор всепогодный,
трудами скрюченный в спираль...
Надёжна молодая сталь,
когда классической идеей
её фарватер осенён!
Вполне целительным был сон
на трёх, обитых красной тканью,
сиденьях "Моби"-корабля.
И утром, в шесть часов, земля
умыла фейс нам влагой-ранью -
держава пробкового дуба,
сушильщица нежнейших губок,
твердыня кодекса камней.
Рассвет к губам подносит кубок,
но да простится шутка мне:
средь скал Сардинии столь сухо,
что, умеряя сушь в гортани,
обречены мы – дань вниманья
вновь отдавать багряным винам,
парадоксально – но сухим...
Открылся остров, как сим-сим,
на сутки. На втором рассвете,
пока сопели сардов дети,
от радостей Санта-Терезы
водой пролива Бонифаччо
до Корсики мы добрались,
два мерина, с рысистой жилкой. -
В пути беседуя "за жисть"
и пробку поддевая вилкой,
той, что в Тоскане мы нашли
два дня назад... Пускай в пыли
змей-резонёр мудрит, свиваясь
в узор кольца или петли.
Но щедрых лоз настой-катализ
живит иных спиралей суть:
опять спешим с утра мы в путь –
во имя солнцепробуждений,
"ля" звонкое беря на грудь,
а также "соль". Пусть нет сомнений,
что горче корсиканских тинто,
кислей чернил солёной почвы,-
скудельной, люто-непорочной,-
я редко что и где пивал...
И всё ж под пинией полпинты
глотну! Решимость правит бал!
И стало быть, ты правомочно
опять тризуб в ручищу взял,
орудье флорентийской стали,
ты, шкотов, такелажа, талей
мастак, умелец-мореход!
Вперёд, философ мой, вперёд,
десятка лет моих попутчик,
по дебрям Логоса лазутчик,
учёный скептик-атеист!
Вперёд, ведь утро – чистый лист,
а капля тинто – старт в дорогу!
И не запить - грешно, ей Богу,
колбасной пульпы запах дикий, –
с добавкой перца и гвоздики, –
кабаньей похоти презент...
В разбойный Корсики акцент
закрался экивок имперский,
но запах вепря резко-дерзкий
дерёт щетиной по ноздрям.
Дикарский дух - и ныне там.
Но мела, но индиго фрески! -
Всю зиму, с шапкой, я отдам
за ту апрельскую неделю
снования по островам,
за тех глотков бродяжьих зелье!
Три пары глаз улыбкой там
откликнулись моим глазам -
попутному навстречу хмелю...
И корсиканскому апрелю,
я, словно кровнику скажу
и словно брату-менестрелю:
«О да, сквозь тинто я гляжу,
но оком прямо в солнце целю!»
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки...
21 июля ... года
С милыми сердцу Ириной, Еленой,
с нунцием папским и юношей Ю
над яркоструйной, индиговой, пенной,
над Карасанскою бухтой парю.
Нунций - чуть лыс и зовётся Эрмано.
Как ни крестись - а двоюродный брат.
О, мой лиловый, сиреневый! Рано
в душу я взял аромат ваш и яд.
Вздымем по склянке пурпурного зелья
и на чужих поострим языках.
Впрочем, случайно и кратко веселье –
не захмелеть и синице в руках…
Боже, земная мне кровней обитель,
но в облаках улыбнись обо мне!
Вряд ли воитель, лишь искры хранитель,
выпью и в волны войду при луне.
Савонарола грохочет за рощей –
метящий время полночный прибой.
Звёзды - всё колче, столетье – всё площе…
Отче! И всё же призри мои мощи,
дай ещё миг –
объясниться с собой.
* * *
Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен
на июльской ладони мне жадина-жизнь подносила.
И когда прогрызёт мне кадык тупиковая плесень,
оживёт в переулке-струне молодильная сила.
Не сказать, как вишнёвых деревьев пунцовые кроны
над забором-горбом ни за грош, по любви, вызревали!
И когда упаду я обломком лепнины с фронтона,
карнавалы красавиц и дружных стрижей фестивали
мне качнутся вослед, догоняя, рифмуя, прощая…
Снова синь грозовая чернильною станет и чёрной.
Над простыми предметами и непростыми вещами
головою качну я в ответ, понапрасну учённой.
А проснусь ли живым – подпою! Ибо выдохи-звуки,
махи пчёл, махаонов, стрекоз, темперируют воздух –
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки
Фредди Меркури шалого – в тающих утренних звёздах...
И лимонница под потолком...
Запах
Бормотун, домовик неказистый,
скособоченный временем том...
Эта книга из рук букиниста
пахнет давним чужим табаком.
Нет, былое в потёртой обложке
я недаром сегодня раскрыл.-
Горьковато-пахучие крошки
встрепенули молекулы крыл.
Чей-то взор, настигающий, смелый,
меткой искрою брызнул в меня,
штрих-пунктирною ниткою белой
дёрнул зуб из молочного дня...
В этом сне моя кожа упруга,
там опять наяву я смеюсь,
ни кривого порочного круга,
ни своей прямоты не боюсь.
Та же нитка на шею надета -
с белым кремнем, омытым в реке.
Налегке беспредельное лето,
бесконечная жизнь - налегке!
Свет веранды. И деда приятель
тем же, давним, горчит табаком...
Вишни красные, белая скатерть.
И лимонница под потолком...
Двое
Как пахла склянка синего стекла –
серебряную крышку открывали
и крошки чая бережно ссыпали...
Какая благость в воздухе плыла!
И льнуло к пальцам старое стекло,
шершавилось узорами травленья...
Всё это и поныне – не виденье,
хотя Бог весть когда уже прошло...
Нет тех, кого любил, и сломан дом.
И десять лет прошло, и трижды десять.
Лишь память не устала прошлым грезить,
июлем плыть над глиной и песком...
И полдень тот всё длится надо мной,
двух верных душ заботу излучая, -
то хрупкою стеклянной синевой,
то пряной ностальгией горстки чая...
Уже грачи любовно стонут...
* * *
Уже грачи любовно стонут,
и трелью трубчатой скворцы
зовут из приземлённых комнат
к паренью листьев и пыльцы.
Уже кряхтят грачи гортанно,
латая хворостом гнездо,
и жёлтый скворчий клюв трёхгранно
остервенел на верхнем "до".
О, крыльев свадебные взмахи
и призменная дрожь пера!
Сирени влажные рубахи,
свеженадетые с утра...
О, переулка хмель зелёный,
киноафиш ковбойский бред!
И отроческий взор - влюблённый
в лазурный,- в пятый ряд,- билет...
Старая конура
Пел ветер - очи с поволокой -
качался в ветках бузины,
и хмель бузинный кособокий
глотал из влажной глубины.
И затопила дни апреля
волной встающая теплынь -
стволы сквозь кожу зеленели,
и вдоль ветвей сочилась синь.
И меж стеклом и ставней дачи
зарделся мотылька фитиль.
А в круге конуры собачьей
роилась солнечная пыль.
Был населён скрипучий ящик,
ледащий, траченный паршой,
бездомной чьей-то, немудрящей,
но вдрызг лучистою душой!
Зане сама себе - алмаз и амулет...
Туристка
Кто рядом с белой плавностью церквей
зажёг цветок твоих лазурных джинсов?
Рублёв Андрей или поэт Андрей
такой находкой чУдною разжился?
А впрочем, нет. Фантазиям предел
положен - тривиальна обстановка.
Ты - отпускница от житейских дел
со льготной профсоюзною путёвкой.
Но от тебя ко мне - суди, казни! -
блеснуло, как разряд, как джиу-джитсу:
медовый колокольный звон сродни
замедленной твоей походке в джинсах...
* * *
С демонизацией поспорит Светлушок -
алмазный пирсинг, местный кастинг у Немышли...
И то отрадно, что лиловый петушок
и ярко-рыжий ирокез из моды вышли,
что ветер-суржик треплет русую волну
твоих волос, копну пшеницы-полукровки,
когда размашисто в двадцатую весну
ты входишь, гибкая, на взлёте котировки.
Поддельным брюликом манящая ноздря
флиртует с хаосом. Но цветик мая Света
глотнёт от дождика и прясть не будет зря
черновиков из белых ниток интернета.
Она, - по вкусу соль и перец, - тет-а-тет
продолжит с тем, кто в этом веке явно пришлый,
зане сама себе - алмаз и амулет
кошачьей радужки, и Пушкину привет -
над руслом Нетечи, над речкою Немышлей...
* * *
Турецких лилий огненные рюмки
на стеблях засыпают утомлённых.
А стебли ног твоих, за флёром юбки,
в своих священных дозревают лонах.
Июньский вечер, негр какаокожий,
плывёт, танцуя, сквозь порочный полис.
Любимый город, на Содом похожий,
допив свой "Бейлис", лапает твой оникс.
Ты - та, что за все баксы не даётся,
но может вдруг, на баттерфляе страсти,
достать до дна пропащего колодца,
чтоб было, чем промыть глаза в ненастье...
На кой же чёрт опять насквозь красивы -
на гибель рифмачу и рок-н-роллу -
и жертвенного горла переливы,
и губ твоих кораллы-баркаролы?!
С апрелем душа неизменно светлела...
* * *
Булыжная глушь – тупиков катакомбы,
проулков тряпьё – заскорузлость извилин.
Реклам допотопных квадраты и ромбы,
лупатых часов металлический филин…
Всё это – тот город, где странно и смутно
сновала твоя угловатая юность,
любить не умея, взрослея подспудно,
в батрацкой одежде бездомно сутулясь…
Но миру ненужные – небом любимы.
С апрелем душа неизменно светлела.
Как пряны весною фабричные дымы,
как звонки стрижей быстротелые стрелы!
Опять лиловела столетняя копоть,
то яблоком пахло, то влагой фиалки.
И новой листвы целомудренный коготь
светил потаённей, нежнее весталки.
И в воздухе веяло – вольно, раскольно.
Дышалось так смело и разом тревожно,
что двух разорённых церквей колокольни
над городом плоским парили безбожно.
И в думы крылатое что-то входило.
И залит был город,- без края, без меры, -
бурливым ли хмелем апреля-кутилы?
Живой ли водой нескончаемой веры?..
* * *
В весеннем гоне - дыбом холки,
ток белены от кобелей.
Вскипают случек кривотолки -
любовный уксус и елей.
Зимовки сор на выброс выгреб
уборщик, ватные бока.
И углерода сизый выхлоп
из-под гузна грузовика
бьёт в шалые мозги апреля
пятикопеечным вином.
Круги чертя у колыбели,
кирзовый мытарь-управдом
грозит и требует расплаты...
Но воздух - колом, синь - винтом!
Но пятна пятницы Пилата -
отмыты праздничным Христом...
* * *
Заросший пруд и селезень зелёный,
по крыльям расплескавший изумруд.
Над тихой ряской, над водою сонной
утиные супружества снуют.
То - снова тягой продолженья рода
охвачена пернатая весна.
И перезимовавшая природа
легко пьяна и благостно ясна.
Апрель, тепло.
И все, кто выжил, живы.
Скворец, взлетая, чуть качнул ольху.
И светятся две вековые ивы
в нежно-зелёном солнечном пуху.
Соском лиловым взбухшая сирень...
Равенна
Флоренция пинками гнала Данта,
и клювом Зальцбург Моцарта долбил.
И ты, мой продувной, ты, без ветрил
сквозняк-степняк, мой град, - понты-пуанты, -
ещё сто лет пиита не простишь
за собственного облика убогость…
Господь и тем являет пастве строгость,
что всех бедней – в Его часовне мышь.
Таков я сам - импровизатор фраз,
жонглёр гармоник, амплитуд и фаз,
знаток с прадавних пор, не напоказ,
бесплатных интегральных исчислений…
Но к камню Данта в солнечной Равенне,
полуденной не оставляя тени,
в гурьбе икрою выметанных масс,
дальневосточных узко-острых глаз
я приближаюсь снова, – здесь-сейчас
иль там-тогда, - координаты зыбки…
Зеницы-осы, бабочки-улыбки
и акварельных ласточек язык.
И здесь же – спутник мой, почти двойник,
пространство крепко взявший за кадык
герой Угры, Бородина и Шипки
и прочих битв на бронзовом коне.
Но маршалы на марше - сон во сне
не мне, другому пехотинцу, в жилу.
Полвека простота моя служила –
кому, зачем?.. «Доколе?» - не вопрос,
зане и ноет шрам, и сломан нос
кастетом. И мотает аритмия
по ямам так, что ямбам не до рифм.
Всё жрать хотят твой ворон и твой гриф,
край отчима, Горыныча и Вия!
Знать, скифа череп сплюснут навсегда…
Но здесь, в Равенне, сонная вода
журчит. Насквозь пропитан полдень солнцем,
над гробом-квадром Данта - гид японцам
лепечет нечто о кругах-путях,
о девяти спиралях-терренкурах,
о свежих, и не очень, новостях,
пропетых в Пятикнижии и в сурах.
И здесь, где далеко за тыщу лет
златятся смальтой своды византийства,
тишь – вдевятеро подлинней витийства,
и девять раз по девять голубь-свет,
спускаясь на лазурный март Равенны,
готов на ноль умножить брендов бред,
тирады поражений и побед, -
лишь пёрышка касаньем... Вдохновенно
с весной бегут по веткам перемены,
сверкает циферблат, как амулет.
И тишью, так похожей на завет,
ложится в память ясноглазый день
в Равенне, где голубка-коломбина
флиртует с тенью Дантовой орлиной
и где сравнима с ядерной доктриной
соском лиловым взбухшая сирень...
Вора к ножу пододвигая...
Воронеж
Вора к ножу пододвигая
иль нежность с вороном кольцуя,
ты весь холмист, словно Даная,
весь звучен, аки "Аллилуя".
Не зря ж египетская птица
про три зимы в ложбине-яме
из-за цветной в окне тряпицы
хрустит подсолнушками в ямбе.
Не даром птичники сховали
щегла-певца в твоё лукошко,
ведь в слободском своём подвале
народный хор кормил ты с ложки.
И неспроста в казачьей круче
взбухала нутряная сила,
та суть, что и в дыре паучьей
Платонова наворожила.
Клянусь, что видел лишь в Тоскане
твоей холмистости подобье -
по цвету, по фактуре ткани,
по свежести толчка в утробе.
И там, где зябь да Винчи, точно
перетекала в пашню Джотто,
я узнавал твои, столь сочно
перемешавшиеся ноты:
овраги, балки, буераки,
чабрец на кесаревой ране,
в сиренях звонницы, бараки,
путейцы, вОроны, собаки
с глазами иноков - все знаки
Господней бугроватой длани...
У оврага
Замёрз, обнищал и в сугробе оглох
февральский потрёпанный чертополох.
Овражное семя, разбойный цветок,
колючей, кусачей материи клок.
Набил снеговей буерака мошну.
Чешуйчатый шарик в руке разомну -
заначка для бедных, кормилец-будяк
щепоткою зерни одарит за так.
Лиловую шапку за лето пропил,
но помнятся гулы малиновых жил,
но зимней морзянкою птичьих кивков
растроганы шишки усохших цветков.
И брат свиристеля, и сторож чижа,
за деревом чёрным замру, не дыша. -
Вернётся ли щеголеватая рать
морозное цепкое семя клевать?
Бессмертью арабесок сердце радо...
Арабески
О, побережье царственных синьор –
Валенсия, Малага, Барселона!
И чуть на север, у Невады склона,
Гранады мавританский влажный взор –
вишнёво-фиолетовый костёр
гранатов, на руке коварно-смуглой,
и берберийский варварский рубин -
ток полноцветья, равного надежде!
На площади соборной полукруглой
За склянкой тинто я сижу один,
как век назад, на том же побережье –
в помятой путешествием одежде,
в утративших невинность башмаках…
И если некий скептик буркнет «Ах,
подумаешь!», мне нечего ответить –
не из смиренья, но по существу:
мне кажется, я для того живу,
чтоб средь вещей отчётливых приветить
то самое, чему одежды нет
под пару. Но вибрация примет,
но к разбеганию узора склонность
как бы скрепляют изнутри предмет
внимания, живят неутолённость
художника. На свой особый лад
и сатана вину флюидов рад,
но это разговор иной… Гранада!
Бессмертью арабесок сердце радо
настолько, что растёт гемоглобин
в анализе моей нездешней крови.
Когда бы не обилие седин,
я сдался бы влюблённости на слове
«Гранада». – Рокотание и рок,
в зелёном и малиновом пророк,
кузен Христу, племянник Иегове…
Как радостно, как жаль, что мой порог
засыпан снегом. Яблочный пирог
в мороз пеку я, «Будь!» пою на мове
и в чёрно-алом не умру алькове. –
Хотя и не спешу давать зарок…
Пролив Каттегат
Зимний ливень, сплошной, беспросветный,
хлещет, словно пришёл навсегда.
Ёрник-Йорик и Гамлет мой бледный,
время - очень большая вода!
Время водоворотом свернётся
в штопор-кукиш и тут же - в цветок.
Или в парус дыханьем толкнётся,
чтоб челнок ободрить на чуток.
И пройду в декабре по проливу,
где на скалах молчит Эльсинор,
где датчанин на шведа бодливо
век за веком взирает в упор.
О, как страстна волна ледяная
в этих холоднооких местах!
Шёл я, зимние воды сминая,
с благодарным теплом на устах.
До сих пор на губах моих оклик
меланхолии той не угас -
грустный Гамлет, усмешливый Йорик,
со свиданием, стало быть, нас!
С повстречанием, кровные воды,
бодрый гребень варяжской волны!
Деды-Одины, внуки природы,
бычьи шапки со звоном казны!
Предрожденственский ангел в каюте
копенгагенского корабля
лепетал, золотясь, об уюте,
но в снегах островная земля
за свинцовым проливом белела.
В серый день - лишь на йоту светло,
но двурогий варяг споро-смело
надвигал крутогрудое тело
там, в тумане времён, на весло...
А ты ль меня, царица, любишь?.
* * *
Опять февральские метели
на шалых крыльях прилетели.
Люблю гульливую пургу.
А ты ль меня, царица, любишь? -
Сугробом заметёшь, загубишь.
И веешь смертное: "Угу-у..."
* * *
Однодневного месяца тоньше
ветка ивы, фигура твоя,
и старинный огонь, - тот же, он же, -
детских губ опаляет края,
чтоб опять эти странные игры
оживляли заснеженный сон -
золотые июльские икры,
плески-лепеты летних времён.
Колыбельного месяца фаза -
свет под дверью, ресница в ночи,
что смахнул с полусонного глаза
ангелок, кренделёк на печи -
пухлогубый, крыло попримявший,
пальцы ног сполоснувший в тазу,
на страницу набоковской "Маши"
уронивший под лампой слезу...
В зимнем облаке - собранность галса,
напряженье полотен ветрил.
Тонкий сборник полвека верстался,
не с тобой я, мой месяц, расстался,
в медном веке, знать, не долюбил...
Ясень снега осыпает...
Первый снег
В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли - но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.
Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признанье мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.
Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я - мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...
Инет
Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице - контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, - с прорехой в перикарде, -
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением - в чип-карте…
Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Темнеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице - фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: тепло ответа -
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!
Пейзаж
Ветер скрипит морозный,
стало быть, неба ветрило
тянет дубовую сушу,
осенью давшую течь...
Ясень снега осыпает
сипло и сиво. - Сивилла...
Точь ли, не в точь - не скажешь,
но шёпоты - речь в речь.
Снега молочную пенку,
льда синеватое масло
стал запивать я стужей,
а пел ведь "люли-июль"...
Веки коры шершавы,
а летнее "глянь!" погасло
на склоне, где целовалась
палевых пара косуль...
Улице - что ж на завтрак,
граду, а так же миру?
В мусорном баке дворняга -
взора торчащий гвоздь.
Пара бродяг подходит,
пришлых, косых, с Альтаира.
Скрежет зубов собачьих -
здравствуй, астральный гость!
Колыбельная
Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике - вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках - и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает - про свой, про парижский, лямур.
Жизнь стращает счетами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз - людоед, самодур.
По сараям - чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам - сёла. Промежду сугробов - кресты.
Олигарховы сны громоздятся награбленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!
В сердце тёплом серебряный гвоздь...
Падуя в марте
Благодарен Господнему саду я -
цветнику и узору камней.
Многокнижница, умница Падуя
повернулась с улыбкой ко мне.
Может статься, не дам тебе ладу я,
седина моя, епитимья,
но гляди – сизокрылая Падуя
молода, как царевна-змея!
Обнадёжена свежею кожею,
тонкой сеткою ромбов, штрихов
и, на вечную юность похожею,
белокаменной кладкой стихов…
Под сутаной плаща долгополого,
чадолюбца Антония гость,
затаил я не мёрзлое олово –
в сердце тёплом серебряный гвоздь!
Ибо там, где соцветие жёлтое
увлажнила весна синевой,
благодарно приблизился к Джотто я
с запрокинутой ввысь головой –
к его фрескам, что мощно возвышены
плоскостями часовенных стен.
Если б вести от Джотто не выжили,
мир окончил бы вскрытием вен.
Воздух Падуи веет заутренней,
молодильною догмой любви,
италийскою звонкостью – внутренней,
растворённой с рожденья в крови.
Воздаётся стотысячекнижию
падуанских учёных камней:
примавера с улыбкой бесстыжею,
донна Падуя, - волею высшею, -
что ни март – колокольни стройней!
Возвращение в Болонью
И вот опять Болонья. - Целый день
брожу по многоствольным галереям,
чья век за веком присягает тень
свечам алтарным, папским орхидеям.
Здесь сукровицей жилистых колонн,
Феррары кровью, колером железа
стволы из камня - без ветвей и крон -
крепят хребет властительного жезла.
Здесь, в лоне тёмно-красных кирпичей,
в виду доминиканцев и Гальвани,
свободен я - ничейный книгочей
с обрывком карты города в кармане.
И пОходя, на тыльной стороне,
на обороте чёрно-белой схемы,
два слова я царапну, внятных мне,
два тезиса растущей теоремы.
Не брат, не ровня шушере столиц,
ни митрам соглядатай, ни тиарам, -
я, всё, что нажил, лишь родству зениц
спешу отдать - от сердца и задаром.
Ведь привкус лжи державной не отбить
вином теологического спора,
и власть, пусть даже книжную, любить
уже не вправе Галилейские озёра...
Пива с водкой любовь бестолковая...
* * *
День-подлинник по-взрослому проснётся,
по-детски пролепечет "С добрым у...",
румянцем расцветающего солнца
помечен, словно встречен по уму.
И скромница, наяда Боттичелли,
из раковины выйдя на песок,
качнёт, под ивой, варвара качели,
рассыпав перлы, нитку-поясок...
День-подлинник в проёмы ранних окон
умчит тебя, в сплетенье тех ветвей,
где махаон проклюнулся сквозь кокон -
наследник династических кровей.
Белея, парусит цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не этой жизни общий случай,
когда б не друг и брат, - не потрох сучий, -
и ты летал бы. - Вволю, между строк!
* * *
Львиного зева лиловая морда
с каплею солнца на верхней губе...
Длинное лето нелучшего сорта
всё ж под конец улыбнулось тебе.
Веет покоем понтийское лоно.
Можно, вдохнув, никуда не бежать,
на широченных перилах балкона
книжку и гроздь винограда держать.
Рядом, внизу, с ленкоранских акаций
не облетел ещё розовый пух.
Можно о малом, своём, усмехаться,
не выходя за молчания круг.
Можно, в конце-то концов, этим летом
ту иль иную из преданных муз
кликнуть. И разбередиться ответом...
Бражники вьются над шёлковым цветом,
осы на вспоротый рвутся арбуз.
* * *
Тоньше усика земляничного,
через грядку июнь-стригунок
сиганёт! Полнозвучья античного
полон летний ребячий манок.
Кто играет на дудке ореховой?
Флоры ль, фауны фавн или Лель?
Ты ли сам – хромосома с огрехами,
вдоль генома божественный хмель?
Пива с водкой любовь бестолковая
золотого взболтают ерша.
Тоньше усика мотылькового,
пульс прочертит строка-анаша –
в небе том, где всё сразу обещано,
в белом мостике через июнь,
в ласке слов оживающей женщины:
«Не спеши – успеваешь, Сергунь!»
Как солон Твой неспешный суд...
Зерцало
Ротвайн, мордоворот-ротвейлер,
дней мусорных водоворот –
в миру, где некто Ури Геллер
то сном, то духом вилки гнёт,
где золотой пилот Шумахер
уверенно сжимает руль,
где сквозь воскресный шахер-махер,
сквозь толчею, снуёт июль
по Благовещенскому рынку,
смоля и скулы и бока
торговкам… Повернись-ка, сынку, -
дай нищенке кусок куска!
Пожертвуй истине копейку,
тризубом меченный пятак…
Братва сменила телогрейку
на аспидный банкирский фрак.
Сменил президиум пластинку,
Протёр иголку КейДжиБи…
Повортись-ка, сучий сынку!
Дворняге-мамке подсоби…
Опять она осталась крайней,
простоволосая страна,
в своей позорно-явной тайне
слезищами орошена…
И мы с нечистым веком схожи,
хоть сера с магмой не текут
по плутовской, в зерцале, роже.
Рабочий человечий Боже!
Как солон Твой неспешный суд!
Памяти Владимира Мотрича
Замком амбарным, правдою ментовской -
облёванный, бухой, но да! - поэт -
на землю сбит... И церковью Покровской
на суржике, по-быстрому отпет.
Поэзия - притвор иль паперть храма?
Изгнанница, за властолюбье псов
ни рюмки не глотнувшая, ни грамма,
она - не пустошь, Пустынь средь лесов.
Когда железом - по зубам, с размаха,
по сердцу, переносью, по глазам,
тогда душа - лишь срам. И вместо страха,
в ней - грех невозвращенья к образам.
Какою мовой Мотрич ни заплачет, -
черёмухой, иной ли веткой вскачь, -
он для кривой часовни больше значит,
чем трезво разлинеенный рифмач.
Замызган, пьян, он мне - роднее брата,
поскольку в нашем общем гиблом сне
навскидку петь - в десятку сердца! - надо
и день считать за три, как на войне.
Понеже каторжанская держава,
на откупе у распальцовки дня,
наследница коротконогой славы,
бьёт небо в очи - железякой ржавой...
Тебя, Христе, кончает! И меня...
С мускатною гроздью возлюбленных жён...
Снова в Каффе
За слепцами, за Фанни Каплан -
очи чёрные, По или Грина.
Освежи мне, кабатчик, стакан!
Вот тебе насовсем моя гривна.
За эсэрами в линзах-очках -
агитатор от жеста и танца...
На железных базарных крючках
розовеет свежатина агнца.
Перламутром мерцает баран,
на рассвете ободранной тушей.
Возвращённою Каффою пьян,
чую cуть я - меж морем и сушей.
Саперави, как избранный труд,
настоялось и терпко, и густо.
В виноградных корзинках несут
молодильное мясо искусства.
Феодосия, Малый Стамбул!
На двадцатое лето разлуки
я опять нашей дружбе вернул
синих гроздей иллюзии-глюки.
Вдоль понтийских портов бандюки
катафалками катят в премьеры.
Но с холма Карантин будяки
вдаль алеют - за хлорку холеры.
И, как ветер с Босфора, хорош
первый день новых, Каффа, каникул,
где начхать мне на нищенства грош
и на притчи порочных Калигул.
Всё бродить бы по склонам твоим -
до утра, до рассветного дыма,
целя дальше - в Эски Кыырым,
в захолустие Старого Крыма....
Эски Кыырым
13-й век, Золотая Орда,
осколок майолики, дзынь-ерунда
из почвы Эски Кыырыма...
Но исподволь жёлтые искры-глаза -
Керим ли, Гирей или Кара-Мурза? -
узор прозревают незримо.
До Старого Крыма за сорок минут
автобус дотащится. Здесь меня ждут
средь дрёмы камней дружелюбной
бурьян и тутовник. И грецкий орех,
томительно-терпкий, как гурии грех,
плечистый, как классик Поддубный.
Доверчива тишь малолюдного дня.
Никто про пароль здесь не спросит меня,
про выход мой из окруженья,
про отчество матери, норов отца,
упрямца, "Шахтёрских" цигарок курца,
про цели и средства движенья...
В упорстве молчанья - глубинная речь.
В обломке керамики - прочность невстреч
разбитого вдребезги века.
И молча в безлюдье былых городов
я вкатывать яблоко солнца готов,
дабы отыскать человека.
А глиняный век, Золотую Орду,
осколок тарелки я в плен уведу,
итожа торговлю пятёркой.
Глазурью - не я ли анфас отражён,
с мускатною гроздью возлюбленных жён.
с курительной трубкою горькой?
И лишь до третьей крови...
* * *
В Москве хохол, а в неньке-Украине
нездешний псалмопевец и москаль,
аз есмь! Аз на крыле еще доныне,
не лизоблюд, не трезвенник, не враль.
Дух дышит, где захочет: в гиблом поле
и в напрочь обесчещенной стране.
Как истина в вине, живёт он в соли
на самом вязком и нечистом дне.
В Европе варвар, на Руси — ненужный
старатель слов и толкователь снов,
я редкий ныне — ибо не бездушный
и не безгласный — из её сынов.
Я тот, кто смеет настоять на праве
любви к своей расхристанной стране —
пусть вопреки недоброй нашей славе
и злой молве, язвящей нас извне.
Ведь Дух живет, где хочет: Достоевский
из петербургских сернокислых зим
окликнут Джотто-флорентийца фреской.
И лишь до третьей крови тон мой резкий
в закланье отдан дням глухонемым.
Не в красных фесках, ни чуть-чуть...
* * *
Давай подружим! - Кофе пить,
преумножая встречи случай,
а звуки наших несозвучий -
и не винить, и не таить.
Давай опять туда пойдём,
где Надя в дружеском наряде,
где зёрен дух печёт оладьи
каким-то давним детским днём.
Вдохнём простой минуты суть,
когда из жареной ракушки
торчат две туркиных макушки -
не в красных фесках, ни чуть-чуть...
Пусть малый прок в беседе той,
где чашки-лилипуты стыли,
где мы кивком, по-птичьи, пили
глоток горчащий и густой.
Всё ткутся дни, всё вьётся нить -
кофейная такая дружба,
когда совсем немного нужно -
вдвоём два слова обронить...
Время смёрзлось, изогнулось, но идёт...
* * *
Мне не прийти к тому, о чём радел,-
ни в многокнижье, ни в четверостишье.
Предел - внутри самих вещей. Предел -
неразличим. На пса похожий нищий
приплюснут так же, как волчара-царь
с кровавыми химерами в надбровье...
А я - всего лишь певчий, пономарь,
поведенный на невозможном слове.
Когда бы не врождённый к речи слух,
я вряд ли жил бы, абсолютный неслух.
И кто ж опять пешком, на верных двух,
идёт, храня семь вер - в губах и чреслах?
По грудь в грязи навязанных примет,
просохну - и судьбу благодарю я
за луч в бойнице казематных лет,
за птиц, будивших поутру не всуе...
Шукай, глупец, магический кристалл,
ищи-свищи средь сущностей облезлых!
Но, чу! Родимый голос вновь достал:
"Ох, чадушко! Ну, до чего же - неслух..."
* * *
От души хрустит предзимье злым ледком,
пахнет стужа роттердамским табаком.
И "Летучего голландца" паруса
брезжат солью сквозь безвременья глаза.
А пространство веет дымом с островов,
бормотаньем пожирателей голов:
"Тумба-юмба, ёпсель-мопсель, вот те крест -
тот, кто съеден, тот тебя уже не съест!
Он, подрезавший копьём тебя под дых,
очень мягок будет к ужину и тих..."
А над степью самоед гудит напев -
Каин под сорокоградусный сугрев,
цепкозубый, ватно-серый, как партком,
хрящик хрупает над братом-простаком.
Десять басен отрыгнувший индивид,
чьей он косточкой височною хрустит?
То моей, с утра, то, к вечеру, твоей,
бог куриный, царь пропащих голубей!
Целлофаном множит хруст рассветный лёд,
время смёрзлось, изогнулось, но идёт.
Только мерин, старомодный и седой,
с гривой сивой, с задубевшею уздой,
в чернозёмной борозде увязнув, встал, -
седока вморозил в синий виртуал,
где с экрана резво множит стыд и спам
на резиновом ходу герой Ван Дам...
Ток зноя, размягчивший циферблат...
Шествие в Бурхассоте
Дон Педро, повелитель Бурхассота,
с террасы озирает Burjаssot,
чьи переулки, как прищур сексота,
чей артишок, - похожий на осот
пучком колючих листьев,- у платформы
одноимённой станции метро
растит шишак-деликатес для корма
гурману. Златотелое зеро
взошло. – Дон Педро, к завтраку готовясь,
как будто собираясь на войну,
опасной бритвой выскоблил на совесть
со щёк и подбородка седину.
Итак, воскресным утром Бурхассота,
над пемзой ноздревато-древних плит,
бравурная воинственная нота
из трёх десятков духовых звенит
серебряных раструбов и латунных.
Я там, в потоке этих маршей, был,
когда, исполнен коренастых сил,
в сопровожденье музыкантов юных,
хозяин Бурхассота, важный дон,
вышагивал заглавною походкой
по валенсийской почве. Яви сон
окрашен был тревожащей и кроткой
ноябрьской приглушённой желтизною
и сальвадорским (понимай – Дали)
природным сюром. Так, вблизи-вдали,
пластично деформируются в зное
все абрисы, обводы, силуэты,
церквей фигуры, контуры дерев…
Спешил оркестр, чеканкою песеты
и россыпью реала дорогой
гремя. Всё прытче мафиозный лев, -
уже с одною доньею, с другой
плыл под руку, угодливой гурьбою
улыбок, восклицаний и хлопков
встречаемый повсюду. Под резьбою
узорных гребней, в кружеве лобков
у гордых доний завитки вздымались
и, вздрагивая нервно, распрямлялись
навстречу фавориту... Бурхассот!
Не каждому пришельцу повезёт –
вдруг заглянуть за жалюзи декора...
Я пробыл час в гостях у Сальвадора.
И русская жена его, ГалА,
любезно отложив свои дела,
с намёком на доверье мне сказала:
«Супруг мой – сущий дон, хозяин бала,
хоть поневоле - мелко-прыткий бес,
за коим не успеть в штрафной площадке
голкиперу. Ну, что ж, как интерес
оставить миру пальцев отпечатки
его проказы метит иногда?
По сути он – всевластная вода,
взбуханье почвы бурого окраса,
бег пузырей глубинного закваса,
ток зноя, размягчивший циферблат.
Он – постулат расплавленного часа,
умноженного на себя стократ...
И, кажется, он – дона Педро брат,
того, что в переулках Бурхассота
столь вдохновенно множит ноль на роль!
У них процент железа и азота
в крови один: о волосках забота,
безжалостно-молитвенный король,
слух тонкий – на конце клинка бемоль...
И полотнянокрылые армады
хранящих Пиренеи кораблей!
И что чернее правды Торквемады?
Что побледневших смуглых щёк белей?
Всепланетные джинсы, дзержинские зубы...
* * *
В мокрый снег упираются хмурые ели,
воют волки в расхристанной скифской душе.
На дворе, что ни день, то дефолт, то похмелье -
одичанье во лжи, беспредел в грабеже.
На Печерск, на Таганку, на шавку-Шулявку -
грех наследья, курганную глину несу.
А бездомную совесть, пастушку-белявку,
растерзали менты в прокурорском лесу.
Как на "хаммерах" к ним подгребли, чикатилы,
братаны, с центровою Венерой в мехах!
Как глушили водяру-текилу что силы,
как плясали на тёплых ещё потрохах!
С мавзолеем милуются ёлки-голубы,
упыри письменами синеют сквозь снег -
всепланетные джинсы, дзержинские зубы...
Хорошо бы пожить. Только - поздно и глупо. -
Ты один среди них. И один среди всех.
Но есть и свежие идеи, как, например, Лилиенталь...
* * *
И мыши в тёплой тьме летают. И спозаранку дирижабли
парят, плавучие, как рыбы, серебряные, как кефаль.
Рождённый ползать множит шоу, рекламные моноспектакли.
Но есть и свежие идеи, как, например, Лилиенталь!
И мы, дружок мой, летним утром дуэтом стансы сочиняя,
коснёмся взором-следопытом тех отдалённых островов,
где на холмах уже созрела оранжевая чашка чая,
где вождь, в ракушках ожерелий, сразиться с духами готов.
Десятком слов по-португальски блеснуть с утра вполне уместно
мне, кто в когорте Магеллана сражался, и хлебал вино.
На всех углах бубнит торговля, но по ухабам почвы местной
биплан движком уже стрекочет, как чёрно-белое кино.
И стрекоза Лилиенталя – пилот в очках и шлемофоне –
трещит, подобно мотоциклу, подпрыгивая над травой.
А за синкопами движения на подлинном июльском фоне
и ты, кузнечик мой, мужаешь, и я с тобой - ещё живой…
Давай взлетать, десятилетний, мой ясенёк, дичок, тутовник,
первейший мой средь чад Господних и махаон, и Магеллан!
Бью о тебе челом – кто слышит? Молчит, не телится коровник.
До судных сфер не долетает фанерный мой аэроплан...
* * *
Возьми же, мой Цезарь-младенец,
полночный гурзуфский простор!
Я был бы в правах пораженец,
когда б не межзвёздный твой взор.
Блаженно цветут лавровишни,
черёмухи южных земель.
Вдоль Будды, Зевеса и Кришны
струится невидимый хмель -
как общая память о Боге,
как истина в чёрном вине...
Как данность любви и тревоги
в тебе, мой царевич, во мне!
Слово о плодах
Жёлтые плоды, шары маклюры
в юно-зимнем воздухе парят.
Над Гурзуфом – вздох колоратуры:
третье января и снегопад.
Два священных деревца ацтека
на отвесной выжили скале.
Кукулькан приподнимает веко:
в руку сон – про бунт на корабле…
Так и ты, к твердыни Генуэзской,
к вертикали камня, над волной
прилепясь, блестишь над бухтой-фреской
объектива цацкою цветной.
Окликая херувимов хоры,
ветви гнёт обильный снегопад.
Золотых тутовников мажоры,
опадая, на уступах спят.
Спелых сфер узорчатое тело –
амулет шагрени и парчи.
Или – теннисистка Габриэлла,
рассмеясь, рассыпала мячи…
Над посёлком типа городского,
«эм» на «це-квадрат», сейчас и здесь,
умножая, оживает слово –
эмбрион сгущенья золотого,
сверху вниз вещественная весть...
Музыка, нежная дочь огрубевшего быта...
* * *
Хрустел мороз орехом грецким,
крещенский снег слезой слепил,
когда в Москве, на Павелецком,
я прозу Осипа купил.
Ау, «Египетская марка»!
Тебя касаясь языком,
папирус, парусник подарка
леплю в мальчишеский альбом.
И будто бы в цвету маслина
благоухает день и ночь
и знойный привкус сарацина
среди снегов не превозмочь…
О, вольность песни! – Антитеза
и умника и дурака.
Ожог январского железа
сдирает кожу с языка…
* * *
Издали музыка слышится, с круга катка,
через февральскую влажную тьму пролетая.
Ты мой хранитель, живое крыло у виска,
музыка, муза, невеста моя золотая!
Что бы я делал в покинутой Богом стране,
на ледяном бездорожье ломая копыта,
если бы ты на плечо не слетала ко мне,
музыка, нежная дочь огрубевшего быта?
К чадолюбивому кругу катка доберусь,
вправо на звук повернув по бугристой дороге.
Вот он, стального конька ярко-хромовый хруст,
в белых высоких ботинках девчоночьи ноги…
Дальше иду – снова ноша легка и тиха,
легче богатства залётных и местных абреков.
Здесь, где темно, ты живёшь в ипостаси стиха,
музыка, муза, вернейшая из человеков!
То вновь, до любви, понимаю...
* * *
М.
Мой маленький мальчик, игрун и шалун,
в узорный звенит колокольчик.
За окнами бродит мороз-колотун,
зубами скрипит, как подпольщик.
За окнами – криво сколоченный мир,
предместий батрацкие сотки,
провалы в асфальте, синюшный кефир
в слабеющей старческой глотке.
Когда-то двойник мой хотел убежать
в леса могикан и апачей.
Я здесь. Но кому пятерню мне пожать
на лестнице драной кошачьей?
За окнами тысячелетье и век -
опять не по нашему Сеньке…
Когда б и рискнул я на новый побег,
убили б за старые деньги,
убили бы - за достоевскую жизнь…
Здесь вечный сюжет окаянства –
куда изощрённей, чем Брейгеля кисть,
здесь время - лишь эхо пространства…
Сугроб да погост – гробовая страна,
которую с плеч не снимаю,
то в голос кляну – ни покрышки, ни дна! –
то вновь, до любви, понимаю…
Тебе, мой птенец, не случайным гостям,
тебе, моё ясное око,
я медный бубенчик по льдистым путям
в кармане привёз издалёка.
И вот бубенец наш средь хвои звенит,
на нитке багряной подвешен,
и город к сочельнику снегом укрыт
и сызнова – небезутешен…
Цветком ли аукнется зимний звонок,
синея средь русого лета?
Тогда, мой дружочек, я буду далёк
от ярко-зелёного света...
Но если б в лугу, средь огромного дня,
под колокол, с горки плывущий,
ты понял на миг, что лишь з д е с ь для меня
возделаны райские кущи!
Красной маркой на белую почту...
* * *
На зубок бы хрустящей зимы -
чарку снега, горбушку мороза!
Вылетай, снегирёк, из тюрьмы,
роза дыма, рябиновки доза!
Нету музыки - тише, чем снег,
усмиривший пропащую почву.
Снегиря подоспел оберег -
красной маркой на белую почту.
Снежной Библии свеж переплёт.
На медвежьей губе шевелится
зимний лепет про тёплый приплод,
про священных детёнышей лица.
Бритвой стужи обрежу петлю -
в синий купол взлетит осиянно
царь-снегирь!
Не ловлю, а люблю.
Не напрасно люблю - первозванно!
* * *
Мчится по снегу к метро на свиданье
пресовременнейшее созданье.
Льдинкой скользит европейская мода,
мода вчера наступившего года.
Брючки – банановее банана.
Но до чего ж ты по-русски румяна! -
Словно крестьянское спелое утро,
словно реликтовый воздух у хутора.
Как озаряет нездешние тряпки
взор луговой – повторенье прабабки!
Ласковый мехом, собольим и куньим,
радужки свет, отражённый не втуне…
Ах, как плывёт вдоль стекла, вдоль витрины
луч дароносицы, чао-бамбина!
Ясно-зимний Гурзуф чуть звенит во мраке...
* * *
В пять часов - ни души, ни бродячей собаки
в темноте тридцать первого декабря.
Ясно-зимний Гурзуф чуть звенит во мраке,
золотые глазища за так даря.
В каждой лавке кусок - кусает однако,
шкуру с позднего путника всласть дерут.
Лишь зрачок огня во вселенстве мрака -
и цветок на грудь, и значок за труд.
В зимнем воздухе угольный выдох дыма. -
Так полвека назад из белёной печи,
от забот твоих, милая, неопалимо
обещали румянцем цвести калачи.
Сквозь пространство и запах приходит, и привкус -
полнотой возвращенья утрат щемит.
Ясно-зимний Гурзуф - самоцвет на вынос,
самопал, воссиявший от искры быт...
31.12.2008.
Набоковской и пушкинской породой...
* * *
Чтоб в слове это время отстоялось,
весь этот подло-неизбежный век,
я, обречённый прозе человек,
держусь упорно за родную малость –
за право окликания стихов.
На мне ничуть не менее грехов,
чем жёлтых клякс на ваксе саламандры.
Но я не стану петь, обрившись, мантры,
ломать суставы для бенгальских поз.
В широтах наших - всё ж иной мороз
и свой набор целительных настоек.
Нам крепость фраз иная по плечу:
пошлю – так разом душу облегчу!
По матери наш Пересвет и стоек,
хоть не всегда устойчив по отцу…
И , что нам при любой чуме к лицу,
так это мягкость черт лица и речи,
июльский запах земляничных губ
славянских жён. Опять, в крови по плечи,
гуляет Русью свойский душегуб –
ордынец, Боголюбский, Джугашвили –
конь судный скачет задом наперёд…
Но озимь над блудилищем взойдёт –
и распашонку вновь мальцу пошили
всё те же руки матери святой.
Скажу: лишь этой кроткой красотой
мы Господу глаза и освежили…
Его сроднили с нами напрямик
Мария-дева, мать, и бабка Анна.
Предание это – достоверней книг.
И в день Усекновенья Иоанна
пророческой взлохмаченной главы,
средь сентября, в безмолвии травы,
я не смолчу: « Осенняя осанна
вам, матушка моя, жена и дочь!»
А пагуба безбожья – только ночь
с больною, беса тешащей, погодой…
Но смута байстрюков своих пожрёт,
и неразменным воздухом высот, -
набоковской и пушкинской породой,-
день завтрашний не сможет пренебречь.
Мы всё таки чисты заглавной нотой.
Не мне и не сегодня клясться одой,
но, может быть, об этом – речек речь…
Бог Нахтигаль редко влетает...
* * *
Водчонку ласкал, "Изабеллу", а также "Мерло".
Как много, однако, сомнительных ингредиентов
на скорбную карму, на кроткую печень легло...
С другой стороны, много вспомнишь ли в жизни моментов?
Бог Нахтигаль редко влетает в удушливый быт,
в холерный барак коммунального правопорядка.
А, если влетит, сам по-русски себя материт
с немецким акцентом и плачет солдатской украдкой.
Где Гансу - капут, там Ивану - щелчок не всерьёз,
там дверью театра абсурда примят Ионеско.
Нет смертнее здешней тоски, нет фатальнее слёз. -
Вот, чёрная с серым, с размахом до полюса, фреска!
Воруют и грабят. Всевластвует сброд торгашей,
банкиров-вампиров и килеров с нищих околиц.
И, что за фату Марь Иванне, невесте, не сшей,
стреляйся на свадьбе, жених, Иоанн-доброволец...
* * *
Никого ни о чём не проси,
за пожухлую быль не цепляйся,
за кривое железо оси
в околесице дробного пляса.
Жаль чего? Разве радужных пчёл
на пиру травяного июня
да сверчка во хмелю маттиол
в голубом молоке полнолунья?
Разве тени ступни на песке,
бесполезно-жемчужного сора,
пряди русой на детском виске
да ничейного нежного взора?..
Вот и всё... Ни о чём не моли -
обнимись с корешками кривыми,
что грызут в поднебесной пыли
земляное шершавое вымя...
Но сон тот русский – водкой я запил...
* * *
А ситный и бревенчатый Тамбов,
державинский и нежно-недержавный,
мне стал ценою в семь иных томов
и в семь стихов сердечной рифмы плавной.
Туда забрел я в лютом феврале
и завязал ондатровые уши
своей ушанки, ибо день мелькнувший
сменила ночь на ледяной игле.
И я бродил там в полночь по снегам –
по колко-ломким, вороным и белым.
Патруль румяный с волкодавом смелым –
вот весь народ, что встретился мне там
на улицах. Студеная страна
меня с немой угрозой окружала,
но я той ночи ножевое жало
смягчил глотком пшеничного вина
в гостинице, где беженцы, лишенцы,
шалавы, погорельцы, окруженцы
бродили меж ободранных колонн.
Какой-то вечный погребальный звон,
какой-то запах гибели, эссенций
заполнил все четыре этажа,
ступеней винт с почившим в бозе лифтом.
Чечены оттопырившимся клифтом
мелькнули, не по-здешнему жужжа...
Но сон тот русский – водкой я запил
и вышел на трезвейший зимний воздух
в огромном просветленье. Редкий роздых
в моем самосознании царил.
И в трех шагах от скопища грехов,
по кручам Цны-реки заледенелой,
белела плоть церковных теремов,
беременная верой неумелой.
И были звезды слезно хороши
над храмом Богородицы Казанской.
Мы – волчьей крови, брат тамбовский, брянский...
Но в эту ночь, душа, нежней дыши!
К Нижнему Новгороду
Сосны, ельники, березняки
в крепко-хрустком снегу по колено.
Диким мехом блестя, битюги
тащат сани с поживою сена.
В стылом поезде мчу на восток,
греет вены пространства глюкоза.
Предзакатного леса висок
тронут розовой злобой мороза.
Января ледовитый янтарь
преломляется в царскую бритву.
И шатровая звонницы старь
молодую лелеет молитву.
А на круче, излуке реки,
срубы брызжут расколотым светом.
То из шуб пугачи-мужики, -
и бревенчаты, и высоки, -
острозубым сверкают приветом...
Подмосковье
Горит рябиновою чаркой
крутое чрево снегиря –
сквозь ярко-белый, сине-яркий
ядрёный воздух января.
Сквозь опушённых веток сети,
нежно-берёзовую вязь,
глядят три луковки, как дети,
под колокольней золотясь.
Ледышка-электричка катит
равниной снежною к Твери.
Моргает вслед, седой, как прадед,
кассир с платформы «Снегири»…
Я в силах лишь оставить примечанья...
ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА
Там, меж пивным и обувным ларьком,
на фоне труб секретного завода
вскормил меня главком с большим курком
послевоенным жилистым куском,
вспоил нарзаном из водопровода.
И там от материнского лица
я не сумел наследовать румянца,
но взял я смуглость кожи у отца,
тяжёлый взор и ощущенье танца,
а стало быть, и ритма речевой
конструкции, внезапно приходящей...
Зачем-то вновь в медвежий угол свой
стал приезжать я. Что ни год, то чаще.
Зачем - невесть, ведь сорок с лишним лет
тому назад с окраины восточной
я съехал, прихватив как амулет -
о своенравном школьнике сюжет
и перлы речи, непечатно-точной...
Там, меж киоском с "Резкою стекла"
и заведеньем "Украинськи стравы",
минута воробьиного тепла,
пора адреналина прочь ушла,
оставив на губах налёт отравы
тончайший, как церковная сусаль,
микрона, может, три или четыре.
И пролетарий, закалявший сталь,
теперь лежит в застуженной квартире
(в той, где из крана пил я в прежнем мире)
один - под одеялом, под пальто
поверх прорех и клочьев драной ваты. -
Лет семьдесят в чугунный суп не то
всыпали, что завещано когда-то
Потопом, Моисеем, наконец,
Назаретянином золотоглазым.
И ты распят, больших гвоздей кузнец,
ваятель ГЭС, воспламенитель ТЭЦ...
Абсурда пьесы не постигнет разум -
ведь сценарист с утра до ночи пьян,
Тмутараканью-сценой пляшет холод,
и,- режиссёр обкурен иль наколот,-
но роли те же: карлик-истукан,
гранитный фал асфальтовых полян,
и Люцифер двустворчатый и Воланд
во всадниках наследного вранья,
в батрацтве вековечного молчанья...
Невыносима тяжесть хроник дня -
я в силах лишь оставить примечанья.
Лишь зябко ждать, что зимние слова
не канут в глину-оторопь, в удушье
юдоли той, где не бросаю гуж я,
окраины, что Бог весть как жива...
Оттого прорезался во лбу неулыбчивый глаз...
Перо
Лишь с летящего почерка всё начиналось когда-то,
лишь со взора ревнивого, с юной, до дрожи, руки.
Под лиловою строчкою выцвела давняя дата -
Рим и Трою с тех пор поглотили снега и пески.
И полмира с тех дней в деревянной тяжёлой одежде
на плечах домочадцы и други во тьму унесли.
Странно жить и теперь, но тогда, но в мальчишеском "прежде",
трепетала душа, отрываясь от вязкой земли.
Оттого и врастали в перо неумелые пальцы,
оттого прорезался во лбу неулыбчивый глаз,
что мы все, как один, на минуту по свету скитальцы,
и уже через миг будет некому вспомнить о нас.
Шевелятся разбухшие, вечножующие, туки
погребальных холмов... И на каждой юдоли - тавро.
И за воздух хватаются новорождённые руки,
чтобы некая птица в ладонь уронила перо.
Снеговей – свежемолотый кофе...
* * *
Хриплый Харьков, торгаш и картёжник,
дёрнув двести, гордится собой.
Под холмом Журавлиным художник
спит в обнимку с промёрзлой судьбой.
А на Лысой Горе, на Голгофе,
за Холодной, тюремной, Горой,
снеговей – свежемолотый кофе,
и мерцает во тьме аналой.
В честь Казанския Матери Божьей
освящён краснокаменный храм.
Век мой – зимний, но я–то - всё тот же,
вновь по-детски внимающий вам,
вам, в Сочельник раскрытые двери,
снег, оклада иконного блик,
запах грусти, надежды, потери
и Марии хранительный лик!
В зимний вечер – тоска изначальна,
сквозь метель всё былое видней,
а душа – просветлённо печальна
в ожиданьи Рождественских дней.
Век мой отдан без спросу Иуде,
но, пока не занёс меня снег,
лепечу о прощении-чуде
в непрощаемый Господом век…
И ангельски уснули дети...
Вагон 30-го декабря
Трамвая щуп искрит бенгальской медью,
летит огонь, крылат, раздет, разут.
И елки, будто связанных медведей,
по улицам заснеженным несут.
Вновь этот воздух – спирт предновогодья,
круженье чуть подвыпивших надежд.
Из тьмы сияют ясеней угодья,
играет иней их бровей и вежд.
Весь этот город – крыши, арки, бреши –
облагорожен снегом на корню.
Сосновым духом густохвойный леший
щекочет ноздри и гортань мою.
А их все тащат, чудища, в трамваи –
взъерошенных, опутанных тесьмой!
И я, трамвайный номер забывая,
никак не вспомню – пятый ли, восьмой…
Все иглы рядом едущей сосенки
ерошу соумышленной рукой.
И пахнет мир смолисто, колко, звонко,
вчера еще заморенный такой…
Новогодье
Гирлянды множат в темноте
блик флорентийца Гирландайо...
Но все мы сгинем в пустоте,
подобно инкам или майя.
Вновь амальгамы дребедень
мерцает в заоконном свете.
Вздыхает сонно хвои тень,
и ангельски уснули дети.
Вновь счётчик щёлкнул невпопад,
мелькнул виток пути земного...
Но, слава Богу, рядом спят
те, для кого - опять всё ново!
Между пламенем жёлтым и белым морозом...
* * *
Между пламенем жёлтым и белым морозом
возникает бубенчатый зов Рождества,
между слабым ответом и вечным вопросом
быть не может и нет никакого родства.
Но и то хорошо, что морозно и снежно
в некрещённой и тысячезвездной ночи.
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно
то ли имя души, то ли пламя свечи.
А когда пеленает Мария младенца,
очи добрых животных лелеют вертеп,
и ягнёнок, ложась, подгибает коленца,
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,
а Иосиф ладонью потреплет руно,
чтобы агнец тучнел, завитками белея,
ибо взыщет горячего мяса вино.
Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –
ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон,
и назавтра во всём Вифлееме проснутся
чада, камни, смоковницы новых времён.
Между жизнью короткой и правдою долгой
прохудилось до дыр одеяло родства.
Нитка рвётся, и палец изранен иголкой...
Но студёная ночь дышит хвойно и колко,
но трепещет в пещере огонь Рождества.
Винопития в Провансе
1.
Капни, сестра, на зубок мне прованского масла –
выпил я тёмного, пару стаканов, вина.
То, чем сиял Авиньон, и теперь не угасло:
белого папского камня крутая волна.
Правду сказать, я провинций упрямый поклонник.
Шлюхи в столицах – намного дороже и злей.
Хной виноградников Арля окрашен мой кровник,
охра и крон понабились под ногти с полей.
Братец Винцент мой, затюканный и одноухий!
Не до художника миру, и в трезвом миру –
что в Авиньоне, что в Арле – надёжней под мухой,
лёгкой, идти, отвергая любую игру,
кроме игры колеров или звуков и пауз,
кроме того, что ни франка не стоит, ни су.
Рядом, у моря, – забросивший камбалу в камбуз,-
cнастью Марсель шелестит на ветру, на весу.
Белого папского замка крутая громада!
Всё же тебя, Авиньон, оживлю средь зимы,
ибо Марселя, бандюжно-биндюжного града,
в редком порту не найду я огни и дымы…
Капни, сестра, на язык мне оливковой сласти.
Как бы Прованс не любил я, Тавриды жилец?
Эти края средиземноприморского счастья
Фебос родил, многодетный понтифик-отец!
Было бы странно к старинной любви не склониться
и не хлебнуть под платаном – над Роной-рекой…
Встреча, не первая, эта двоится, троится…
Капни на губы мне капельку крови, сестрица,
смуглая дева с походкой знакомой такой…
2.
Так вот, где сёстры-ласточки зимуют...
Так вот, где сёстры-ящерки пригрелись!
Я помню их на Северском Донце,
в песке прибрежном, в жарком чебреце...
А здесь - Прованс. Но те же блеск и ересь
в смарагдовом покрытии самцов,
достойном королевского покрова,
и та же скромность самок... Что, как снова
от виноградных прихлебнуть сосцов,
то бишь, от гроздей, - красного, к примеру,
хранящего традиции вина?
Со скал марсельских празднично видна
морская ширь. Мы вправе выпить в меру,
товарищ мой, скептически седой
учёный муж, с ухваткой морехода!
И выпьем, ибо ясная погода
стоит над бирюзовою водой
марсельской бухты. Над губой Вьюпорта,
над островом с тюремным замком Иф,
над всем, что есть волнисто-синий миф,
волнующий и Господа, и чёрта... -
Таков Марсель. Он хуже, чем Прованс,
его родивший. - Жёстче и разбойней.
Давным-давно, не погнушавшись бойней,
он взял и держит свой богатый шанс...
Но проку нет - стенать. Теперь с вершины,
я наплюю на дерзость грабежа,
ведь здешний урка не унёс ножа
заветного из взломанной машины...
А изумруд разбитого стекла
за триста франков выгребли с сиденья
ремонтники-арабы. Крепнет мненье,
что рана от разбоя зажила
или, по крайней мере, заживилась...
Итак, опять наверх, попутчик мой!
С вершинных глыб скалы береговой:
морского вида - необманна милость...
И вот, где сёстры-ящерки снуют,
где ко двору их юркие смарагды! -
Бойцовых стен свищи и катаракты,
травы и муравьёв подпольный труд...
Вот здесь и был зачат циклоп Марсель,
когда со скал прибрежных зыркнул эллин,
над гаванью, над зеленью расщелин
белейшую замыслив цитадель.
Простор, простор! - Босфор и Гибралтар
приотворю, как две калитки сада.
Глотнём вина! - Кто принял вечность в дар,
тот не умрёт от крови винограда.
Шуршит олива: "Средиземный сад" -
о средиземноморском побережье.
С её ветвей я брал елей и прежде
и синь черпал у тех и этих врат...
В пространстве брезжит отголосок нот -
прованских дев или гречанки Каллас.
Всё, что прошло, в оставшемся осталось.
И маяка циклоповидный фаллос
взбухает и любви от бухты ждёт...
Письма с крымского балкона
1.
На прямую надеяться, друг мой, сегодня нелепо.
Повезёт, если вывезет часом дорога кривая.
Разлюбил я все зрелища, стал не охоч и до хлеба.-
Календарные тихо записки-листки обрываю.
Между скифами слова незлого и встарь не водилось.
А на днях, и подавно, добро отменили декретом.
Если снег упадёт, я вполне оценю эту милость,
хоть июльский я фрукт, и согреться могу только летом.
Всё трудней приезжать мне к желанному некогда морю.
Одиноко вдвоём, одиноко на людной гулянке.
Длится время во мне и снаружи. Подобному горю
не помогут дельфин говорящий и Ельцин на танке.
Подметаю балкон, и шуршит бородатый мой веник,
но посланье к тебе, уж поверь, завершаю при этом.
Если знаешь, где взять хоть на зуб неотравленных денег,
поделись и со мною своим кулинарным секретом.
Уж кого ни читали мы, брат, на приморском балконе,
что за образы ни воспалялись в лирическом сердце! -
А в загоне не те. И не те, особливо, в законе...
Впрочем, каждому - свой, как сказали бы в Риме, сестерций.
Что до Рима, увы, - продолжаю ценить понаслышке.
А вприглядку - любуюсь отчизной в разобранном виде.
Допускаю, однако, что дома метафор в излишке:
здешний воздух шершавый глотнул напоследок Овидий.
Прекращаю писать. Не хотел бы прослыть говорливым.
Не пристало нам, друг мой, к сединам дружить с болтунами.
Время к вечеру клонится. Юг остаётся красивым.
Шума больше, чем прежде. Но нету угрозы цунами.
2.
М.
С монголфьера-балкона, - в хлопчатых бывалых шортах,-
в час сиесты сочувственно вслушаюсь в родственный шорох
стихотворному ритму нечуждой волны понтийской,
работящей близко. И с берега этой запиской
о тебе, наследник мой льняноволосый, вспомю.
Ибо я всё ищу своему землепашеству ровню -
там, в минутах свиданья на улице Жён Мироносиц,
где решает отец с нежно-розовой мамой вопросец,
и в другой стороне - в сочленённой из пик ограде,
где простится мне всё, и Христа, и язычества ради...
Где оставлю в осадке я, максимум, дюжину стансов,
для которых прочтенья без желчи и реверансов
я хотел бы. Но, впрочем, желание это
есть типичный симптом для невольника чести, поэта...
Извини мне, дружок, этот месседж в конверте из Крыма,
где связались пути, те, что далее вьются незримо
до родных островов, где на эллинских скалах я вырос,
хоть по-гречески помню лишь альфу, как Папасатырос...
В сернокислом году этом, - от несварения Феба, -
обжигающий зной изливается в августе с неба,
и в цветах ленкоранских акаций размножился бражник,
мотылёк, толстобрюхий, как честного вора бумажник.
Но тугая вода, но первичного лона стихия,
где и вволю грешил, и смывать порывался грехи я!
И для взора просторного, и для широкого вдоха -
хорошо! Яко Кормчий сказал - хорошо, а не плохо!
Оттого, эллин мой, мне бы очень и очень хотелось,
хоть и глупо мне брать на себя ожидания смелость,
чтобы день наступил, когда плыли бы молча мы рядом
в параллель Партениту, смоковницам и виноградам,
у границы буйков по сентябрьскому синему Понту,
вдоль отвесного берега, - не к миражу-горизонту, -
а вдоль спелых пейзажей из зелени, охры и мела,
вдоль крупитчатой правды, что не изолгаться посмела.
Ибо в старом пароле, ещё не отжившем, - "Эллада" -
на свой лад, но таится пропажа семейного лада...
Крепчает смысл гекзаметра без слов...
Икона
Ничего у нас нету с тобою,
кроме этих, студёных до слёз,
перебранок собачьего воя,
перехлёстов заснеженных вёрст.
Кроме с неба по-волчьи глядящих
ледовито-зелёных зрачков,
тех, что знают насквозь нас, пропащих,
нас, не видящих букв без очков.
Под порогом отступника-дома,
кто родил нас, истлели давно.
Грех наш - долог, и хлеб наш - солома.
И стакан наш - прогрызло вино.
Полночь бьёт. В скрежетании боя -
пёсий брёх, прокурорский язык...
И за что нас прощают с тобою
лик Марии и Первенца лик?
* * *
Но лето - лицемерно, словно жизнь.
Честней зима. Она смертям роднее.
В каком лугу с красой ни закружись,
а дольше лета не поладишь с нею.
Теперь, когда ни явь, ни зелье снов
не льнут к губам, ещё недавно смелым,
крепчает смысл гекзаметра без слов,
узора на стекле заиндевелом.
Теперь, когда зовут отец и мать
на берег свой, под полуночный полог,
что дому опустевшему сказать,
вселенскому сиротству книжных полок?
Земляника со сливками
* * *
Пока я в скафандре летал на Луну и обратно,
ты делал негромко большое и нужное дело:
в аренду сдавал нефтяные и белые пятна
и нежное грёб - земляника со сливками - тело.
Покуда мой горн золотился на синей ступеньке
и утро трубил вертикально во здравие неба,
ты в рост отдавал мертвецами пропахшие деньги
и ставил азартно на скупку металла и хлеба.
Как всё это - дико-обвально, неправдоподобно:
ты выел мой мозг и растлил мои лучшие ноты!
Удобно ли в «Мерсе» тебе за бронёю? - Удобно!
Совпали твои и убойного века частоты...
Нет ЗАхера глуше, чем недоуменье обиды,
и МАзоха нету черствей, чем засохшие краски.
И воздух усох, и осыпались кариатиды,
и с кожей маржу чикатилы дерут, дерипаски…
Словно не жизнь проиграл я вчистую...
* * *
Вновь подступает средь ночи зима,
белым ложится на чёрную землю.
Равною мерой, что будет, приемлю -
посох ли пОсуху, сУмма ль - сумА.
В мокрую глину, в ноябрьскую стынь
падают конники и пехотинцы.
Мёртвых венков - ярко-дики гостинцы.
Я бы хотел к изголовью - полынь.
Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну - и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...
Топография
Безвыходность сочится в душу
из-под ребра, из-под земли.
Сосут щенками суку-сушу
причалившие корабли.
И видно с птичьего полёта,
как нашу плоскую юдоль
знобит шагреневая квота -
под почву въевшааяся соль.
А солнце бьёт в глаза пилоту,
блестит дюралевым крылом
и нас не видит ни на йоту -
под острым, вдоль нуля, углом.
Снежное что-то, Сибелиус, Григ...
Каникулы, январь 61-го
В старом Ваганькове дремлет Никола,
Сергий-отец во Кропивниках спит.
Снегом ночная усыпана школа,
бдит у дубовой двери инвалид.
Ты бы пустил меня поночевать бы,
строгий полутораногий боец!
Кружит Московщина вьюжные свадьбы,
зябнет в Кропивниках Сергий-отец.
Жив ли тот город, усыпанный снегом,
береговой острогранный гранит?
Группа подростков - в мышином и пегом -
адрес ночлега найти норовит.
Брызжет январь нереального года
свежею бронзой декретных монет.
Два мертвеца, не уйдя из народа,
пьют сквозь хрусталь электрический свет.
Штык подмерзает, Блаженный Василий, -
краснокирпичная пыль на зубах, -
к небу вознёс, вне законов и стилей,
сорок шеломов, тюрбанов, папах.
Живы ль пловцы допотопного часа? -
Пар на Волхонке, купальни огни
там, где собор первородного Спаса
сломан во дни чечевичной стряпни...
Где-то здесь, рядом, ночлежная школа -
двор, весь в сугробах, на вахте старик.
Снова играет каникул виола
снежное что-то: Сибелиус, Григ?
Или же просто московские ночи
дуют в метельный и бодрый рожок,
гонят по вене гормоны, пророча
завтра — стальное, как дизель-движок?
Был ли тот мальчик? Что с девочкой будет?... -
По истечении множества лет
те, кого утром будильник разбудит,
очи промыв, не припомнят ответ...
Только лишь те, из чертёжного класса,
кто по дороге в сугробе замёрз,
там, на Волхонке, в музейную кассу
сызнова станут — сержанты запаса,
волчьих пальтишек повытертый ворс...
Или молился менее, чем мог...
* * *
А.И. Шелковой, умершей на 97-ом году жизни
Тем прежним дням давно пришёл конец.
Иссякла теплота живого круга...
Зачем же, седовласая подруга,
я всё пытаюсь удержать багрец
протяжной осени? Я мог бы рассказать,
как мы с тобой друг другу улыбались,
когда ни хворь, ни нищенство, ни зависть
нам не мешали варежки вязать
семейных дружб. Застольных вечеров
белела накрахмаленная скатерть.
Ещё алтарь, юродив, словно паперть,
и отрок в кумаче ещё готов
принять и горн, и звонкую присягу
тиснёным нечитаемым томам,
гугнивым государственным умам
и помидорноколерному флагу...
Ещё я сам доподлинно горжусь
отечественным ловким луноходом.
Но, говоря с собою неким кодом
ритмическим, я в службу не гожусь
на море, на орбите и на суше,
а также в тех ответственных местах,
где методом баланса на хвостах
полцарства околачивает груши...
Там, Саня, ты и вправду молода!
Тебе всего лишь семьдесят в субботу.
И праздничную вынянчить заботу,
свистать к столу, фамильному оплоту,
ты, по привычке, рада и горда.
И тесный круг тот, скатерти крахмал,
приборов мельхиоровые звоны -
и есть единокровия резоны...
Кто мне рукой оттуда помахал?
Простите мне - я не всегда был тот,
кого, быть может, видеть вы хотели.
Но, буду ль я неплох в пристойном деле,
негромко вспомню вас, мой строгий род.
Петра, Ивана - старших братьев... Спи,
последняя, из всех восьми, сестрица!
Спи, Александра, Пасха ли приснится -
лазурное яичко облупи.
Что помнила, не скрыла. Сберегу
слова, на снимках молодые лица.
Спи, Александра, Троица ль приснится,
приди к огню на тёмном берегу.
Мала игла, и спутан чёрный стог.
И был мне грех - я проводам учился...
Простите мне, о ком не помолился
или молился менее, чем мог...
Ночь в Феодосии
Дозревает лоза во дворе на холме Карантин.
Итальянского угля-зубца не предаст цитадель.
Золотятся и тают наплывы закатных картин,
и по жилам кружит и пружинит пожизненный хмель.
Хорошо мне во тьме ничего для себя не хотеть,
доверяясь нездешнему пульсу полночных минут.
Там, где гавань с холмом океану сосватали твердь,
растворяются в вечности зыбкие "ныне" и "тут"...
И уместится в верности тысяча жалких измен,
чтоб занозой-звездой стал меж датами жизни дефис.
Тени гроздьев исчёркали мел голубеющих стен,
и вдоль глин Карантина хромают репейники вниз.
Хорошо мне с хозяйкою лоз полчаса разделить.
Не беда, что не пьёт, не глотнёт ни слезы "Пино-гри".
Столь полна эта тишь, что пуста говорения прыть.
Я и сам не сболтну, вот и ты промолчи, мон шерри!
Я в числе не совру, разве в ноте пугну петуха.
Недозрелою ягодой поздний стакан закушу.
Оттого моя повесть о жизни - не то чтоб плоха,
но всё сносится мутью теченья ко лжедележу.
У подножья холма лижет синюю глину волна.
Деревянные рыбы баркасов увязли в песке.
Ну, а здесь, наверху, над репьями парит тишина.
И заноза под ногтем ни мне, ни тебе не слышна,
и зубец цитадели не пискнет у ночи в виске...
И я никому не звоню...
* * *
И я никому не звоню,
и мне не звонят, не спешат...
Воздушные авторы ню
под почвой тяжёлой лежат.
Они раздарили свой дар -
и колер, и голос, и пыл.
Похоже, и я, куховар,
похлёбку свою доварил.
Межбровье прорезал стигмат,
но губы мне склеила соль.
И что-то мне в уши цедят,
что надобно слышать... Изволь,
прими дорогие слова -
сглотни и мышьяк, и дурман...
Сыновья болит голова -
Иван, и по батьке Иван.
И отчества Грозен удел,
и вотчин дичает размах.
Я чистое молча надел
и сжёг десять тысяч бумаг.
Но разве, когда я умру,
спалю свою дурь на корню,
мне будет звонок поутру?
Иль сам я кому позвоню?
* * *
Лягушки закурлыкали легато.
Псалом ожил средь рясок и осок.
Как речь родная гласными богата!
Как подлый край мой - светел и высок!
Казённой дверью в спину ударяют
трамваи и кирпичные дома.
Никто, душа, больней тебя не знает
о зле малопристойного ума.
Птиц потравили. Ясени и храмы
внутри тебя - под корень извели.
И нерождённым зовом "Аве, мама!"
обрывок сердца прыгает в пыли.
Лишь в заводи - лягушечье легато
колышет правду камышовых вод.
Плывёт псалом.
И добрый Каин брата
от речки к пашне, в травяную хату,
в сторожевую хижину ведёт...
Молодой, предновогодний...
* * *
Сухой ноябрь. Желтеет облепиха
собором спелым каталонской лепки.
И Гауди Антоний дышит тихо
сквозь сизый сон пырея и сурепки.
Куст облепихи празднично и густо
и ягодами полон и шипами.
Да будет жить, - в царапинах,- искусство,
как раненая нежность между нами.
Да освежит язык мне лёд облатки –
осеннего ковша кружок подмёрзлый.
И нищих туч холщовые заплатки
да выполощет плёс речушки Ворсклы!
Лимонный храм, предтеча каталонца,
колючий арлекин, сорочьи тризны...
Чем явней стынь, тем кровней промельк солнца
средь терний, желтизны и укоризны.
Виноделие
В полночь булькает баллон,
начинённый „изабеллой”.
Светосилой ночи белой
в угол кухни загнан сон.
Тих и чист ночной ноябрь,
снегом пахнет сквозь фрамугу.
Напишу страницу другу
безбоязненно, как встарь.
Из взаимной тишины
объявлюсь, не обвиняя,
в окликании не зная
ни обиды, ни вины.
Напишу десяток фраз,
как в стекле, у батареи,
„изабелла”, пенясь, зрея,
к стуже вызреет как раз...
Как чуть слышный винный дух,
отдающий мёдом бортней,
молодой, предновогодний,
слит со свежестью фрамуг...
Еловая песня в снегу...
Дебют
За это приходится дырами в шкуре платить,
Короткою жизнью и тысячелетней тщетою.
Но, Боже, как сладко на слове свой хлеб замесить
И очи промыть родниковою певчей водою!
За это - плати опозданьем в борьбе и гульбе
И каждому «здравствуй» - «прощай» отвечай бестолково…
Солёная трещина на непорочной губе.
О млечное время, небесное первое слово!
То было зимой, и по городу ель пронесла
Декабрьского леса тяжёлые хвойные ветки.
В квартире был сумрак, парили окон зеркала,
И тявкал терьер за стеною у левой соседки.
За стенкою справа невидимый Карпов-сосед
Хрипуче-надсадно боролся с вечернею астмой…
И вспыхнула фраза! – И хода обратного нет
Ни в ясные дни, ни в века канители ненастной.
Минута, секунда… Но разве длиннее судьба?
Тавро золотое на серой обыденной шкуре!
Еловая песня в снегу… Набухают хлеба.
Замешаны здесь – а на Рейне хрустят, на Амуре!
Живой огонь, берущий за живое...
АВИНЬОНСКИЕ ВИНОПИТИЯ
Капни, сестра, на зубок мне прованского масла –
выпил я тёмного, пару стаканов, вина.
То, чем сиял Авиньон, и теперь не угасло:
белого папского камня крутая волна.
Правду сказать, я провинций упрямый поклонник.
Шлюхи в столицах – намного дороже и злей.
Хной виноградников Арля окрашен мой кровник,
охра и крон понабились под ногти с полей.
Братец Винцент мой, затюканный и одноухий!
Не до художника миру, и в трезвом миру –
что в Авиньоне, что в Арле – надёжней под мухой,
лёгкой, идти, отвергая любую игру,
кроме игры колеров или звуков и пауз,
кроме того, что ни франка не стоит, ни су.
Рядом, у моря, – забросивший камбалу в камбуз,-
cнастью Марсель шелестит на ветру, на весу.
Белого папского замка крутая громада!
Всё же тебя, Авиньон, оживлю средь зимы,
ибо Марселя, бандюжно-биндюжного града,
в редком порту не найду я огни и дымы…
Капни, сестра, на язык мне оливковой сласти.
Как бы Прованс не любил я, Тавриды жилец?
Эти края средиземноприморского счастья
Фебос родил, многодетный понтифик-отец!
Было бы странно к старинной любви не склониться
и не хлебнуть под платаном – над Роной-рекой…
Встреча, не первая, эта двоится, троится…
Капни на губы мне капельку крови, сестрица,
смуглая дева с походкой знакомой такой…
РОЖДЕСТВО В ЛУНДЕ
Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.
Неделя Рождества – и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.
Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье “Вифлеемская звезда” –
живой огонь, берущий за живое…
И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –
с рождественской свечою и цветком
за каждою оконной рамой Лунда…
И в воздухе – то чёрном, то цветном –
не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.
И о наряженном в белую майку горнисте...
* * *
Бабочка, дрянь с бриллиантовой пылью на крыльях,
с годной на корм воробью лишь козявкой брюшка!
Сколько, однако ж, воспевших тебя! - Словно быль их
легче - с травою мешка...
Нежная лярва, никчемный клочок совершенства,
над броненосцем утоплым порхающий флаг...
Средь конопли озоруя, ты делишь блаженство
с парой угарных бродяг.
Всё же не вправе и я от тебя откреститься -
утро ли прежнее чту в иероглифах крыл?
День ли предчувствую тот, где полковник Синица
вместе нас пустит в распыл?
Ведь генерал Горобец, к картотеке склоняясь,
на килотоннах отчёта фиксируя взгляд,
тяжесть в груди ощущает, секретную зависть
к лёгкости малых зверят.
Лёгкость - большая метафора. От Антиоха
рифмам смеялось вослед махаона крыло.
Всё же, что врали с чугунными лицами, плохо
веку на совесть легло.
Лёгкость - последнее в этих камнях бескорыстье:
четырёхкрылый, подобный строфе, мотылёк,
крылья смежая-рифмуя, садится на листья
и о наряженном в белую майку горнисте
всё безнадёжней и, кажется, всё золотистей
вновь повторяет урок...
А если до июня доживал ты...
* * *
А если до июня доживал ты,
то каждым днём июньским дорожил
и чувствовал, влюбляясь, – ветер с Мальты,
акаций запах, хлопанье ветрил.
И если добредал ты до июня,
то возвращался от избытка сил
в гортанно-белый город Ла-Корунья,
где ты полдня, во сне, проездом был.
Но пуще всех – таврический поселок,
где зреет густо-красное вино,
в тебе, июньском, ярок был и колок,
был на все сто – с тобою заодно.
Там брызги – на сандалиях подножья
вулканов и шиповниковых гор,
там просветлённый привкус Царства Божья
хранит тёмно-рубиновый кагор.
В ночь уплывала ласковая лгунья,
чуть серебрясь и «чао» говоря...
Но ты, коль добирался до июня,
уже готов был плыть до сентября.
* * *
"Феррара чёрствая", твоих багровых стен
достиг я и кирпич погладил дланью.
Но знать, зачем - не знаю, ибо знанье
лишь множит грусть и накликает тлен.
И вот ещё: "От ведьмы и судьи..." -
как пристально, как нестерпимо точно
о дне теперешнем, бесстрашно и бессрочно,
промолвлено! Есть близь - не подходи!
Феррара... В этом карке языка -
в напоре, рокоте, трескучем жаре шкварки -
прости, но я не все возьму подарки,
лишь знак, что смерть тверда, а плоть мягка...
Так в звуке, в имени - полмира спасено
иль продана душа навеки чёрту.
Так пастью красной к чёрному аборту
зверь рвётся и, ощеривая морду,
глотает плод с последом заодно...
Скользят сквозь осень золотые звери...
ИЗ ФОТОАЛЬБОМА
1.
То были дни, когда плащи „болонья”
сверкали ослепительно престижно,
когда на школьном многотрудном троне
царил М.И., властительный булыжно.
То дни, где ботанички глаз сощурен,
и зычный голос возвещает пылко,
как чествует генетику Мичурин
отечественной грушей по затылку.
И там на полутёмной перемене
над прахом вейсманизма-морганизма
сияют чудно девичьи колени –
нежнее разложенья света призмой.
Там химией пахнёт из кабинета,
потресканным фаянсом старой ступы,
и там в подвале хлебные котлеты
по ценам удивительно доступны.
Там наши ежедневные богатства –
директорские дьявольские брови,
драчливые соперничества-братства,
престранные ревнивые любови...
И что-то зреет в отроке угрюмом –
глубинней самолюбия и блажи,
как будто лёгким рифмам, трудным думам
нагадан путь – в стокрылом экипаже.
2.
Б. Чичибабину
То были дни, когда в кафе „Болонья”
входили два ещё живых поэта.
Один из них – давно в нездешнем лоне.
Несут его черниговские кони
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.
То были дни, когда в шинок, на стыке
Студенческой и Пушки, забредали
на пару мы, книголюбиволики,
тревожнооки, бражники-музЫки,
на ангелов похожие едва ли.
Он все глядит, задумчивая птица,
в предзимье том на огневые ветки.
И он – средь тех, кто мне доныне снится,
среди троих... Строга его зеница,
чиста, как подвиг первой пятилетки.
На сердце смуту и целим, и множим
изломом слова, неизломом духа.
В кургузом рабстве пелось о хорошем.
А что споёшь сегодняшним, небожьим,
добытчикам – с плечами, но без слуха?
То были дни без алчи, дни иные.
Скользят сквозь осень золотые звери.
Он курит у окна, и у стены я
молчу о том, что мытари земные
пришли за нами. И ломают двери...
Но в путь - пешком и без скафандра...
* * *
Что? - Дюжина?! Достал ты ближних-дальних
маркёров, резонёров самопальных
числом своих прижизненных томов. -
Жди писем от прозекторских умов...
Но день встаёт, и, - пой ли "хорошо",
иль "стыдно", иль пеняй себе "ужо!" -
сквозь притчу о козлах, ягнятах, козах,
а вновь просторен для дыханья воздух,
как Пацифик для крейсерского рейда!
И пусть тебе шнурок, питомец Фрейда,
на рок-н-ролл и на скелет похожий,
в железных цацках и с нечистой кожей,
не буркнет "здрасьте"... Экая печаль!
Который век скрипит про то скрижаль,
как Хам бесчестит Ноя-аксакала...
Пускай! Зато ясней канон Ла Скала,
сказать бы, крепче-ласковее скалы,
и сам ты звонче кликнешь осень: "Осип!"
А к слякоти "Иосиф" просипишь...
Не жду ни масла на казённый шиш,
ни в мышеловке сыра, ни на ветке.
Твоих секунд царапины-заметки,
узорчатый и беспощадный век,
в случайность зыбких строчек я облек,
в обложки не моих, похоже, книжек...
Кто гонит ток? За что мне вольт излишек?
Зачем под солнцем в понедельник-день
вовсю искрится безнадёга-хрень?
Откуда дежа вю: "Нет, весь не сгину"?
Уже не время - в рот тащить малину,
тянуть резину и кота за хвост,
витийствовать, стенать, как Алконост...
Уже финита брезжит - в полный рост,
с ногами от ушей и с поясницей,
что светится феминой, словно снится
последний дюйм... К нулю стремится смета,
веселье жухнет, усыхает лето.
И, выкупив на шоу все билеты,
мэн - с пирсингом, с орехом в голове -
без комплексов кроссовкой наступает
на тень правдоискателя в пыли...
Но правда есть! Все щедрые рубли -
державные - на крошево для плошек
алкашке, что у церкви кормит кошек,
вложу в ладонь. Желты отчизны кущи...
Но в путь - пешком и без скафандра - пуще,
чем прежде, по наитию идущий
смеситель жанров и верстальщик книг!
В путь, Белки-Стрелки предводитель-кинг!
Не угасай, моя певчая странность...
* * *
Cвоё осеннее жилище
украшу розовым цветком,
на подоконник полунищий
поставлю склянку с ободком.
У послеавгустовских флоксов –
спокойноокая краса.
Душа, устав от парадоксов,
глядит в седые небеса.
И предвечерняя усталость
ещё не гибельна, пока
на подоконнике осталось
живое облако цветка.
Темнеет. Но не одиноко
в закатной хмари нам вдвоём.
Седое небо – дым упрёка.
Но из глубинного далёка
чуть розовеет окоём…
* * *
Не угасай, моя певчая странность!
Муторно было бы жить без тебя.
В жилах Бату – властолюбия данность,
мне же – мой свет, полыханье репья.
Мне – моя ересь, из полночи зовы,
шорохи веток на все голоса,
сёстры монашьи – еловые совы,
с чёрно-зелёною кровью леса…
Тени деревьев, бездетные звери
связаны тёмной порукой конца,
а человеку даётся, по вере,
вещая потусторонность лица.
Ты ведь и стеблю примятому рада,
певчая мудрость, распевная дурь…
Не угасай же, не минет награда –
глины ломоть да в полмира лазурь…
* * *
Мелких куплю хризантем на продрогшем базаре,
белых и жёлтых возьму за доступную цену.
Глуше, темнее ноябрь. И в багряной гитаре
смолк листопад, не простивший туману измену.
Вот уж и снег приходил. На асфальт до рассвета
сыпал колючею манной, сухою крупою.
Отроду в долг не беру, не приму и совета,
как зимовать-куковать да смиряться - с собою,
с исчезновением птиц на ограбленных ветках,
с мутью во взоре торговцев, хороших и разных…
Коль и оставлю я что-то в коротких заметках –
долгие льды и снега перегонов опасных
меж А и Б разбиенной на части отчизны,
меж крепостями железолюбивой державы…
Жменю цветов сам себе принесу – не для тризны
за упокой, но для страсти – живой, моложавой –
стебель полынный размять и вдохнуть среди стужи…
Выгнулась мёрзлая тьма от Яги до Солохи. –
Вот и затеплю цветка золотник. И к тому же –
крепнет созвучье речей о несдавшемся муже
с речью об отроке, спасшемся в чертополохе…
Небесный альт, дворовый чад резины...
* * *
Небесный альт, дворовый чад резины...
Давно пора забыть, как Робертино
завидовал я долгих тыщу лет -
с тринадцати до паспорта врученья.
Был пресен вкус морковного печенья
и в линзе с глицерином мутен свет...
Бельканто и теперь в печёнке где-то
вибрирует. А прежде бела света
не видел я, когда уже сверх сил,
с душой саднящей, с кирзовой гортанью,
глотая угловатое молчанье,
опять пластинку певчую крутил.
О, солнечные трели Робертино!
У той любви был едкий зев ангины.
У ревности, меж тем, не чёрный цвет -
она, скорее, в ромбах арлекина,
в расцветке шахмат следственно-причинной,
за мной ступала верно след во след.
Бредя асфальтом, чуял я отчасти,
что в той кручине был задаток счастья, -
и фокус этот сладил царь Горох, -
и что душе для истинного пенья
куда нужней, чем голое везенье,
солёно-горький повивальный вздох...
А ветер дул то холодно, то жарко.
Водил я в парк чепрачную овчарку,
и незаметно из рутины дней
в соседнем классе - небесам в острастку -
блеснула поступь маленькой гимнастки,
и что-то чисто серебрилось в ней.
Была ли снова песня безголосой?
На все по геометрии вопросы
циркачке я серьёзно отвечал.
И зыбко, словно дискант издалёка,
светился легконогий абрис сбоку,
у странного начала всех начал...
Небесный альт, с гудрона чад резины...
Любовь и ревность - юные кузины.
Не рассудить, кто краше, кто умней!
Жаль одного - заметить, как стареют,
добреют-расползаются, дурнеют,
дабы исчезнуть за чертою дней...
Зажигание света
И.
Гораций, братец! В этой части света
нет под луной надёжного предмета -
то лампочка сгорит, то чайник вновь,
чадя, покончит жизнь самоубийством,
забытый мной на кухонной плите -
на медленном огне... О, псы Господни,
доминиканцы!.. Да к тому ж сегодня
за окнами - эпоха перемен.
Безвременье навстречу крутит кукиш.
Тут и башку, не чайник, позабудешь!
Да плюс привычка: книгочийства плен...
Опять я малость зачитался, тютя.
Но лампочки! Уж тут не скроешь сути -
мышино-перманентной суеты:
уже раз двадцать в ванной я и ты
лампаду ильичёвскую меняли,
но в напрочь разворованной стране
вольфрама не осталось для спирали. -
Как инженеру это ясно мне.
И вот опять громоздкий груз житейский
влачу из кухни - табурет библейский,
похожий на ковчег и на качка,
сколоченный всерьёз, не с кондачка,
без экивоков в сторону прогресса.
Но дальше - лучше: только что из леса,
малютка-табуретка, дочь сосны,
нимфетка на балетных ножках белых...
В неё ножи из шкафа влюблены,-
при шансах ноль десятых и нуль целых,-
и тенорок блатной магнитофона...
Чтоб дотянуться в ванной до плафона.
нимфетку водружая на качка,
я уж потом на них взбираюсь, третий.
Держи вернее, о жена моя,
сооруженье! Ты теперь в ответе
за козни быта против бытия.
Держи, дабы не грохнулся на кафель
кормилец твой, усталый спутник дней...
Зажёгся свет, чтоб высветить ясней
твой тонкий профиль, мой за ухом грифель.
Что нам слова чужих - о нашей мгле?
Вон яблоко, - в пурпурных рисках штрифель, -
светлым-светло на кухонном столе!
Жуки-олени
Пионерского рапорта лжегосударственный пыл.
Активистов румяных напыщенная вереница.
С кумачовою грудью плеяда наставниц-кобыл:
ноги в кедах китайских, распахнуторотые лица.
Сколь несносен я им и себе самому незнаком,
сколь убогой сумятице верных шагов непокорен!
Вскормлен жижей компотной, перловым жлобом-черпаком,
карбонарием мечен и смутою порчен под корень…
И когда нас под флаг барабанное утро ведёт,
в черепахе приблудной отрядной сгущается ужас –
под фанерною тумбочкой синей страдалица яйца кладёт,
и морщинистой шеей, и битумным панцирем тужась.
Размягчает мозги лазаретно-карболовый быт,
серебрянкой замазаны шрамы цементных горнистов.
-Оторвусь! – чем сильней их казённое тело свербит,
-Улечу! – тем натужнее взор их бараний неистов.
Убегу – за шершавым забором, в лесу, я уже не один.
Там дубовую кровь пьют жуки, рогоносцы-олени.
Атакующих лбов напряжён густо-красный хитин,
что бодает ладонь и прохладою входит в колени.
Улечу и на лагерный час, и на целую жизнь убегу –
как хмельны эти соки в кленовых и вязовых жилах!
Бык вишнёвый молчит опьянев, - ни шу-шу, ни гу-гу…
Только я-то всё знаю о взлётных подпочвенных силах.
Кириллицей, живой брусничиной...
В ЯРОСЛАВЛЕ
Олегу Горшкову
Великолепная провинция
вдоль складок местности шуршит.
Запью глотком вина провинности
твои, щетинистый пиит.
Но прежде - за свои погрешности
сестрицам всем и всем серьгам
я в аритмической поспешности
кровицей-буквицей воздам.
Кириллицей, живой брусничиной
во млечных высверкну ушах -
взамен случения с опричниной,
взамен процента в дележах.
Пропорция, глубинно-зыбкая,
отмеренная по струне!
Плеснись осеннею улыбкою
в зеркально-странническом дне!
Ведь только в ясности движения
я вправе стать собой опять -
с бемолем в горле: "Неужели я
и впрямь достоин в дар принять
девичью розоватость осени
и падалиц змеиный мёд?
И метить Ярославлей проседью
тенёт паучьих перелёт?"
Любовница, сестра, провинция!
Не крой по матери меня:
"Твою дивизию!" - Юстиция
не хочет нашего огня.
Но с музыкой, - покуда стужею
не дунет по дороге в ад, -
нам пробиваться, без оружия,
сквозь твой осинник-звукоряд...
Небесная механика
Великий кельт, максималистский Максвелл,
мятежный гений электроцентралей!
Рвёт ветер с треском парусину-стаксель.
Пусть мы сегодня, к счастью, холст убрали… -
Надолго ли? Дурная турбулентность
гнёт и гнетёт живое к низу почвы.
Непокаянье явнее, чем бедность,
лишает нас тепла бумажной почты.
Крепчает чёрных дыр студёный гул.
« Рабочий ангел купол распахнул»,
но, словно яма в тёмном переулке,
глобальный Голем рот разинул гулкий,
в чью глубину презрительно манит
бесплатный сыр. И слёзы вдоль ланит
струит торгаш от всей души дешёвой,
как тётя Валя в бойком ретро-шоу
на чёрно-белом брежневском экране…
Персты Фомы застряли напрочь в ране –
иначе невозможно объяснить
те тучи энтропийных насекомых,
что лезут во все щели, жгут, трещат,
вопят «Купи!» и, нестерпимо жаля,
сосут из жил уже последний смысл,
последний огнецвет живого сока…
Век алчущий пресыщенно-жестоко
железнозубый празднует заглот...
Механика небес ещё ведёт
луч утренний по почвенным пределам,
но высь и ось – под гибельным прицелом…
И Максвеллу, тускнеющему в целом,
вдогон Тобой ли послан зимний Бог, -
на куцых лыжах босоногий Босх?
Стоят и дышат розовою пастью...
Гостья
От чёрных кур – коричневые яйца,
от сонных крыльев – сумрачные сказы…
На ветках ночи – оторопь скитальца,
в зрачке нетопыря – осколок фразы.
Дошкольник и едок пустого супа,
над россказнями вскидываю брови :
от чёрных кур – кофейные скорлупы,
с двойным желтком, двойною искрой крови…
Вода на киселе, стократ прокислом,
старуха-гостья, плесени золовка,
носищем шевелит, до губ отвислым,
но как ведь врёт да как дурачит ловко!
На ужин напросясь, жуя, бормочет
про кума, что от ломтя в горле помер,
а в кукиши скукоженные очи
какой-то свой прикидывают номер.
От чёрных кур – серебряные яйца,
с налётом чая, как на старой ложке.
В Кощеевой клешне царевны пальцы,
а страхи разом – истинны и ложны.
Стращай, вещунья, чернобайствуй снова! –
Вокруг меня сбрелись, совсем живые,
собаки, черепахи и коровы –
все звери, шерстяные, роговые.
Все гербовые твари, родовые
стоят и дышат розовою пастью –
и заслоняют от Яги, от Вия,
от нежити, от выродка во власти…
Стогами пахнет, зверем и макухой.
От чёрных кур мой сон до жути ярок. –
Всего-то забрела на час старуха,
пяток яиц оставила в подарок…
Рано повеяло стужей и соловецким вином...
***
Бледно-лиловые астры в сумраке стылого сада
светят над чёрной землёю после тяжёлых дождей.
Ярко-оранжевым ядом брызжут календул лампады.
Холодно, пусто. Часами – нет ни собак , ни людей
в этих посадках старинных...
Только корявые лики
разнорабочих деревьев – яблонь, черешен и слив –
не покидают усадьбы. Да рассыпаются крики
соек, снующих повсюду в поиске скудных пожив.
Полупрозрачные астры не по-сентябрьски озябли.
Рано повеяло стужей и соловецким вином.
Хлопнем по шкалику, братец, выпьем ещё по три капли
и угловатые грабли в тёплые лапы возьмем.
Вот и ещё одна осень, палой листвы погребенье.
Листья становятся дымом, запахом и забытьём.
А в глубине, за ветвями, - близко-далёкие тени:
словно вчера ещё,
в детстве по листопаду идём..
К листве лимонной чёрного двора...
* * *
Ракло и тремпель - харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь заполночь царапаясь в жильё...
Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся -
к листве лимонной чёрного двора,
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.
И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город - из травы и стали,
босяцкая и ангельская стать...
* * *
Дикой яблони ветви бездомные
над погостом шумят на ветру,
повторяя ненастно-огромное:
"Мы умрём. Ты умрёшь. Я умру..."
Дымны вязов багрянные головы,
мокнут плечи осенних крестов.
Тело книги - из тяжкого олова,
и соломенны крылья листов...
И я чую, как буквы безмолвные
в час, когда холодеют леса,
оживляют воздушными волнами
золотых мертвецов голоса.
Слышу лепеты грешного племени.
И не тает огонь в образАх -
переплески пространства и времени,
неизбывное в смертных глазах...
* * *
Когда обнищавшая осень
в пустой забирается сад,
мы, дикие птицы, не просим
у стужи и ветра пощад.
Когда мелкозубые иглы
терзают веранды стекло,
мы, малые дети, притихли
в дому, где темно и тепло...
О чём ты молчишь, белобрысый,
единноутробный мой брат?
О том, что прохладой аниса
щербатые окна сквозят?
О том, что вещунья-природа
ни слова не вымолвит вспять,
и надо опять на полгода
в мохнатую спячку впадать?..
Ау, приунывший мальчонка,
за птицей вослед встрепенись! -
Вдоль нити анисовой тонкой,
вдоль запаха, тянется жизнь.
В ней нету надежд о пощаде
для летней стрекозьей мечты,
но ярки ещё в палисаде
промокших календул цветы...
По осени пешком...
* * *
Пахнет гречкой, подгоревшей в коммуналке у соседей.
За подъездной драной дверью – двор, усыпанный листвой.
«Аз» - скажу пароль, а осень мне ответит «буки, веди»,
грудь и плечи расправляя, как румяный постовой.
Словарю пословиц Даля лисьей шапкою кивая,
баснописца поминая с тонконогой стрекозой,
листопад унюхал рифму. А когда она живая,
сам я чую возбужденье гончей или же борзой.
В чаще веток – лепетанье алфавита, плески гаммы
и синичий, - в клюв из клюва, - дробной ноты перелив.
В ярком умиранье формы есть языческая драма,
но Завет благовещает, что Носитель сути жив…
И на полусбое ритма, на простудном переходе,
на изломе самописца – рисовальщика дуги –
я сутулую фигуру в промелькнувшем пешеходе
поспешу узнать… И ближним без труда прощу долги.
Кто любим, тот не уходит, даже если отлетает. –
Листопадом окликает и наклоном головы…
Ясной осенью, должно быть, мальчик мой меня узнает
из-под челки белобрысой… Дымной осенью, увы…
* * *
Осеннее море июльского чище,
прозрачней, стекляннее и холодней.
Осенней горы золотые глазища
полны виноградных зернистых огней.
Прохладно и солнечно. Веет мускатом
от грядок кудрявых на спелой горе.
Не быть мне ни юным уже, ни богатым,
не выиграть приз в муравьиной игре.
Зато мне осталось - вспорхнули фазаны
из рыжей листвы виноградных шпалер,
и солнце взошло яснощеко и рано -
на молодцеватый июльский манер.
Осталось – еще не остывшее море,
сентябрьского воздуха мятная плоть.
И в синем, чуть-чуть ледовитом, просторе –
горячих молекул златая щепоть.
* * *
Так дочка мне мила в своей задорной кепке!
Да я ли начинал мечтой про пацана?
Десятый наш октябрь листвою пахнет крепко.
Дымят его костры, но высь его ясна.
Уход мой поутру и мой приход вечерний
давно осенены свеченьем русых кос.
И все пытливей взор взрослеющий дочерний ,
отважней о былом и будущем вопрос…
Пойдем, посмотрим, дочь, на солнечную осень,
на желтые шатры, кленовые ковры.
И спросим у листвы, у темных веток спросим
про вещие стихи несуетной поры.
Порхает клена лист и кружит по спирали,
и тычется к земле багряным черешком…
Пока теплынью дни светиться не устали,
пойдем по лесу, дочь, по осени - пешком.
По влажно-золотым развалам лесопарка,
который – сущий лес для горожан и птиц,
по октябрю пойдем, где даже в куртке жарко,
где ярок встречный круг велосипедных спиц…
Где школьницы везут кленовые букеты,
по мягким побредем, по лисьим рунам, дочь.
Там меж резных дубов стучат-шуршат секреты,
как желудевым сном всю зиму превозмочь…
Да выстоим, любовью...
* * *
Один Господь единый – за дитя!
Но все шакалы, все гиены – против.
А тысячи – закона дышло в рот им! –
молчат, зобы и лбы перекрестя.
А тысячи служивых гнутся, льнут
и к злу, и к рабству - к выморочной почве,
шумами в сердце, коликою в почке
сполна вознаграждённые за труд…
Один Господь усталый – за тебя.
Но челюсти, но плечи, локти – против.
Плодами полон райский город Пловдив,
а на твоём дворе, червей долбя,
по яблоне снуёт чистильщик-дятел.
Чем птицы всех расцветок хороши –
на взмахе крыл реальностью души!
Ну, вот и улыбнись, пока не спятил…
Вот и дыши – не для себя уже –
и втрое больше вытерпи, чем можно.
Дай руку мне, дитя! – Во дни безбожны
да выстоим, любовью, на меже…
За дальней памятью...
* * *
Кто рядом - чужд и нем, а тот, далёкий, кровен
гортанью ключевой, аортовой игрой.
И странный Зодиак - Весы иль травник-Овен -
уже не исказят крыла исконный крой.
Кто рядом день-деньской, не избран и не сужен...
Подённой чашки край зазубрен и шершав.
А с вами, кто вдали, делю бродяжий ужин -
астральный свой припёк и соль земных приправ.
На хлопковом листе, на кожистой ладони
живой воды глоток и шарик кровяной
протягиваю вам, и о зелёном лоне
серебряным "ау" вы делитесь со мной.
И если дождь пойдёт, листва шуршит знакомо -
шиповник, алыча, кизил и барбарис.
Под каждой из ветвей мы снова вместе дома,
зернистый Осип мой, Арсений мой, Борис...
* * *
Зелёная слива становится белой.
Как сочен июль, полновесен и дюж!
Как щедро стоцветное лето поспело
верхушкою смуглых улыбчивых груш!
Колдует над печкою бабушка Марфа,
в подсолнечном масле шипят кабачки.
Роняет цветы к подоконнику мальва,
и рдеют над крышей акаций стручки.
И солнце над известняковой оградой
над выцветшим суриком крыши встаёт,
и мальчик, играя под ветками сада,
о чём-то своём еле слышно поёт.
И вторит листва потаённому пенью
о том, что другим не узнать никогда -
как дышит, лепечет живой светотенью
в садовой залатанной бочке вода...
* * *
За дальней памятью тончайшие слои
лелеют лялю, байстрючонка вдохновенья.
Сказать прямее: только любящие тени -
вот и рапсоды, и хранители твои.
Пространство душ без перерыва на обед
и без воскресного - приём гостей! - притворства
сквозь белый иней оксамитового ворса
молебном тёплым, как слезою, правит след.
Ведь всякий раз, когда ты тянешься к живым,
ловкач-хитрец всплывает рыбьим брюхом кверху,
дрожит губами и на теле рвёт прореху,
сгущая воздух в шарлатанский жадный дым,
чтоб не отдать - из летней лужи - ни глотка,
ни зимней пригоршни заблёванного снега...
Тащи по ямбам, биографии телега,
попутной песнею измятые бока!
Есть память дальняя - и ей не прекословь!
Там, за часовней, за околицей-развязкой,
сквозь шум зелёный проступает поздней лаской
сквозного веянья родительская кровь...
* * *
Пыль на зубах, бессмыслица околиц.
Бурьян и шпалы - всё, как у людей.
Земных преображений доброволец,
средь брендов заблукавший Берендей,
я вновь вернусь туда, где очень долго
отсутствовал, - всю, после детства, жизнь, -
туда, где тополь в шрамах, ключник долга,
древесным ртом шепнёт мне: "Покажись!"
Что ж, поглядим по-братски друг на друга,
шершавое живое существо!
Путь в люди - фонограмма и наука -
мудрён. А всё ж мудрее то родство, -
по вертикали! - что тогда, в начале,
объединило в поднебесьи нас...
О, как твои грачи в ветвях кричали
средь клейких листьев майской пасторали!
Как смысл вовсю сиял - в распахе глаз!
Пока ещё гепарды листопада...
* * *
Где Каин-ветер, слёз сглотнуть не в силе,
шатает над песком осенний дом,
там дробь рябины - егерем по жиле -
гремит. И пахнет дымом и вином.
Пока ещё гепарды листопада
хранят по кругу обморок ветвей.
Но всё мокрей-черней зубцы ограды,
и всё желтей конверты у дверей...
Лишь ты - не осень! Юлианством хмеля
и зеленью полны твои глаза.
И столь точна их оптика в прицеле,
что взвизгивают разом тормоза,
когда, светясь над грубой синью ткани
полоской наготы, соблазном лон,
несёшь ты на предзимнее закланье -
рябиновый огонь в ладони-длани
и над челом - прохладной чёлки лён...
* * *
Нет, я лежачих слов не понукаю,
но лишь за летом лето окликаю,
и память то кремниста, то легка,
как трелями расшатанный скворечник,
как осенью заласканный орешник,
как юркий посвист травного зверька...
Там что-то за окном весь день мелькало -
зелёный трепет жёлтого овала,
перемеженье света и листвы,
зародыш рифмы в дроби светотени,
к веранде три сосновые ступени,
на мокрой грядке крохотные львы.
О карлы, химерические зевы -
бордовый справа, золотистый слева -
двоюродные крестники Дали!
В бугристых мордах копошатся пчёлы,
и тёплый гул медового глагола
не замолкает в родственной дали...
И что-то дальше там, за дверью, было,
что улыбалось и кололо мило -
лучистое виденье существа
с бездомными влюблёнными глазами,
с пропущенными начисто азами,
с весёлым отреченьем от родства.
За ней тянулся шлейф великолепный
плеяды мускулисто-раболепной.
Она была опасно хороша
той красотою - терпкою и странной,
тревожной, беспокойною, обманной,
сыгравшей до последнего гроша...
Вот три лица, а может быть, четыре -
окно прохлады в безвоздушном мире,
вечерний запах слабого цветка.
Слюда зеркал, ракушечник оброка,
наследных опасений подоплёка
и маленькая, с перлами, рука.
Нет, я напрасных слов не понукаю,
и если день минувший окликаю,
то - ради сна, что в сумерки придёт...
Ведь сколько б стол и стулья ни крутили -
рассвет ростовщиком приходит или
кривя усмешкой херувимский рот...
Узорчат, словно невод рыбарей...
Пиза
Тоскана милая, потасканный весьма,
от Красной Армии добрался я до Пизы,
фронт удержал, не отступил до шизы,
не утопился в омуте ума.
Тоскана, вольница! Затворницей-тоской,
хворобой русскою, столь мало ты задета,
что умыкну я, вместо амулета,
трилистник лавра из кадушки городской.
А донна Сильвия! Сто раз она права,
что пришлых, нас, под башней поселила.
О градус крена, Ньютонова сила!
Достойно-мраморна механики глава.
И вот еще награда – баптистерий.
Каррарский снежный камень резьбарей
узорчат, словно невод рыбарей
из галилейских подлинных мистерий.
О Пиза, звёздница! Чертог полночный твой,
нездешней освещен тройной шкатулкой.
А в шесть утра – темно, безлюдно. Гулко
две пары каблуков на мостовой
стучат. Спешат к разлучнику-вокзалу
философ-скептик и рифмач-смутьян.
От Арно зябкий тянется туман,
но на ходу – теплей, теплей помалу...
Мост Риальто
Чую след Тициана с Джорджоне,
но Венеции норов люблю
и за то, что её миллионы
моему подпевают рублю.
И за то, что узорам палаццо,
преломлённым в вечерней воде,
мне нисколько не стыдно признаться
в нашей общей сквозной правоте.
В двуединстве певучей повадки,
в перламутровом сбое волны...
Благо, грифельной птицей в тетрадке
мы, сестрица, разниться вольны!
Не белю кобеля Казанову
и не праздную кроличий лик,
но к игре маскарадного слова
я изломом Риальто приник.
Ибо ибисы, цапли, удоды,
изогнувшие клювов обвод;
перьев радуги, крыльев разводы,
чёрных бархатов алый испод,
блеск зениц через прорези масок,
серебра и предательства ток,
сцепки пряжек, объёмов и красок,
судей, ведьм, арлекинов садок...
Бьющий в миндалевидные щели,
вдоль личины, соблазна флюид,
догарессы, шуты, менестрели,
искры брошей и бледность ланит...
Это всё осветило мне разом,
догорая над чёрной водой
золотым и сиреневым газом,
дряхлый город и мост молодой. –
Альт Риальто, сей мраморный выгиб,
альбинос, напружиненный кот
все червонцы из прошлого выгреб
и в ларец прорицанья кладёт...
Где улыбалась ты?..
* * *
Где улыбалась ты? Где мы встречались
в то загорелое звонкое лето?
Был зоопарк, как усадьбы участок
при небоскрёбе университета.
Там, на задворках учёного зданья,
негородские овражисты чащи,
клики зверей, летунов щебетанья –
млекопитающи, живородящи!
В сонном пруду – лебедей изобилье,
тусклое золото мелочи рыбьей.
Шатким мостком мы овраг проходили,
заполонённый зелёною зыбью…
Ласковоглазое юное лето
птицей мелькнуло, не в силах вернуться.
Только в чащобах смородины где-то
те же пичуги, что раньше, смеются…
Если случится – увижу сквозь будни
тропы, где ты улыбалась когда-то, -
пусто… У синей кондитерской будки –
лишь школяры да в отгуле солдаты.
Вспомню – покажется тоньше и чище
монстр носорожий, свояченник зебры,
в серых, нечищенных век сапожищах,
в лобных натёках воинственной лепры…
Не окликай и ты меня...
* * *
Кохання – в кухне ль, в поезде, в лесу –
оно и есть, пусть хоть в степи, кохання.
Я крест свой недомыслия несу,
и ты свой куль. И всяк в своем обмане
влачит по кочкам и ухабам дни.
Жизнь под откос идёт, дичает поле.
Но дни кохання… Видит Бог, они
даруют высший смысл земной юдоли.
Не беспокой, мой друг, Петрарки сон. –
Я знал и Беатриче, и Лауру.
Как солнце всходит, так пиит влюблен
и сердцем умным ловит пулю-дуру
летучую – себе ли на беду,
педанту ли на страх иль курам на смех…
Я сам с раскладом давним не в ладу,
где стих мой молодой клянётся наспех
кому-то в чём-то... Вовсе не спешу
я возвращаться в п.г.т. Рыжово,
чужих оград приветствовать паршу,
чужой черешней любоваться снова…
Не окликай и ты меня, разлёт
лихих бровей, и вы, ресниц фантомы!
Мальчишества стрекозий самолет
уткнулся лбом в траву аэродрома...
Отнюдь мне электричка – не сестра,
не брат – поселок типа городского.
И юность та мне не мила – остра,
занозиста любви ее полова.
А всё ж кохання – в тамбуре, в саду –
на свой напев, на свой живой обычай
я с мёртвых языков переведу,
со слов невнятных в путаном году,
с очей-черешен поселковой Биче.
* * *
Львиного зева лиловая морда
с каплею солнца на верхней губе...
Длинное лето нелучшего сорта
всё ж под конец улыбнулось тебе.
Веет покоем понтийское лоно.
Можно, вдохнув, никуда не бежать,
на широченных перилах балкона
книжку и гроздь винограда держать.
Рядом, внизу, с ленкоранских акаций
не облетел еще розовый пух.
Можно о малом, своем, усмехаться,
не выходя за молчания круг.
Можно, в конце-то концов, этим летом
ту иль иную из преданных муз
кликнуть. И разбередиться ответом...
Бражники вьются над шёлковым цветом,
осы на вспоротый рвутся арбуз.
Снег с черёмухи, с тополя гром...
* * *
Там, где Китеж в стеклярус оправлен,
за пространством, за оптикой рам,
делит дым с воробьём Чичибабин,
сыплет семя щеглу Мандельштам.
Где в окно деревянною буквой -
"Гутен морген!" - стучит Гутенберг,
там ты рос и босотой, и букой,
но гремучих кровей не отверг.
На шершавых задворках бессонниц
нахватавшись репьёв, аки пёс,
от щедрот хулиганских околиц
ты бодрящую дерзость унёс.
Оттого и кивал тебе старый,
что в массовке над чёрной водой,
как винчестером, выхвачен фарой,
до сих пор ты плывёшь молодой!
Из блокбастера вытурен напрочь,
из бестселлера выдут харчком,
сладишь звук - некривой и не навзничь -
нефальшивым подпишешь крючком.
Умягчишь его именем женским,
детским дискантом кликнешь с собой
и Рождественским, Преображенским
синим дымом над рыжей трубой -
полетишь
над мазутной водою,
над острогом - Холодным бугром -
над сестрою, бедой-лебедою,
семижильной травою седою...
Снег с черёмухи, с тополя гром.
* * *
Жалеет, жалит. Вновь не узнаёт,
враждебно-близоруко пяля зенки.
Жизнь движется: то два часа полёт,
то век - ползком, сдирая в кровь коленки.
Забудешь ли? - летучим стригуном
сигал ты через радуги, овраги
с разгона. Ну и что теперь-потом?
Безрыбье долгой и дырявой саги...
Бесстыдно арифметика проста.
Сучком в глазу - крючки чистописанья.
Двукрылие соснового креста
жжёт скипидаром две ноздри заранье.
Поверишь ли? Спасает тот кураж, -
в мажорном позвонке и под лопаткой, -
с которым ты овражный свой пейзаж
опять вдыхаешь, как наркоз над ваткой.
Жалеет, жалит. Летний день губя,
за грош добыв, задаром отдавая,
играет жизнь в себя.
И чуть в тебя.
Красивая, размашисто живая!
Мало жёлтого, больше - кармина...
* * *
Мало жёлтого, больше - кармина
в вечереющих крымских лесах.
Снова осень приходит с повинной,
с поволокой в неверных глазах.
Влажный сумрак – как ладан обедни.
Ни души на морском берегу,
словно в этом краю - я последний
да и сам уцелеть не смогу.
Холодна и просторна свобода,
и предсмертно чиста тишина.
Отпеванию царского рода
даже страсть помешать не должна.
Никого на земле не осталось –
ни властителя, ни дурачка
И большая, как время, усталость
проникает в глубины зрачка.
А широкая тёмная птица,
опускаясь кругами с небес,
на безмолвную гору садится,
на потухший карминовый лес.
Размах небес Писаньем млечным вышит...
* * *
Что есть судьба? Что есть душа? - отвека
бездонный взор тревожных этих слов
лишает сна и мира человека,
и хлеб себе добывшего, и кров...
Опять в степи моей густеет вечер,
гнездовья птиц стихают в гуще трав.
Куманский камень-идол, мёртв и вечен,
темнеет, в плечи голову вобрав.
Звезда дрожит, чуть слышно корни дышат,
и ржой веков горчит полынный сок.
Размах небес Писаньем млечным вышит -
о том, что мир и проклят, и высок...
И здесь, среди немерянного края,
его волшбой полночною дыша,
я лишь одно неодолимо знаю -
что вправду есть судьба и есть душа!
Коктебельская бухта
Не уставай, ещё прощаться рано,
ещё по веткам ярко-зелен гул.
Могучий сфинкс с лицом Максимильяна
в лазурь залива лапы окунул.
Услышь дыханье этой бухты плавной -
темны шипы на сфинксовом горбу,
но свет играет думой своенравной
на каменном высокородном лбу.
Стихи – роса... Едва ль напьётся птица.
Но есть магнитный неизбывный зов.
И если звёзды нам не дышат в лица,
откуда у Завета столько слов?
Останься, не стыдись – прощаться рано.
Кто слышит зов, тот чисто говорит...
Так зорок сфинкс, двойник Максимильяна, -
до римских львов, до львиных пирамид!
Как губы от любви, растрескался инжир...
Остров Эльба
Я все же воспарю над черепичной крышей,
как скучно б ни зевал тосканский городок.
Мой нынешний герой не менее, чем бывший, -
и в летчики игрок, и нА гору ходок.
Ведь здесь, на высоте, под стенкой цитадели,
как губы от любви, растрескался инжир.
Взлетают в небеса язычества качели,
и на куске скалы блаженствует сатир
с укутанной в пеньку зеленою бутылью…
сквозь явь мерцает миф, как сквозь стекло вино.
Не странно ли, что здесь столь полнокровной былью,
столь родственным глотком упиться мне дано?
Я все же усмехнусь тому, что остров Эльба
соцветьями пестрит, предзимний сибарит,
пока мой теплоход – не сесть ему на мель бы ! –
к твердыни, белый кит, причалить норовит.
От Медичи бойниц к приюту Бонапарта
по склонам рыжих гор – недолог пеший ход…
Скорпены силуэт – сей козырь, Эльбы карта –
коль дрогнет плавником, пожалуй, уплывет.
И плыть – всего-то ночь до Корсики скалистой,
где с воинских камней властителя лицо
дарует ту же весть, что жест Евангелиста,
что смуглого царя пророчество-кольцо…
Шелестят тополя, как живое зелёное знамя...
* * *
Оттого, что я жизнью пьянел до сердечного звона,
больше верного хлеба неверную волю любил,
отпусти мне грехи, тёмноликая матерь-икона,
и на доброе слово напутствуй толикою сил.
Оттого, что я кожею чуял прохладные травы,
в азиатском загуле глотая горячую соль,
ты не сыпь мне, судьба, на разбитые губы отравы
и молитву сложить на исконном наречье позволь.
И смиренье грешно и с собою всё муторней биться,
и утробным порокам уже не отыщешь начал.
Только, ветра вдохнув, продолжаешь и жить, и молиться,
и тянуться к Нему, Кто нас редкою мукой венчал…
Да вот будут ли впрок наши скорби, что издавна с нами?
Наша гибель-гульба и теперь – на свету, на миру…
Шелестят тополя, как живое зелёное знамя,
искупительно плещут на солнечном майском ветру.
* * *
Резвый котёнок хвостом материнским играет,
сфинксу подобная, мать восседает недвижно.
Май вызревает, каштаны соцветья вздымают,
тысячеруки, как Шива, воздушны, как Кришна.
Два котофея кайфуют на тёплом асфальте,
ближе к ступеням – дворняга сосцами лоснится.
Благость, умиротворённая нота Вивальди,
дядюшки Брэма, с цветною картинкой, страница.
Дышится. Схлынул народ на воскресные дачи.
Город пустынен: деревьев шатры да собаки,
бодрые галки седые – и вряд ли иначе
явят тебе небеса чадолюбия знаки.
Так и должно быть вслед зимней апатии долгой:
щедрая манна, настой тополиной теплыни.
Нимфа к сезону плечо освежила наколкой.
Нежится сфинкс у подъезда. Три дня благостыни.
Тень, что качнула вишневую рощицу...
* * *
Шмель на малине, на тополе горлица.
Старая хата застенчиво горбится.
В зелени двор.
Средь лебеды, лопуха, подорожника
да осенит меня, Отче, безбожника,
синий твой взор.
В этих краях бессловесно натруженных
не был я век на вечерях и ужинах. –
Дай же им днесь…
Выучил крепко иные законы я,
что же так просится в душу исконное,
цветшее здесь?
Что же щемит у предсердия прежнее –
солнечно-смуглое, зелено-нежное?
Боже, прости.
Нет их давно на земле скудно-ласковой,
тех, кто крестил меня травною сказкою –
глина в горсти.
Ты бы послал хоть на час своих ангелов –
ягод набрать из малиновых факелов
вместе со мной,
весть бы подать о чете моей суженой
из белооблачной жизни заслуженной
послеземной.
Ты бы простил мне печаль и томление,
это невзрослое стихотворение –
зова наив…
О, как по имени кликнуть мне хочется
тень, что качнула вишневую рощицу,
плач затаив…
Там, где Камоэнс одноглазый...
* * *
Там, где Камоэнс одноглазый
пион пурпурный ставит в вазу,
чтоб огранённое стекло
изломом света подчеркнуло
предчувствие сквозного гула,
лёд, выпивающий тепло,
там, где Сервантес сухорукий
над рыжею кормящей сукой
склоняет резкое лицо,
дабы кивнуть братве, сосущей
со чмоком млеко, – там идущий
взойти не должен на крыльцо.
Там блудным пасынкам прощенье –
куда докучливее мщенье,
чем глина и песок дорог.
Ты, вдалеке полынь и мяту
сыскавший, ни отцу, ни брату
и стебля подарить не смог.
Ибо назначенность ухода
к другим словам – есть смена года,
потеря месяца и дня
рожденья первого… И двери
захлопнуты, и в полной мере
заслужена епитимья.
И никогда не сыщешь света –
у чернокнижного поэта –
на белой плоскости листа.
Но там, в прохладах измеренья,
есть дрожь, зачатие движенья,
есть то, что – вовсе неспроста.
И никогда не будет сына
и на персте аквамарина
у самозванного гонца,
как этой ереси желанной,
губительной, самообманной,
нет ни начала, ни конца...
* * *
Красные вишни и рыжие лилии -
разгоряченное лето в разгаре!
Нотами воздух пропах в изобилии,
как древесина флотов Страдивари.
Сад мой зарос одичавшей малиною
и мелкоцветием сорной ромашки.
Множатся знаки, что праздник покину я -
не доиграв. Прихлебнув из баклажки...
Но в партитуре, что выткана птицами
на синеве полнозвучного лета,
светит ли - в паузе, фразе - продлиться мне?
Громкий вопрос. Не услышать ответа...
Кто принял вечность в дар...
МАРСЕЛЬ
Так вот, где сёстры-ласточки зимуют...
Так вот, где сёстры-ящерки пригрелись!
Я помню их на Северском Донце,
в песке прибрежном, в жарком чебреце...
А здесь - Прованс. Но те же блеск и ересь
в смарагдовом покрытии самцов,
достойном королевского покрова,
и та же скромность самок... Что, как снова
от виноградных прихлебнуть сосцов,
то бишь, от гроздей, - красного, к примеру,
хранящего традиции вина?
Со скал марсельских празднично видна
морская ширь. Мы вправе выпить в меру,
товарищ мой, скептически седой
учёный муж, с ухваткой морехода!
И выпьем, ибо ясная погода
стоит над бирюзовою водой
марсельской бухты. Над губой Вьюпорта,
над островом с тюремным замком Иф,
над всем, что есть волнисто-синий миф,
волнующий и Господа, и чёрта... -
Таков Марсель. Он хуже, чем Прованс,
его родивший. - Жёстче и разбойней.
Давным-давно, не погнушавшись бойней,
он взял и держит свой богатый шанс...
Но проку нет - стенать. Теперь с вершины,
я наплюю на дерзость грабежа,
ведь здешний урка не унёс ножа
заветного из взломанной машины...
А изумруд разбитого стекла
за триста франков выгребли с сиденья
ремонтники-арабы. Крепнет мненье,
что рана от разбоя зажила
или, по крайней мере, заживилась...
Итак, опять наверх, попутчик мой!
С вершинных глыб скалы береговой:
морского вида - необманна милость...
И вот, где сёстры-ящерки снуют,
где ко двору их юркие смарагды! -
Бойцовых стен свищи и катаракты,
травы и муравьёв подпольный труд...
Вот здесь и был зачат циклоп Марсель,
когда со скал прибрежных зыркнул эллин,
над гаванью, над зеленью расщелин
белейшую замыслив цитадель.
Простор, простор! - Босфор и Гибралтар
приотворю, как две калитки сада.
Глотнём вина! - Кто принял вечность в дар,
тот не умрёт от крови винограда.
Шуршит олива: "Средиземный сад" -
о средиземноморском побережье.
С её ветвей я брал елей и прежде
и синь черпал у тех и этих врат...
В пространстве брезжит отголосок нот -
прованских дев или гречанки Каллас.
Всё, что прошло, в оставшемся осталось.
И маяка циклоповидный фаллос
взбухает и любви от бухты ждёт...
Нас не предал лишь свет безымянный...
* * *
Борису Чичибабину
Доживём до весны, мой певучий возлюбленный старче!
Долетим до травы вопреки шелудивой зиме.
Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,
доживём. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.
Я вгляделся в упор в свой пропитый прокуренный город. -
И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намёк:
он - и духу плевок, он и брюху холопьему голод.
Счёт грехам он забыл, и ничто не идёт ему впрок...
Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой отчизны.
О как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!
А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны,
некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...
Подорожник - прохлада дождя на горячечной ране -
да по небу прочерченный птицей рифмованый след. -
Нас не предал лишь свет безымянный - на сломе, на грани.
А опоры иной не найти нам ещё триста лет.
Дотужим до весны - там щедрее, там больше дыханья
в голубом и зелёном, чем здесь в тараканьей тоске.
Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья
прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!
На поводках пузырей серебристых...
* * *
М.
Малыш-игрун, кузнечик легконогий,
вернись – скучаю по тебе всё крепче…
Нет, нет, побудь у берега, где боги –
добры, где тавры-дни – золотоплечи!
Где и твоим предплечьям хватит блага,
твоим лопаткам-крылышкам загара…
Чистым-чиста индиговая влага,
как бриллиант из книжки Буссенара.
И строгие мальчишеские брови,
до цвета льна на солнце выгорая,
тихи. Но время сдвинуто любовью
к тебе, к пространству с признаками рая.
* * *
Сине–пепельный жук в дымно-розовом пьян тамариске.
И светим, и неярок подёрнутый влагою май.
Акварели мазок, с побережья обрывок записки:
«Приезжай на неделю, у моря лачугу снимай».
Ещё жив старикан, отставной пехотинец и плотник.
И за тыщу-другую вконец измельчавших рублей
по стакану нальёт, про наяд напоёт, греховодник,
и сиреневый сумрак сгустится и станет теплей.
Заколышется воздух, повеет ночною волною.
Хлебосольной брехне и не верю – а и не сужу…
Встанет месяц над морем, над спелою крымской весною
и подарит касанье укрывшему нас шалашу.
А в четыре утра заорёт петушище хохлатый,
срамно гребнем тряся и на сонный взлетев кипарис…
Здесь, на склоне горы, так лучисты рассветные хаты,
и тропа к лукоморью так бодро торопится вниз!
Рапана Томасиана
Пурпура капля, полмира индиго –
моря и раковины интрига.
Полупрозрачна, нежна и желанна,
в донном песке затаилась рапана.
Соли наростов аляповато
скрыли в изнанке полоску заката,
скрыли живые извивы барокко
от водолазова хищного ока…
Лодка - ныряльщикам смуглым страховка.
Тенью подводной, скользящею ловко,
на поводках пузырей серебристых –
горизонтальные аквалангисты.
Я принимаю авоську с рапанами –
в море, назад, мелюзгу и с изъянами!
Верен обычаю, я агрессивнее
к тем, кто огромнее и красивее.
Пальцами рву из спирали моллюска –
небо, какому же Богу молюсь я?
Без интеллекта, зубов и пищалей,
глухонемым защищались пищаньем…
Пурпуром смертным в живот мне стреляли.
Солнце пылало в Эсхилловом зале –
там, где, обрызганный пурпуром дико,
некто качался на волнах индиго…
За мускулом зрачка...
* * *
И Шуберт на воде...
О.М.
И Моцарт чуял зов за рамкою клавира,
и Мандельштам летал над рощею стиха.
За мускулом зрачка - иная данность мира,
доподлинно жива и в паузах тиха.
Нездешний этот луч, небесный бег пунктира,
неуловимо быстр и ласково упрям,
искупит семь грехов скудеющего мира
и хаос освятит и вызлатит бедлам.
Ты прав, что прежде губ - уже родится лепет.
Какой-то новый век задуман впереди.
Мы не посмеем знать, кто наши ноздри лепит,
пока не подан знак -
извне и во плоти...
Сон о Иерусалиме
Прошу тебя: оставь мою печаль
Со мной. И охромевшую педаль
Стреляющего лаком пианино,
Похожего на черный катафалк,
Оставь. Земляне-губы бросят «фак!»
Летающей тарелке магазина.
Не нам решать. Оставь всё так, как есть,
Во мне, всё, что замедленная месть,
На нищенство умноженная честь,
Влила в меня из прежних генераций –
Из штофов синих, глиняных баклаг,
Из завещаний дьяков и бродяг,
Отцов без средств, актёров без оваций.
Оставь – я недоверчив и упрям.
Все ваши "здесь" – мне даже и не "там".
"Нигде, нигде!" – вот адрес необманный.
Опять сквозь сон я силюсь долететь
До места, чтоб в ладонях растереть
Полынный лист земли обетованной.
Горячей охрой обозначен склон.
Хрипучий сурик и лимонный крон –
Тысячелетней засухи работа.
И вновь разжарен добела зенит,
Присох язык, и в темени болит.
Но, помню, я хотел спросить про что-то…
О чем еще по-русски вопрошать? –
Кто виноват, как в сумраке рожать,
Как умирать в загаженном пространстве?..
Во рту наждак, и в черепе звенит,
Но я скажу: мы твёрже пирамид
В грехе тверёзом, в покаянном пьянстве.
Меж Городом и Масличной горой,
Свежа, как пиво чешское "Праздрой",
Кудрявится Кедронская долина.
И, если б от души воззвать "сим-сим!",
Шепнул бы в ухо Иерусалим:
"Продлим повествование, продлим.
Меж валуном вон тем и кедром сим,
Вот здесь, раскрыла рот Господня глина..."
Легко любя и ласточку, и змея...
* * *
Но я скажу: "Наивный пыл - не срам!"
Дай Бог, жила бы простота святая.
И я, тома премудрые листая,
за детский смех пречистый их отдам.
Я был стократ счастливее тогда,
легко любя и ласточку, и змея.
Но я вернуть ту радость не сумею,
затем и не кляну свои года.
Но выдумка, что жизнь есть некий путь,
мне кажется насмешкой и проказой...
И ты приснись мне, мальчик синеглазый,
ещё хотя бы раз. Когда-нибудь...
* * *
Это чьим разогретым вином
в цветнике назюзюкался гном –
львиный Карла, зевающий Чарльз,
ярко-рыжий, как бархатец-барс?
Гравитацией, честным судом
львиный замысел к смыслу ведом –
вдоль Ефрата, Донца, Дар-Дарьи…
Жилу русла и мне отвори!
Отвори, чтоб могла ещё течь
и сверкать краснопёрками речь,
чтоб вплывали в её камыши
Рем и Ромул, цари-голыши, –
золотистой корзинкой хлебов,
ранней спелостью яблочных лбов…
Помнишь, хоббиты, люди вершков,
налепили, набили горшков?
Но, не склеив числа из частей,
не оставили писем-вестей…
Помнишь, двое смеются в саду,
оба живы, в просторном году?
И петуньи рифмуют стишок,
чтобы мальчик подрос на вершок…
Помнишь? Стоит ли помнить про то,
как бугрится навырост пальто,
как фальшивое жалит число
и зеро усмехается зло?
Я на семь по привычке делюсь,
не цепляясь за минус и плюс.
Ибо тот, кто награбил частей,
носом ткнётся в реальность вестей,
в то, что целого мира ядро –
бесконечно мало, как зеро…
Львиным зевом зевает июль,
на дорожку выносят дер штуль,
чтоб артикли учить, падежи –
тет-а-тет, как большие мужи…
И чтоб отрок, сквозь аккузатив,
в сердце принял чуть слышный мотив,
шёпот крови, прасодию-суть:
„Не забудь и меня, не забудь…”
Завтрак
Июль - салат из крови помидора
и огуречной родниковой плоти.
Лиловый лук в язык вонзает шпоры,
и млеют пчёлы в медленном полёте.
И млеют липы от пчелиной ласки -
зачатья гул коре и лубу внятен...
Фаянсовая миска под завязку
заполнена смешением вкуснятин.
Чуть поверху присыпано укропом
и хрусткой солью - сладко и обильно,
И бабушка, и дед, и мальчик - скопом
над миской благоденствуют фамильной.
О,то июль, каких давно уж нету!
Алеют помидоры бычьей крови.
И смотрит дед на внука и на лето
добрейшим взором из-под грозной брови...
Иоанна. Николу. Петра...
* * *
Дорогим мертвецам наливаю я рюмку багряного,
к незабытым устам подношу поминанье вина.
Не случилось мне, дед мой, ни разу видать тебя пьяного,
но сегодня прошу тебя: выпей со мною до дна.
Неугасшим глазам соберу угощение краткое:
помидоры и хлеб – на двоих за дощатым столом,
средь осенних стволов, под кирпичной оранжевой кладкою –
у садового дома, что крепок ещё на излом.
Иоанн Иоанныч! Не выдохнуть гласных блаженнее,
не найти всенароднее имени и веселей.
Потемнел виноград – твоих саженцев-лоз продолжение,
фиолет «изабеллы» подмешан в воздушный елей.
Эти стебли, увившие стену, – по-прежнему сильные.
Я к ладони твоей потянусь и опять узнаю:
теплоносную линию жизни, наследье фамильное –
широченную руку отцову и лапу свою…
Сторона моя русая – правда моя погорелая!
Что и взять с тебя – водки пузырь иль костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот что от сердца я сделаю:
снова вспомню своих - Иоанна. Николу. Петра.
Квартал Сан Паули
Порядком в кухне, свежею едой,
речной прохладой веет ветер Ганзы,
И дни мои нестройной чередой
Уходят – поперек дороги Ганса.
Германским буком мне едва ли быть, –
Мой нрав попорчен ропотом осины.
И не постичь мне ни тевтона прыть,
Ни плавное коварство мандарина.
Сан Паули полночная свеча
Цветёт над блудом уличного бала,
Где чёрными синкопами рыча,
Лиловой пастью влажен зазывала,
Где муравьиной цепкостью вкраплён
В янтарь своей харчевни китаёза...
И нагл, и простодушен Вавилон,
И полон разноцветного наркоза.
Гуляет Гамбург, город городов.
Резвится оборотистая Ганза
И каждому от праведных трудов
Дарит шансон или обмылок шанса.
На Реппербане рдеют фонари.
Во тьме, под иероглифами ночи, –
В заботах от заката до зари
Прельстительниц искательные очи.
Почти не жаль срамной их красоты,
Их юности, пошедшей на продажу, –
Без трепета лилейные цветы
Несут на лицах синих мух поклажу.
Почти не грустно и на этот раз
Смиряться с перевёрнутостью мира.
Почём ночное солнце этих глаз?
О, не дороже ль венского клавира?..
Хмелеет Гамбург. Тёмною водой
Пахнёт свежо от гавани соседней. –
И дни мои нестройной чередой,
С обедом разминувшись и с обедней,
Отчалят от ганзейских берегов,
Чтоб никогда сюда не воротиться,
Где фанза Чанга и Мими альков
Дробят звериный лик больших веков
В неразличимо-крохотные лица…
Над Тибром
По летучим, но верным приметам
те декабрьские римские дни
я бы мог оживить – и портретом,
и пейзажем остались они
в поле зренья, в узоре скитанья,
где на склоне дождливого дня
нежно вытерт воздушною тканью
мертвый мрамор в прожилках огня.
Тесан кесарем камень колонны
и на хвойном поставлен холме
чтобы призраки-центурионы
длили верность чернявой зиме,
чтоб линейка платанов над Тибром,
над бурливой, зелёной водой, –
не прельстясь полумерком-верлибром,
окликала бы ритм молодой –
в бронзовеющем плаче Назона,
в серебре переборчивых струй...
Живо время с эпитетом «оно»!
И вдогонку ему озоруй,
пилигрим, копьеносец и бражник,
виноградарь весомых словес!
Век твой – шулер, твой хронос – сутяжник,
едкий, но мелкотравчатый бес...
А тяжёлые римские боги,
всадник-Марс и Юпитер-платан,
умостят доломитом дороги,
лёгким маслом пройдутся вдоль ран.
И напомнят, как время протяжно,
как соперники Ромул и Рем
из волчицы-кормилицы влажной
братство выпьют – навек, насовсем.
Эль кондор
Я - и здесь, у себя на ладони, и там, на плече
степняка-истукана, в полынной, до чресел, парче.
То ль я божья коровка на тыле десницы своей,
то ли пуля туза в белом теле семерки червей…
Лишь вина я едок, не игрок, будто Герман какой!
Да и то – по чуток, по полкапли, всего по одной,
по бутылке на нос, мой товарищ и сводный мой брат,
мой,в окружность вчеканенный твердо, упрямец-квадрат!
Перепончатый Хронос иль ворох архангельских крыл
на бумагу, на порох, на компас меня вдохновил?
Как милльонный китаец, на босу я ногу встаю –
под счастливый свой ранец, под грубую лямку свою.
Не в руке брадобрея, в шершавой родной пятерне,
жменю камешков грею, добытых тобой на Луне,
из Ланкастеров Армстронг, - любезнее, чем Ариост,
«Аполлоном» скользнувший меж алых и девственных роз…
Но о Новой Зеландии – нет, не совру, промолчу:
эти птицы моа великаньи мне не по плечу.
В ярко-красных наколках маори танцуют войну.
Но возьму я лишь песню «Эль кондор», другую, - одну!
Песню – плату за кротость и верность от хищных богов,
плавный плач коренастых детей ледовитых клыков –
синевато-зеленых, безмолвно властительных Анд…
Я хочу слышать «Кондора», инка, иной музыкант!
Ибо сам я - в своей маете, словно в шкуре твоей,
в медном золоте кожи навеки певучих детей.
Ибо вновь пред свирелью древесною остановлюсь,
ощущая засечку на сердце, ранение-плюс…
Наша жизнь, Мачу-Пикчу, подросток, и днесь не плоха:
остывают, на жертвенном камне дымясь, потроха,
но от жадных жрецов и от жертволюбивых богов
отлетают к нам звуки, священней даров-потрохов.
Воспаривший «Эль кондор» над Старой Вершиной завис,
где шаманят внизу лицемер-популист с вице-мисс.
Наша быль, Мачу-Пикчу, зажата в чужой пятерне,
и она же - парит над ущельем, над руслом на дне…
В человеческом детстве поет простодушно свирель.
Буду жить в кулаке восемь месяцев – кликать апрель.
И не все ли одно – твой ли «Кондор» восходит в зенит,
мой ли,- «степью да степью» глухой, - колокольчик звенит?
--------------------------------------------------------------------------------
Озёра и смоквы Заветных земель...
* * *
Итак, добираться мне до Феодосии -
лишь ночь, лишь чуток золотистого дня.
Там кровная мысль о двоюродном Осипе
так бодро под рёбра бодает меня!
Там облик египетский брезжит и слышится
непойманный цокот худых башмаков.
Развеяна гневная Максова ижица,
и свеж голубеющий плюш ишаков.
Привольно вдыхается нищее диво
земли загорелой, зелёной воды.
Овечьих холмов травяные наплывы
вдоль моря текут, вдоль солёной слюды.
Лоскутная известняковая Каффа!
Как щедро – всего-то полсуток пути,
чтоб в складках пиратского красного шарфа
листок со взъерошенной рифмой найти!
С щепоткою тмина, с корицею в мокко,
с угаданным клювом средь гущи на дне,
с такой молодою – не знающей срока -
пузырчатой радостью в жёлтом вине,
с рыбацкою лодкой, что, еле белея,
спешит, обгоняя кефаль и макрель, -
в край ладана, смирны, тоски и елея,
туда, где Эллада, Ливан, Галилея -
озёра и смоквы Заветных земель...
Амфора
Округла амфора с зерном,
речной песок белеет в трюме.
Как помогают волны думе,
как слажен парус с кораблём!
Гудит кедровая доска,
прогрета, солнечна, шершава.
Плыви! У мужества есть право -
солёный ветер у виска.
Наполни амфоры уста
оливковой, мускатной влагой.
Да осенит тебя отвагой
твоя моряцкая звезда.
Да станет амфоры сосуд
твоим надёжным талисманом -
в его обводе богоданном
слились гармония и труд.
Магнитна, женственна, светла
огнём обласканная глина,
а гулкой ноты сердцевина
сродняет с ней колокола.
И Одиссеево вино
под глиняной созреет кожей.
Платон – бесценен! Но дороже -
дорога, амфора, зерно!
Дед Андрей
Пудовую шишку атласского кедра
беру за трояк у добытчика-деда.
Хмельным усмехаясь, единственным, глазом,
товар разложил он у белой турбазы.
Как орден небесной атласной подушки,
изысканна тяжесть атласской игрушки.
Да как же ты взял поднебесную кассу,
налетчик замшелый, не трезвый ни разу?
Не делится Нельсон секретами фирмы,
то что-то мурлычет улыбчиво-мирно,
то снова про бабку-отраву бормочет
и смертью клянется, что нет уже мочи...
Ну что ж, прибралА она деда Андрея,
что сизой щетиной дразнил брадобрея.
Остались парЫ алкоголя и риска,
торговый пятак под свечой кипариса...
И в зимы страна золотистого дыма
приходит ко мне из далекого Крыма. –
О белая юность! Все пьет у турбазы -
июль на разлив твой пират одноглазый!
Заметки из библиотеки
1.
О, стеллажи из книг вдоль стен квартиры,
заполонённой холодом пространства,
огромной, перешедшей по наследству
к точильщику пера и летописцу
от пассажиров коммунальной лодки,
заложников казённого ночлега –
от прежних обитателей ковчега,
ушедших друг за другом в лучший мир, –
от душ, неусмирённых и доныне,
витающих туманом по углам…
За храм бумажный я немного дам,
за хлам, великозвучный и блаженный,
хоть и потратил на него полжизни,
а то и больше – это, как считать…
Дурная бесконечность книжных полок. –
Кто в с ё читал! Как можно в с ё читать?
Вот, верно, посмеялся бы Конфуций,
сконфузившись во весь огромный рост.
Но мой стеллаж, как ни был бы он прост,
по факту – мудреца Кун Цзы повыше.
Три метра вертикали ДСП,
оклеенной охристо-светлой плёнкой –
с намёком на орех или на клён,
с аллюзией на древесину бука…
Любовь слепа, опять глядит: а, ну-ка,
что там на сотне скопидомских полок?
Верней – не ошибёшься! – во двухстах
заветных нишах церкви катакомбной,
пропаще-бескорыстной, гибло-честной,
навеки чуждой – модам и тусне?..
Что изнутри нас держит, что извне?
По-прежнему ли в лампах фолиантов
шуршат намёки-мотыльки Вселенной?
Что под вуалью пыли суверенной
хранит фигурок-амулетов спам?
Полвека отдал я, и вновь отдам
за то, что вряд ли буквами опишешь… –
2.
Фарфоровый медведь, с московских игрищ
на память привезённый Миша-Вася,
сплошь олимпийской – в ДУлево! – глазурью
облит – от толстых пяток до ушей,
и пятикратно окольцован прытким
месье бароном Пьером Кубертеном,
чтоб золотистый сувенирный пояс
на чреве, добродушном и всеядном,
защёлкнулся на звонких пять колец…
Медведь-Иван – дурак, ан молодец!
И что за имя славное мелькнуло
на дне – цена: четыре рэ – медвежьем!
ДулЁво или ДУлево – неважно,
не в ударенье плавающем дело,
но в кукише священном – шишкин шиш! –
но в том, что явным признаком фамильным,
родным припевом „ДУлево-ДулЁво”,
сыны великодульского народа,
давно по праву мы назвать должны
свою одну шестую пайку суши,
помноженную на чумные сны
и на холерой сгубленные души…
3.
А если в отпеванье мало толку,
об этом знает, страж соседней полки,
другой фольклорный родич, братец-волк –
уральской тонко-каслинской отливки…
Молчит, лишь пьёт зрачками спелый диск
луны, зависшей над пейзажем снежным
простецкой трёхкопеечной открытки…
Картинку, впрочем, лихо пересёк
доподлинный автограф космонавта,
размашистый, вдоль всей диагонали,
что в оны годы авиатор Волков
мне раздобыл проездом через Звёздный
как редкий, но небескорыстный, дар –
в ответ на щедрость пересадки мозга
от моего стола к столу майора,
искателя полковничьих погон…
О, времена защиты диссертаций
в трескуче-ледяном пространстве войн!
А вот и фотоснимок из журнала,
где астронавты-янки в лунном море
на „ровере” печатают узоры,
мешая спать пришельцам с Андромеды
и Келдышам всех ящиков секретных…
Но вы, служаки истуканов медных,
сержанты караула – левой, правой! –
как смели загубить вы Королёва,
заклеить марлей твёрдо-властный рот?!
Ведь он, из гиблых вырвавшись мерзлот,
смел разбудить божественного плетью
ваш окаянный обречённый быт!
Он камень сдвинул, что весь век лежит
на пыльной восьмиклинке перекрёстка…
А вы его, прогульщики-подростки,
целители со ржавыми серпами,
латали – пятьдесят на пятьдесят…
4.
Однако, не пристало ли, медбрат,
сменить мне „вы” на „мы” в последней фразе?
И я ведь на болоте, в профсоюзе,
болиголовом цвёл и тину пил,
и лепту земноводную платил,
помпейского призыва комсомолец…
Что и спасло? – Кураж сквозных околиц
и неэвклидова генома честь.
В любом раскладе хромосома есть,
свой икс иль игрек, некой искры малость,
способная влиять на суть большого…
Вот здесь, над золоченьем Льва Толстого,
виниловый, в конверте жухлом, диск
стальной иглы, как дозы, ожидает,
чтоб, с белой грудью и во фрачной паре,
опять взыграл своеутробным басом
чалдон могучий, Штоколов Бориска, –
да так, как будто на вокальном горле
сжимает пальцы пресловутый рок,
который, дело ясное, жесток,
особо же – в очерченных широтах…
Во временнЫх волнах, в круговоротах
бельканто все стираются, старея,
быть может, кроме альта Амадея.
Добавить ли Карузо в этот ряд,
Орфея и Лучано из Модены?
Как ставленникам неба, а не сцены,
двум итальянцам я – признаюсь – рад!
Орфея же – не слышал, врать не буду.
5.
О хлама храм, сей сонник, взятый в ссуду!
Стихов простенок, словарей стена,
бумажный мост меж небылью и былью,
листы, тетрадки, сшивки, письмена…
Устали бронхи кашлять книжной пылью,
и здешней молью съедено пальто
вслед рыжему треуху из ондатры. –
Но этот всхлип нервический – ничто!
А сорока веков псалмы и мантры
и прислонённый к Ясперсу Платон –
вот неба переплеск и перезвон
над вязкою, косноязычной почвой!
Я в этой школе музыки – заочно,
мякинный переросток Филиппок,
за что мне будет белка и свисток,
а на орехи – так уж это точно!
Ещё – на россыпь милой чепухи,
ещё разок взгляну: за всякой дверцей,
попутчики скитальческого сердца,
вблизи подножий книжных переплётов,
чуть вздрагивают символы предметов,
добытые за тридевять земель:
то щепка судна, севшего на мель,
то раковина, то фрагмент сосуда –
ещё глоток Эона, капля чуда –
то голубень кораллов филиппинских,
а то обломка бронзы дребедень…
Встаёт большой и полноцветный день!
И эти снимки лиц, родных и присных,
парят в таких же разноцветных снах –
свидетельства о лучших временах,
оконца дней, молитвы в обрамленье…
Есть право – выжить в кораблекрушенье!
„И впрямь за всем, за этим, дышит план,
невнятный и простой, как океан:
за вдохом вдох, за валом вал – движенье.”
Где весь воздух навек золотой...
* * *
И.
А помнишь – в первый раз мы были в Херсонесе?
Не так уж и давно…
Всего-то тридцать лет
скользнули в небеса, сквознули в редколесье,
по зимним желобам скрипя, сошли на нет.
Недавно и давно… Ещё все живы были –
твои отец и мать. Мои.
И все тогда
друг друга, как могли – без пафоса – любили.
И каждый нёс свой фунт подспудного стыда.
Артель "Напрасный труд" благоухала резко
одеколоном "Шипр", копеечной едой.
И длинной речь была про куцые обрезки
под ряженной в кумач прожорливой звездой…
Но помнишь, как тогда над почвой-пеплом мыса
пружинила твоя июльская стопа?
Треть века унеслось, но цвет не изменился –
бела над синевой античная тропа.
Треть века истекло, но звук остался прежним.
Средь греческих руин алеет алыча.
Остался тем же зов – невыдуманно-нежным,
легчайшим, как загар любимого плеча…
ГОБЕЛЕН
Гоблин, вытканный на гобелене,
дышит грудью, совсем как живой,
но и Гамлет верней, чем на сцене,
держит облако над головой.
Голубь, нить прислюнив к гобелену,
упорхнет и вернется назад
в день, когда я, глотая измену,
извлеку кристаллический яд
из-за дверцы в скрипучем буфете…
Как сберёг я вещественность душ –
в рамках ткани сюжетные эти,
дуб резной и в проплешинах плющ?
Сам сберег, ибо знал, что в осадке
будет мало, почти ничего –
бледно-синих кристаллов остатки,
гобеленовых грешниц повадки
с эпилогом аббата Прево,
ярко-рыжие венчики лилий,
стебли длинные, ткущие зной,
и лишенных покоя фамилий
подземельный сквозняк вороной…
Но с утра – в прежней паре олени
там, в незыблемой комнате той,
где рогач, опустясь на колени,
воду пьет, где охранные тени
на семейном сошлись гобелене,
где весь воздух – навек золотой…
Валенсия
Так вот, где сёстры-ласточки зимуют!
Соборов валенсийских лепота,
белиссимо, прочтённое с листа,
влечёт их ввысь и в роздыхе ликует.
В Валенсии – семнадцать в декабре
волна и воздух. И накат негромкий
ласкает плоть белопесчаной кромки
в размеренно-ритмической игре.
Мои четыре с половиной дня
в цепи тысячелетней кавалькады –
не Бог весть что… И всё-таки не надо
из памяти вычёркивать меня,
Валенсия! – Теперь-то я могу,
твоею смуглой нежностью задетый,-
пусть не омегой, - альфою и бетой
на средиземноморском берегу
играть с тобой в слова, в воспоминанья,
в те изваянья Сына из песка,
которые ничейная рука
у моря оставляет в назиданье:
искусство – то, что будет жить без нас,
без имени и даже без корысти
ревнителя пера, резца и кисти,
наследуя лишь детскость певчих глаз…
И вот летуньи наши где снуют,
сбежав на юг, - в твоей закатной хмари,
Валенсия! – О легкокрылой твари,
о беженке, заботится приют
монастырей твоих и колоколен.
И здесь,- средь кротко-женственных дерев,
лимонных, апельсиновых, - я волен
взывать «Сестра-касатка!» нараспев.
И право, так мне легче узнавать
всё то, что в силе многоцветной снилось,
и поутру в гостинице «Лос Силос»
тяжёлый штоф на окнах раздвигать…
Здесь, через площадь, - колизей быка.
Без бритвенных пассажей матадора
зевнёт зима. Но в марте, в день мажора,
рванётся на арену чёрный торо,
чтоб гибель, - чья же? - в бисере декора,
была прилюдна и насквозь легка…
Отрывки дискуссии
Когда б зоила-юноши задор
ослаб, равно нервический и дерзкий,
я мог бы с ним продолжить разговор
на языке окраины имперской,
на сиплом «до» простуженных детей, –
не на «ля-ля» бредятины без брода,
плывущей вдоль эфирных новостей, –
на суржике шершавого народа –
большого чада жита и пшениц,
бастарда васильковых беззаконий, –
на сленге склонных к возлиянью лиц,
что после третьей «распрягають кОней»...
Я сам на них, на каждого, похож.
Ведь я сто лет – и нынешний, и местный,
а их молитвой в мою лапу нож
упрятан, оберег мой бессловесный, –
изделие совдеповских времён
с накладкой из пластмассы и латуни, –
зане в проулках жизни призван он
чуть снизить риск от здешних полнолуний...
Когда бы юниор свой сухостой
унял и поумерил выброс желчи,
я, может быть, припомнил бы о той
вечерней бухте на задворках Керчи,
где исполнялось мне 17 лет...
Июльский день кончался двадцать первый,
и ни одна собака слабый след
унюхать не могла. Ничей привет
меня не потревожил. Пикой, червой
бубнили из открытого окна,
где ужин шёл и цокотели вилки...
Я высосал токайского вина
высокую зелёную бутылку
в надменном одиночестве, во тьме
бродя вдоль Киммерийского Боспора,
и закусил сиротством, но в уме
бурлила взвесь с самим собою спора
о вечно ускользающих вещах,
неуловимых, меченных проклятьем...
С их метой возмужал я, не зачах,
лишь пару нот сподобясь подыграть им...
И за полвека я сложить сумел
с враждебностью и скукой обстоятельств
решимость – править путь сквозь хаос дел
вне всех об энтропии доказательств,
вне следствием надерганных улик
о слабостях чувствительной натуры,
вне безвременья низкопробных клик,
вне молодца-штыка и пули-дуры...
«Решимость – всё!» И умница Шекспир
брал на живца, не на актера в драме.
Засим я был готов сквозь странный мир
идти и быть частицей в панораме
уже тогда... Тем более теперь,
когда идти осталось вряд ли долго,
я обниму тебя, пространства зверь,
и поцелую в морду с чувством долга.
Сестрица-жизнь! В ночи твое лицо,
с ухмылкой нотрдамовой химеры,
знакомо, как колумбово яйцо...
Но утро снова дышит чувством меры.
И нет причины дальше не идти
без компаса, по солнцу – до упора,
дабы на самом финише пути
рассыпать той же смуты ассорти –
обрывки фраз с самим собою спора...
А объяснить кому-то, брат-зоил,
что был мне Зов, я, право, не надеюсь.
Канонам дней неверно я служил,
охотно уходя в ночную ересь,
которая казалась мне живей,
раскованней, доподлинней, вольнее...
Я страстных был и двойственных кровей
влюбляясь в плоть, нечасто ладил с нею...
Возьми же, скептик-век, мои слова –
кому еще я их оставить вправе?
Они нужны тебе едва-едва,
но, может быть, молочная трава
сумеет предъявить свои права
как некий корм коню на переправе?
Я до сих пор не выдохнул Боспор,
Камыш-Бурун – ту керченскую полночь,
где навсегда в крови моей раздор
разбередила быль, «краса и сволочь»,
где диковато-ловок был Тарзан,
не тронувший ещё запястья Дженни...
И впрямь, за всем за этим дышит план,
невнятный и простой, как океан:
за вдохом вдох, за валом вал – движенье…
Янгол огня
Слабый прячет от солнца глаза за стеклом кругло-чёрным.
Ну, а я заедаю свой день баклажаном перчёным,
запиваю вином — то «Медвежьею кровью», то «Бычьей» —
и блюду солнцелюбье свое, словно мести обычай.
И неделю до Спаса смолюсь на ракушке каленой,
ибо моет подошвы мне Понт, мой креститель исконный,
ибо был я в зубах истукана, в присосках у гнома,
но не предал ни речи коханой, ни кода-генома.
Ты попробуй сожри меня, местное время, без соли
и попробуй поймай меня на нестихающей боли!
Я ведь солнцем омыл и сердечную мышцу и жабры
и поставил шалаш над расщелиной абракадабры.
Я — из прежних, из тех, что в степи этой варварской жили
и в жемчужницу речи кремень-наконечник вложили.
Дорожает, звеня, золотая мембрана зенита,
крепнет янгол огня: «Все, кто выжил, —
с убитыми квиты...»
Чудо о Сатурне
Подсолнухи 21-го июля
А.К.
А ты ведь зорок, лицедей певучий!
И ты, нездешних денег казначей,
душою щедр, что, право, - редкий случай
средь теноров, актеров, рифмачей.
В моем стихе жил гладиолус-шпажник,
чей лепестковый, алый с белым, жест
хранил меня, когда буянил бражник,
июль, или хлестал январь, норд-вест.
А ты мне дал подсолнухи предместья -
от храбрых, от полуденных щедрот.
Цветы-язык, языческие вести
о том, что солнцу вслед круговорот
свершает мир, распахнутый столь ярко,
что впору - о, Винцент! - слететь с ума...
Спасибо - за угаданность подарка,
за радугу предметного письма,
за то, что ты меня, живого, любишь,
за абсолютный шестиструнный слух. -
Ни Китеж-град, ни казематный Куряж
не покачнутся, мой певучий друг,
от рифмы в окликании аккорда...
Но пой, прошу! Ведь в чистом поле есть
воителей-подсолнухов когорта,
гармонии архангельская весть!
Чудо о Сатурне
Сатурн привиделся зелёным -
с настольною на небе лампой...
Над клеверным волнистым склоном -
зелёные глазищи ламы.
Ещё причудился прохладным,
как утренняя речка летом.
Из глины высверкнули ладно
два зимородка над рассветом.
Ещё - его трава похожа
на школьный двор среди каникул,
где сонный пес, с простецкой рожей,
беззлобно на мальчишку цыкал...
И вот, среди июля, что ли,
пригреешься с лохматым дурнем. -
И пусто, солнечно, и воля,
и зелено, как на Сатурне!
Державинский и нежно недержавный...
Магдебургская песня
В осеннем ясном воздухе холодном
стучит трудолюбивый молоток,
германский совершенствуя чертог.
А нам – суконным, ватным, старомодным –
путь затруднён в калашный, здешний ряд…
«Калашников»-алкаш, царь-автомат,
изделие сорок седьмого года –
вот песнь смертолюбивого народа!
Вот стих на все пространства-времена!
Опять в тевтонском воздухе слышна
мелодия старательного скерцо –
не молкнет фрица честный молоток...
О, брат мой! Разве стал бы я жесток,
когда б не этот, в клочья, образок,
когда б не пуля – издали, под сердце?
* * *
А ситный и бревенчатый Тамбов,
державинский и нежно-недержавный,
мне стал ценою в семь иных томов
и в семь стихов сердечной рифмы плавной.
Туда забрел я в лютом феврале
и завязал ондатровые уши
своей ушанки, ибо день мелькнувший
сменила ночь на ледяной игле.
И я бродил там в полночь по снегам –
по колко-ломким, вороным и белым.
Патруль румяный с волкодавом смелым –
вот весь народ, что встретился мне там
на улицах. Студеная страна
меня с немой угрозой окружала,
но я той ночи ножевое жало
смягчил глотком пшеничного вина
в гостинице, где беженцы, лишенцы,
шалавы, погорельцы, окруженцы
бродили меж ободранных колонн.
Какой-то вечный погребальный звон,
какой-то запах гибели, эссенций
заполнил все четыре этажа,
ступеней винт с почившим в бозе лифтом.
Чечены оттопырившимся клифтом
мелькнули, не по-здешнему жужжа...
Но сон тот русский – водкой я запил
и вышел на трезвейший зимний воздух
в огромном просветленье. Редкий роздых
в моем самосознании царил.
И в трех шагах от скопища грехов,
по кручам Цны-реки заледенелой,
белела плоть церковных теремов,
беременная верой неумелой.
И были звезды слезно хороши
над храмом Богородицы Казанской.
Мы – волчьей крови, брат тамбовский, брянский...
Но в эту ночь, душа, нежней дыши!
Восточная кухня
В середине августа – жёлт инжир,
ибо лето красно, как рай-эдем.
С чебурека каплет горячий жир.
Торгаша зовут не Адам, а Эдем.
Это Крым – исламский по чресла край.
А чей выше чресел – не разберёшь.
Меж шурпой и водкою выбирай
и за всё плати окаянный грош.
Погощу сегодня, - в который раз,-
на плато Ай-Петри, Завет-горы,
где блюдёт Корана смолистый глаз
все шайтан-котлы да шашлык-шатры.
Всё бурлит, кипит,в оборот идёт,
то баран свежуется, то баклажан.
И несёт гяуру в зубастый рот
поднебесную пищу кормилец-хан.
В этой сочной-смачной далме-сарме,
в дымламе дымящейся, говорю,
не ищи коварства. В чалме-уме
только мысль – окуклиться к ноябрю,
чтоб, серятину-зиму в зелёный чай
пополам с лепёшкою обмакнув,
снова крымскую песню “начни-кончай”
затевать под майский сквозняк-наддув...
Но пока ещё – август, сезам-сезон,
поцелуй копилку, Эдем-баши,
и ножом, прямым, как прямой резон,
свой лиловый лук и чеснок кроши!
В Партенитской бухте, средь тесных стен
бабы Веры Павловны Чеботарь,
будет снится пир мне – без взятых в плен -
виноградных грядок узор-рефрен
и гостей скликающий, как Диоген,
хан Эдем с вершины, шашлычный царь...
Деревянные перила, деревянные террасы...
* * *
Деревянные перила, деревянные террасы,
деревянные ступени грустным голосом поют,
ибо время все бездушней - год от года, час от часа -
перемалывает в пепел перепончатый уют.
И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,
плыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлен.
В летнем коконе веранды, в древесине говорящей
перламутровою жилкой трепетал легчайший сон.
Были в сетке переплета разноцветны ромбы стекол,
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...
Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щелкал?
Чья беседа по овалу вкруг столешницы текла?
Кто там в платье светло-синем загорелыми руками
над фамильною посудой рано утром ворожил?
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...
Я один на свете вижу те сосновые ступени.
На веранде - капли воска, брызги битого стекла...
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,
и записка поминанья одинока и бела...
 © Все права защищены
© Все права защищены
Шмель
Не мешайте летать шмелю.
Я чреватость его люблю.
Он летает не по закону —
по наитию и во хмелю.
Под порогом, меж кирпичей,
в халабуде садовой ничьей
(ибо я там раз в год бываю)
он живет без всяких ключей.
Не мешайте любить шмелю.
Что за дело жучью-жулью,
с Баттерфляй ли толстяк флиртует,
с китаянкой ли Шао Лю?
Бочковатость его легка.
Шкура тигра — его бока.
Хоботок достает до донца,
до нежнейших глубин цветка.
Не мешайте гудеть шмелю.
Брат альтисту и скрипалю,
на медовой блюзовой ноте
чертит плавную он петлю.
И не я ему пел мадригал.
Лишь в апреле, когда он взлетал,
говорил я: «Сенсей, за зиму
ученик твой взрослее стал...»
Меж милостью и милостыней...
М.
Меж милостью и милостыней - зыбкий,
дряной на вкус и запах, воздух дней.
Но я живу теперь твоей улыбкой,
чья слабость и велит мне быть сильней.
Родной детёныш, агнец светло-русый!
Наследник мой, загадка ста колен...
Свой век, - то злой, то молчаливо-грустный, -
я претерплю. Мне ни к чему обмен
пространствами, а так же временами.
Добра и дара хватит мне и впредь.
Лишь меж землёй и небом, лишь меж нами
прошу тебя: "Не торопись взрослеть!"
Желания
Пионы на столе, бумаги, чашка чая.
Акация бела за утренним окном.
Я научился жить, почти не замечая
ученья своего, в существенно простом.
Я пережил алчбу младенческого века
и юношеский стыд врождённой нищеты.
Спасибо, что я днесь - не шут и не калека.
Желания мои - теперь вполне просты.
В тетради на столе - вечерних слов немного,
а новый день в окне - воздушный и большой!
Уже случилось так, так будет, слава Богу:
не надо ничего. Лишь то, что за душой!
Ещё любил я первое июля...
* * *
Ещё любил я первое июля,
Когда после дождя опять светло,
И солнце золотит в столовой стулья
И брызжет на гранёное стекло.
Как дышит рухлядь в этом доме старом –
Открытки, ноты, бастионы книг!
Всё шло к тому, чтоб тайно и задаром
Я некий мир из воздуха воздвиг.
А что ж ещё в бездомном певчем звуке?
Грудинных струй волнистая игра...
И ни на рубль скептической науки,
Ни на копейку прочного добра.
Слова о лете — обречённей лета.
Глотни вина, поозоруй чуток —
И ласкою предсмертного привета
Закончи рукописный завиток.
Иди же, ночь! Как ладен твой обычай,
Дружок-сверчок, игруля из игруль!
Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей,
И снова ждать рассветный лепет птичий:
"Июль-июнь, июль-июнь, июль..."
 © Все права защищены
© Все права защищены